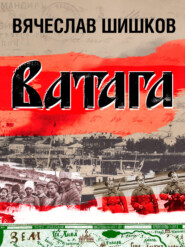По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Угрюм-река. Книга 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
10
Август перевалил за середину. Северное лето шло к концу. Вода сделалась холодной, отливала сталью. На осине и прибрежных тальниках появились блеклые листы; они трепетали при ветре, как крылья желтых птиц. Удивительно прозрачный воздух делал картину отчетливой, ясной. Издали можно было видеть, как рдеют под солнцем гроздья рябины и боярки. Тишина стала чуткой, жадной до звуков. Крик далекой иволги звучал почти рядом с Прохором, слышно было, как крадется лиса сквозь чащу. Четко плыли в ночи монотонные рыданья сов. А ружейный выстрел напоминал громовой раскат; он долго гудел и рассыпался по граням гористых берегов.
Угрюм-река все еще продолжала быть капризной, несговорчивой. В ее природе – нечто дикое, коварное. Вот приветливо улыбнется она, откроет меж зеленых берегов узкое прямое плесо: «Плывите, дорогие гости, добрый путь!» – и шитик, сверкая веслами, беспечально движется в заманчивую даль. Но вдруг, за поворотом, нежданно расширит свое русло, станет непроходимо мелкой, быстрой. Стремительный поток подхватывает шитик и с предательским треском сажает на мель. А вода, шумно перекатываясь по усеянному булыжниками дну, издевательски хохочет над путниками, как ловкий шулер над простоватым игроком. Тогда путники, раздевшись, долго с проклятиями бродят по холодной воде, меряют глубину, ворочают булыги, пока не отыщут ход.
И снова тихое, улыбчивое плесо, и снова ему на смену непроходимый перекат или порог. Так изо дня в день. Шиверы, пороги, перекаты, запечки, осередыши.
А время шло не останавливаясь. Парус у времени крепок, пути извечны, предел ему – беспредельный в пространстве океан.
Ибрагим от раздраженья пожелтел; он скрежетал зубами и ругался, а белки выпуклых его глаз в минуты гнева наливались желчью. Прохор обкладывал Фаркова мужичьей бранью, словно тот был виноват во всем.
Ну и река? Что это за река? Перекат на перекате! Глупая какая-то!.. Столько времени теряем…
– Река бедовая, свирепая… Уж Бог создал ее так, – спокойно говорит Фарков. – Она все равно как человеческая жизнь: поди поймай ее. Поэтому называется: Угрюм-река. Точь-в-точь как жизнь людская. Да.
Однажды, перед тем как пуститься в путь, Фарков сказал, кивнув на реку на лысую, стоявшую вблизи берега сопку:
– Извольте посмотреть… Вот мы от этой сопки, значит, поплывем, будем плыть весь день, а к ночи, ежели благополучно, опять к ней, только с другого бока.
– Зачем?
– А так уж, значит матушка-река протекла, – поспешно стал пояснять Фарков. – На пути три огромадных загогулины делает она, по-нашему – три мега. Напетляла она тут верст семьдесят с гаком, а ежели прямо сухопутьем – полторы версты.
Ибрагим покрутил головой и плюнул.
Прохор высадился на противоположном берегу и, отпустив шитик, направился таежной целиной к сопке.
Вот он на плоской, как стол, безлесной вершине. Какая высь! Перед ним сразу открылись неоглядные просторы.
Был ранний час. Восток окрасился зарею, из-под земли, из таежных дебрей вздымался нежными лучами свет. Лицо тайги, приподнятое к небу, было темно-зеленое, угрюмое – ночные тени еще не сползли с него. Тихо. Воздух не шелохнется. Прохор слышит, как тикают его часы. На душе его неспокойно. Там, внизу, в обществе Ибрагима и Фаркова, он за последнее время все чаще и чаще стал замечать в себе тревогу; он ощущал ее смутно, неопределенно, будто невнятный предостерегающий чей-то шепот, но в работе всегда забывал о ней. А вот здесь, сейчас, наедине с собою, открытый всем четырем ветрам, Прохор вновь узнал эту назойливую гостью; она резко постучала в дверь его души, она замутила его сердце каким-то гнетущим предчувствием. Ему вспомнился отец, вспомнилась мать, плачущая горько и благословляющая его в опасный путь большим благословением: «Прошенька, голубчик мой… Да сохранит тебя Господь». В то время Прохор – юное, неискушенное дитя – только улыбнулся. Теперь же был у него за плечами опыт: трудный пройденный путь сулил впереди бесконечные лишенья. Скоро они останутся вдвоем с черкесом среди безлюдной неизведанной реки, скоро пойдут по воде туманы, а там и снег, зима. Что делать? Может быть, назад? И вот лишь в этот миг юноша ясно и отчетливо уразумел кровную тревогу своей матери: «Прошенька… Да сохранит тебя Господь».
Прохор это вспомнил, перечувствовал, не раз вздохнул. Так неужели впереди погибель? И пало в мысль желание усердно помолиться, попросить у Бога милости: да пошлет ангела-покровителя, да сделает путь его счастливым. С благоговением опустился он на покрытые росой каменные плиты, припал лицом к земле. Он усиленно морщил лоб, вздыхал, стараясь вызвать слезы, но кто-то мешал ему сосредоточиться; он плохо слышал слова молитвы, которые шептали его губы. «Ангел мой святый, хранителю души и тела моего…» Да, да… Это она, это они мешают обе – Таня и прекрасная шаманка. Греховно улыбаются, влекут его к себе… «Хранителю мой святый, вся ми прости, елико согреших словом, делом, помышлением…» Однако молитва не помогла: в душе хандра, развал.
Но вот в его глаза ударил новорожденный свет. И обманные призраки враз исчезли. Прохор быстро вскочил и закричал громко, торжественно, от всего сердца:
– Солнышко! Солнышко!
Свежими лучами брызнуло солнце в молодую душу, смятенья как не бывало.
– Здравствуй, солнышко! – Прохор больше ничего не мог сказать, его губы прыгали. Он чувствовал в этих живительных лучах крепкого помощника, душа его наполнилась надеждой и уверенностью.
– Ты и черкес… Вас двое… Ничего не боюсь я… Солнышко!
Дыхание Прохора сделалось ровным, неторопливым, кровь в сердце успокоилась: он вытер слезы и долго любовался расстилавшимися перед ним далями.
Прохладным, еще не разогревшимся костром солнце медленно всплывало в бледном небе, пологие лучи его вяло блуждали по шапкам леса, покрывавшим склоны и вершины гор. И все, что никло в дреме головой, теперь раскрывало глаза, пробуждалось.
Проснулся воздух, свежие ветерки взвихрились над тайгой, шелковым шорохом прошумели хвои осанну лучезарному властителю земли, и – вновь тишина. Только слышатся хорьканье игривой белки и гордый клекот орла. Белка беспечно скачет с сучка на сучок, распустив свой пушистый хвост; вот она облюбовала шишку с орехами, – господи благослови! – поест сейчас. Но орлиные когти до самого сердца вонзились в теплый ужаснувшийся комок, и бисерные глаза зверька навек закрылись.
Прохор вскинул ружье, и – бах! – орлиная голова слетела с легких плеч, и владыка птиц камнем рухнул в пропасть. Рявкнул медведь в логу; он поднял оскаленную морду на прозвучавший выстрел и отхаркнулся кровью оленя, которого он только что задрал у холодного ключа. И началось, и началось… Кровь, трепет, смерть во славу жизни. Железный закон вступил в свои права.
А солнце движется своей чредой… Какое ему дело, что творится где-то там, в земном ничтожном мире. Равнодушное, без злой воли, радости и гнева, оно все жарче, все сильней разжигает свой костер.
Прохор медлил уходить. Для взора все теперь стало отчетливо и ярко. Сверкала Угрюм-река. Она казалась отсюда тихим извивным ручейком. «Что это чернеет на ней маленькой козявкой? Неужели шитик?»
Внизу, недалеко от подножья сопки, вьется тонкая струйка голубого дыма.
«Ага, тунгусское стойбище».
На ярко-зеленой, облитой солнцем поляне торчали тремя маленькими бурыми колпаками три остроконечных чума.
Прохор закурил папиросу и торопливо стал спускаться с сопки. Он много слышал от Фаркова об этих лесных людях – тунгусах, но ни разу не видал их вплотную. Прохору начали попадаться олени. Крепкие, красивые, с раскидистыми рогами, – шерсть лоснилась под солнцем, черные глаза блестели. А некоторые были облезлые, новая шерсть еще не отросла, они прихрамывали; на ногах, повыше копыт, гасились раны, в которых кишели белые черви.
– А-а, люча[2 - Люча – русский.], прибежаль русак! Здраста, бойе.
Мелкими шажками, приминая белый кудрявый мох, подходил к нему старик тунгус.
– Здраста! – проговорил он гортанным голосом и потряс протянутую руку Прохора. – Как попаль, бойе? Торговый, нет? Огненный вода есть, нет? Порох, дробь, цакар, чай? А? – Старик прищурил раскосые узенькие глаза и улыбнулся всем своим безволосым, в мелких морщинах, лицом.
– Айда! – махнул рукой тунгус, и они пошли. Тонкие стройные ноги старика в замшевых длинных унтах четко отбивали быстрые шаги.
– Куда, бойе, низ бежишь на шитике? – спросил тунгус, когда вышли на берег.
– В Крайск, старик, в Крайск. Доплывем? Тунгус удивленно посмотрел на него и потряс головой:
– Нет. Сдохнешь.
Прохор начал возражать, горячо заспорил, но тунгус стоял на своем:
– Совсем твоя дурак… Зима скоро… Шибко далеко, бойе. Боро-ни-и-и Бог!
В стойбище жили три семьи. Пылал огромный костер – гуливун, возле него суетились бабы, старые и молодые; они стряпали, варили в котлах мясо. Сухопарый тунгус в грязнейшей рубахе и с длинной черной, как у китайца, косой ссекал с мертвой оленьей головы рога. В стороне сидела жирная старуха с голой, неимоверно грязной грудью. Она скребла острым скребком растянутую оленью шкуру, выделывая из нее замшу – ровдугу. Возле нее стояло сплетенное из бересты и обмазанное глиной большое корыто, доверху наполненное прокисшей человеческой мочой, в которой дубилась кожа. Старуха все время что-то бурчала себе под нос толстым голосом и страшно потела от усилий.
– Э, бойе!.. Э!.. – Она не умела говорить по-русски, но Прохор понял, что она просит ружье. Глаза ее вспыхнули. Старик тунгус, все время не покидавший Прохора, сказал ему:
– Это мой баба… Шибко хорошо стреляет… медведя бил, самого амикана-батюшку… Шибко много… Борони-и-и бог! Вот слепился… Мало-мало кудой глаз стал…
Старуха вертела в руках ружье, прищелкивала языком, вскидывала на прицел: «бух-бу-х!» – и радовалась, как ребенок. Над небольшим костром у чума суетилась в работе молодая женщина. Ей жарко – солнце припекало не на шутку, – она по пояс нагая, только грудь кой-как прикрыта сизым халми[3 - Халми – кожаный нагрудник.], вышитым бисером и отороченным лисьим мехом.
В разговорах со стариком Прохор воровским взглядом ощупывал стройную фигуру женщины – от черных с синим отливом волос до маленьких босых, покрытых грязью ступней.
– Это мой дочка… – сказал старик. – Мужик сдох, околел маленько. Одна осталась. Больно худо… совсем худо. Мальчишку надо, а не рожает… – И голос старика стал грустным. – Я богатый: много олень, пушнина, да то, да се… Умру, кто хозяин? Ой, шибко мальчишку надо, внука. Вот останься, бойе, поживи мало-мало. Она шибко жарко обнимат, хе-хе-хе… Борони бог как! Рази кудой баба? А? Оставайся, любись. Родит мальчишку, уйдешь тогда…
Прохор сконфузился. Молодая вдова, видимо, понимала по-русски. Она кокетливо изогнула свой тонкий стан, отчего бисерный передник приподнялся, и украдкой улыбнулась Прохору.
– Какой тебе год? Двасать пьять будет? – спросил старик.
– Нет, семнадцать, – смутился Прохор.