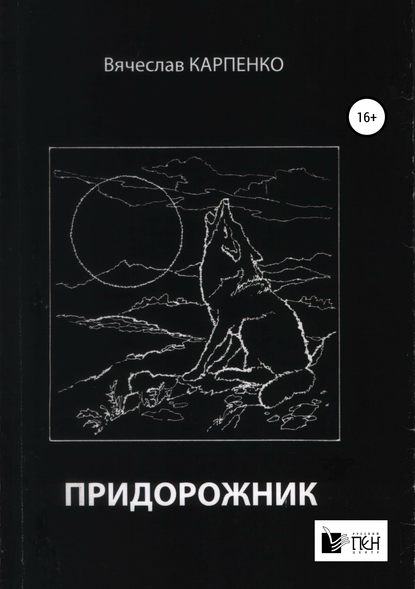По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Придорожник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И мы бегать начали, море винтом взбивать. Несколько суток бегали. То кругами, слышно только, как реверсы меняются – то малый, то средний, то стоп и назад. А то – как зарядим без остановки на самом полном, полсуток летим, только рулевые меняются да анекдоты знакомые обсасываются… Капитан, правда, из рубки даже поесть не выходит. Носимся, забыли, когда и сети сыпали. Нас, конечно, кэп через боцмана красить что-то там заставлял, судно мыть, а чего его мыть – и чешуйки рыбьей не сыщешь, да и не в порт же идем. Ну точно, старпом он закоренелый, этот Скребцов, куда ему с такой фамилией больше. Заавралит он нас водными да пожарными тревогами, хоть засохнет там у эхолота. Заавралит, а без рыбы – кому надо…
Потом вдруг заполночь – ни одного огонька вблизи, ни одного судна другого рядом не слышно – ударил звонок на выметку. Двигатель замолчал – в дрейф легли. Так, дрейфуя, и выметали сети. Да не сто-сто-двадцать, – все равно наутро пустыря тащить, так не пожалел же нас, зараза! – а все сто пятьдесят велел ставить. Хоть смех тот на нашем горбу скажется, но посмеемся над ним – завтра. Сегодня хоть ночного подъема по шлюпочной тревоге не будет – он нам еще, кажется, шлюпочной не устраивал!..
Не рассвело еще, а звонок задергался по кубрикам – ах, чтоб тебе… Чего он там еще придумал?! Одевались медленно, глаз не раскрывая: трещётка нас подняла, а разбудить не сумела. Шторма не ощущалось, как и вчера шла по морю длинная долгая волна – это было дыхание очень далекого шторма, но не сам шторм. Траулер медленно, сонно поднимало на пологий гребень протяжной волны, так же спокойно, будто осторожно, опускало. Неторопливо одеваясь, колебались – надевать ли робы резиновые, зюйдвестки. Или в ватниках достаточно выскочить да в сапоги налегке всунуться: отделаться и назад – в койки.
Только здесь бригадир влетает, очумелым голосом орет – буи, мол, притонули! А буи притонули – выбирать сети срочно, если не хочешь весь порядок потерять: рыба в сетях и не малая, от малой рыбы буи не притонут.
Надо ж, повезло кэпу. Случайно видно ночью косяк нагнало. Тут уж мы глаза продрали, заторопились: и портянки намотали, и робу натянули, и ножи шкерочные похватали – сколько ее ни будь, а резать-потрошить придется, не зима. В первый раз за рейс, неужели пофартило?..
А рыба шла. Сетка туго переваливалась через рол, свободные моряки уже начали ее резать. И погода – как на заказ. И чайки весело горланили над сетями, пророча еще большую рыбу. Чаек мы все любили, они сопровождали нас, куда-то улетая лишь к вечеру и рано утром появляясь снова в надежде на легкую добычу. Кажется, мы даже узнавали среди них знакомых, во всяком случае, сегодня их суматошные крики сулили удачу, и мы радовались этим крикам, и бросали за борт порезанных сетью селедок, и с удовольствием смотрели, как птицы целой гурьбой падали в воду – сегодня всем хватит!
В таком настроении нам не хватало лишь музыки, но маркони уже догадался и шарил в эфире. Эфирная разноголосица, которую он – случайно ли, нарочно – дал на транслятор, так точно вплелась в возбужденные крики чаек, в шорох шпиля, наматывающего вожак, в потрескивание рола и стук ножей на разделочном столе – так точно вплелась в наш ритм та эфирная разноголосица, что хотелось обнять весь этот мир зеленой колышущейся воды и голубого неба, обнять даже нового капитана, Скребцова того Валентина Степановича, пусть он и случайно напал на эту рыбу.
А рыба шла. И лилась музыка. И некогда уже было прикурить. И все, даже «дед», пришли на палубу шкерить рыбу, хохотать старой шутке и давать темп резки. Хотя кто же угонится из Витькой Сысоевым, бондарем, или за нашим «рыбкиным» Петровичем – они могли по сто пятьдесят голов в минуту резать, а потом бежать к своим бочкам, солить, забивать, откатывать. Никто за ними не успеет, а – стремятся, просто так стараются – из лихости и хорошего настроения. «Отец родной» Николай всех чаем обносит, почти в рот куски сует и не хочет на камбуз возвращаться, где ему в одиночестве обед готовить нужно. Даже у кэпа – везло б ему тысячу лет! – там, на крыле рубки, вроде лицо потеплело, или от солнца так кажется? А рыба все шла…
И всю наступившую ночь мы выбирали рыбу, останавливались и резали, и снова выбирали. И не обижались на подвалившую работу, хоть и тяжеленько то веселье доставалось – обедать и ужинать по очереди бегали. Но выбрали-таки все сети.
Забили трюма – семьдесят пять тонн за двое суток, еще и на палубе в брезенте тонны три недошкеренной рыбы оставалось, когда кэп через бригадира всех спать погнал. И то – большинство так не раздеваясь и упали… А траулер уже курс на базу взял. И кого там капитан покрепче нашел, чтобы у штурвала стоять?
Когда проснулись, к нам в кубрик маркони завернул. Новость удивительную принес, даже старик Петрович, рыбмастер, пришел послушать: капитан-то новый пеленг пашей рыбалки на весь флот передал, туда сейчас все суда бегут. Наш прежний кэп Трофимыч уж такое не отмочил бы – втихую сдал рыбу, да назад. Там второй груз, наверняка, взять можно… Н-да… С какого-такого богатства капитан уловом нашим разбрасывается?
– А что, – пожевал папиросу Петрович. – Может, его сермяжная правда здесь есть. Весь ведь флот в прогаре… не куркуль…
Витька же Сысоев выгнал нас на палубу: терзать свою гитару принялся многозначительно – «повезло, мол…»
Такой рыбы у нас в этом рейсе больше не было. Но и пустыря тоже не таскали, три-пять тонн почти постоянно брали. И не надрывались, и без работы не сидели. Теперь уж на подвахту только желающие приходили, но кто же откажется рыбу пошкерить в компании, когда на палубе солнце, когда чайки горланят, когда через музыку байка проскальзывает, когда – настроение, кто же откажется?
И вот этот день.
День, в общем, как другие. Только усталости чуть больше, чуть желаннее отдых – груз снова добирали, к походу на базу дело шло.
Резали не торопясь, музыка плыла медленная, чайки примелькались, к солнцу приленились – по пояс голые трудимся, июнь начался… Правда, маркони передал, что шторма ждут в нашем районе, но сейчас не страшно и несколько деньков шторма – отдохнем чуть от рыбы, да пока к базе сходим, утихнет. Летние штормы они недолгие. И вот этот день. Резали потихоньку, музыку маркони поймал медленную, чайки за рыбой у борта падали на воду неторопливо.
– Гля-ань-ка!.. – пропел Витька Сысоев.
Глянули: маркони с улыбкой на палубу вышел, что-то в руках держит.
– Эксперимент! – говорит.
И подбрасывает в воздух чайку, как он ее поймал только? Но чайка та уже не белая, и синевой снежной под солнцем и небом не отдает. Пестрая какая-то чайка, вся в красных, черных, зеленых до ядовитости пятнах и полосах, где он только краски добыл?
– Во-он зачем ему краски понадобились… «По-нем-ножку-у…», – протянул боцман.
А чайка, что маркони выпустил, – ее уж не потеряешь из виду, – испуганно пролетела в сторону, почти скрылась. Но тут же и назад вернулась. Туда, где ее сородичи над рыбой переругивались. Тоже – за рыбой, или просто к своим, кто ее узнает.
Только теперь не была она «своя»: сперва одна-другая, потом многие, а там уже и вся стая набросилась на пеструю чайку. Гомон недобрый, невеселый хрип они подняли, громкий и противный визг над траулером завихрился вместе с клубками птиц. И каждая стремится ударить разрисованную нашим маркони чайку. Только потому, что белых чаек было много, и они мешали друг другу, «эксперимент» не кончился сразу.
А она – пестрая птица-чайка – явно не понимала причины общей вспыхнувшей ненависти. Она металась от одной товарки к другой, может быть, среди них была и вовсе близкая, чайка металась, словно крича: «Да это же я!.. я! Почему вы не узнаете меня… За что?..» Или что там она еще кричала… кто узнает, но «эксперимент» кончился, и пестрокрылая чайка пропала.
Маркони улыбался, повеселил он нас славно.
Плыла медленная музыка, мелькали деловито белые чайки, сверкало солнце на рыбьей чешуе, сверкало повсюду.
– Мда-а… – протянул Петрович, рыбмастер.
– Во-он зачем краска, – шевелил губами боцман.
– Да-а, экс-пери-мент, – тихо и по складам выговорил Витька Сысоев, который ближе всех стоял к маркони и потому первым ударил весельчака.
Слабо ударил, тот не упал, только отлетел к лебедке и, схватившись за скулу, непонимающе уставился на нас. Мы отвернулись – надо было работать дальше.
Маркони ушел к себе. И щелчком прервалась музыка.
– Пойди к капитану, – сказал мне рыбмастер, распрямляясь над бочкой, которую он только что откатил, – Пойди к капитану, будь они хоть десять раз родственники. Пусть эта гнида идет на палубу и занимается делом. И пусть капитан отправляет его первой оказией. А то, не приведи боже, конечно, его с крыла первой волной смыть может… Так мы думаем, – Петрович обвел всех взглядом, он был самый старший на палубе, и он дольше всех ходил в море.
Я и сказал все это Скребцову Валентину Степанычу. Кроме волны, конечно, всё сказал. «Работайте…», – ответил он. Еще сказал, чтобы Петрович к нему зашел: «…Сысоев пока поработает за рыбмастера».
Говорить с маркони мне было трудно: он не понимал. Но в волну, судя по лицу, поверил. И на палубу вышел, и шкерочный нож взял, который ему бондарь бросил.
Нигде маркони не трогают в работу на палубе, его забота – связь постоянная, у них на судне своя работа нужная – людей радовать и меж собой соединять.
У этого кончилась такая работа. Взял он нож шкерочный, резать рыбу начал под тишину нашу. Но недолго резал – швырнул нож почти к ногам моим, убежал, зубами заскрипев.
А Петрович как раз от кэпа вернулся.
– Нормальный он человек, – сказал рыбмастер. – Поработаем еще. При мне дал радиограмму на базу о замене нашего… экспериментщика. Стучит сейчас свою отходную. Не повезло кэпу, конечно… подолгу мы на берегу не бываем, что ж поделать, судьба. Сына вот и упустил… мм-да-а… рейс. А туда же – «седьмая вода»…
Лежит теперь тот шкерочный нож у меня в столе, хоть и траулера нашего и в помине уж нет. Не очень и видный нож, весь потемнелый, источенный частой правкой.
И кажется, стоит его лизнуть, и теперь, наверное, ощутишь горечь соли.
4
«Ты только не злись на меня, но…
я устала. Так жить очень тяжело,
Устала! Я уезжаю от твоего моря,
Я больше не могу…»
(Из письма в море)
Море было спокойно. Насколько может быть спокойна Северная Атлантика в феврале. И шла рыба. У всех ныли руки и спины. В те несколько часов, что выпадали свободными в сутках, матросы спали крепко и без сновидений. А утром снова серебристый поток заливал палубу логгера, подвахта сменяла друга друга; только палубная команда – наскоро поев и выкурив по мятой, влажной то ли от воды, то ли от пота, сигарете – продолжала раскачиваться в такт судну, упираясь раставленными ногами в палубу; продолжала наваливать новые потоки сельди, катать бочки, майнать их в трюм. Была усталость. Но это усталость удовлетворенная, умиротворенная результатом, усталость от хорошей работы, ведь и шли за ней, за рыбой: рыба – план, заработок, гордость и подарки, отдых на берегу «на всю катушку»…
Шла рыба. Большая рыба.
Святослав, конечно, тоже радовался улову. Он обещал Марии с дочкой взять отпуск и слетать куда-нибудь на юг, заехать к ее родителям, которые не видели еще маленькой Наташки. Бросить море он не мог, как настаивала жена, – что он, боцман, будет делать на берегу? Море давало ему уверенность, да и привык он за эти пять лет. И к хорошим заработкам привык, и к тоске, которую давали рейсы: на берегу он ждал моря, в море – вспоминал берег. Разве может быть жизнь полнее этого…
Потом вдруг заполночь – ни одного огонька вблизи, ни одного судна другого рядом не слышно – ударил звонок на выметку. Двигатель замолчал – в дрейф легли. Так, дрейфуя, и выметали сети. Да не сто-сто-двадцать, – все равно наутро пустыря тащить, так не пожалел же нас, зараза! – а все сто пятьдесят велел ставить. Хоть смех тот на нашем горбу скажется, но посмеемся над ним – завтра. Сегодня хоть ночного подъема по шлюпочной тревоге не будет – он нам еще, кажется, шлюпочной не устраивал!..
Не рассвело еще, а звонок задергался по кубрикам – ах, чтоб тебе… Чего он там еще придумал?! Одевались медленно, глаз не раскрывая: трещётка нас подняла, а разбудить не сумела. Шторма не ощущалось, как и вчера шла по морю длинная долгая волна – это было дыхание очень далекого шторма, но не сам шторм. Траулер медленно, сонно поднимало на пологий гребень протяжной волны, так же спокойно, будто осторожно, опускало. Неторопливо одеваясь, колебались – надевать ли робы резиновые, зюйдвестки. Или в ватниках достаточно выскочить да в сапоги налегке всунуться: отделаться и назад – в койки.
Только здесь бригадир влетает, очумелым голосом орет – буи, мол, притонули! А буи притонули – выбирать сети срочно, если не хочешь весь порядок потерять: рыба в сетях и не малая, от малой рыбы буи не притонут.
Надо ж, повезло кэпу. Случайно видно ночью косяк нагнало. Тут уж мы глаза продрали, заторопились: и портянки намотали, и робу натянули, и ножи шкерочные похватали – сколько ее ни будь, а резать-потрошить придется, не зима. В первый раз за рейс, неужели пофартило?..
А рыба шла. Сетка туго переваливалась через рол, свободные моряки уже начали ее резать. И погода – как на заказ. И чайки весело горланили над сетями, пророча еще большую рыбу. Чаек мы все любили, они сопровождали нас, куда-то улетая лишь к вечеру и рано утром появляясь снова в надежде на легкую добычу. Кажется, мы даже узнавали среди них знакомых, во всяком случае, сегодня их суматошные крики сулили удачу, и мы радовались этим крикам, и бросали за борт порезанных сетью селедок, и с удовольствием смотрели, как птицы целой гурьбой падали в воду – сегодня всем хватит!
В таком настроении нам не хватало лишь музыки, но маркони уже догадался и шарил в эфире. Эфирная разноголосица, которую он – случайно ли, нарочно – дал на транслятор, так точно вплелась в возбужденные крики чаек, в шорох шпиля, наматывающего вожак, в потрескивание рола и стук ножей на разделочном столе – так точно вплелась в наш ритм та эфирная разноголосица, что хотелось обнять весь этот мир зеленой колышущейся воды и голубого неба, обнять даже нового капитана, Скребцова того Валентина Степановича, пусть он и случайно напал на эту рыбу.
А рыба шла. И лилась музыка. И некогда уже было прикурить. И все, даже «дед», пришли на палубу шкерить рыбу, хохотать старой шутке и давать темп резки. Хотя кто же угонится из Витькой Сысоевым, бондарем, или за нашим «рыбкиным» Петровичем – они могли по сто пятьдесят голов в минуту резать, а потом бежать к своим бочкам, солить, забивать, откатывать. Никто за ними не успеет, а – стремятся, просто так стараются – из лихости и хорошего настроения. «Отец родной» Николай всех чаем обносит, почти в рот куски сует и не хочет на камбуз возвращаться, где ему в одиночестве обед готовить нужно. Даже у кэпа – везло б ему тысячу лет! – там, на крыле рубки, вроде лицо потеплело, или от солнца так кажется? А рыба все шла…
И всю наступившую ночь мы выбирали рыбу, останавливались и резали, и снова выбирали. И не обижались на подвалившую работу, хоть и тяжеленько то веселье доставалось – обедать и ужинать по очереди бегали. Но выбрали-таки все сети.
Забили трюма – семьдесят пять тонн за двое суток, еще и на палубе в брезенте тонны три недошкеренной рыбы оставалось, когда кэп через бригадира всех спать погнал. И то – большинство так не раздеваясь и упали… А траулер уже курс на базу взял. И кого там капитан покрепче нашел, чтобы у штурвала стоять?
Когда проснулись, к нам в кубрик маркони завернул. Новость удивительную принес, даже старик Петрович, рыбмастер, пришел послушать: капитан-то новый пеленг пашей рыбалки на весь флот передал, туда сейчас все суда бегут. Наш прежний кэп Трофимыч уж такое не отмочил бы – втихую сдал рыбу, да назад. Там второй груз, наверняка, взять можно… Н-да… С какого-такого богатства капитан уловом нашим разбрасывается?
– А что, – пожевал папиросу Петрович. – Может, его сермяжная правда здесь есть. Весь ведь флот в прогаре… не куркуль…
Витька же Сысоев выгнал нас на палубу: терзать свою гитару принялся многозначительно – «повезло, мол…»
Такой рыбы у нас в этом рейсе больше не было. Но и пустыря тоже не таскали, три-пять тонн почти постоянно брали. И не надрывались, и без работы не сидели. Теперь уж на подвахту только желающие приходили, но кто же откажется рыбу пошкерить в компании, когда на палубе солнце, когда чайки горланят, когда через музыку байка проскальзывает, когда – настроение, кто же откажется?
И вот этот день.
День, в общем, как другие. Только усталости чуть больше, чуть желаннее отдых – груз снова добирали, к походу на базу дело шло.
Резали не торопясь, музыка плыла медленная, чайки примелькались, к солнцу приленились – по пояс голые трудимся, июнь начался… Правда, маркони передал, что шторма ждут в нашем районе, но сейчас не страшно и несколько деньков шторма – отдохнем чуть от рыбы, да пока к базе сходим, утихнет. Летние штормы они недолгие. И вот этот день. Резали потихоньку, музыку маркони поймал медленную, чайки за рыбой у борта падали на воду неторопливо.
– Гля-ань-ка!.. – пропел Витька Сысоев.
Глянули: маркони с улыбкой на палубу вышел, что-то в руках держит.
– Эксперимент! – говорит.
И подбрасывает в воздух чайку, как он ее поймал только? Но чайка та уже не белая, и синевой снежной под солнцем и небом не отдает. Пестрая какая-то чайка, вся в красных, черных, зеленых до ядовитости пятнах и полосах, где он только краски добыл?
– Во-он зачем ему краски понадобились… «По-нем-ножку-у…», – протянул боцман.
А чайка, что маркони выпустил, – ее уж не потеряешь из виду, – испуганно пролетела в сторону, почти скрылась. Но тут же и назад вернулась. Туда, где ее сородичи над рыбой переругивались. Тоже – за рыбой, или просто к своим, кто ее узнает.
Только теперь не была она «своя»: сперва одна-другая, потом многие, а там уже и вся стая набросилась на пеструю чайку. Гомон недобрый, невеселый хрип они подняли, громкий и противный визг над траулером завихрился вместе с клубками птиц. И каждая стремится ударить разрисованную нашим маркони чайку. Только потому, что белых чаек было много, и они мешали друг другу, «эксперимент» не кончился сразу.
А она – пестрая птица-чайка – явно не понимала причины общей вспыхнувшей ненависти. Она металась от одной товарки к другой, может быть, среди них была и вовсе близкая, чайка металась, словно крича: «Да это же я!.. я! Почему вы не узнаете меня… За что?..» Или что там она еще кричала… кто узнает, но «эксперимент» кончился, и пестрокрылая чайка пропала.
Маркони улыбался, повеселил он нас славно.
Плыла медленная музыка, мелькали деловито белые чайки, сверкало солнце на рыбьей чешуе, сверкало повсюду.
– Мда-а… – протянул Петрович, рыбмастер.
– Во-он зачем краска, – шевелил губами боцман.
– Да-а, экс-пери-мент, – тихо и по складам выговорил Витька Сысоев, который ближе всех стоял к маркони и потому первым ударил весельчака.
Слабо ударил, тот не упал, только отлетел к лебедке и, схватившись за скулу, непонимающе уставился на нас. Мы отвернулись – надо было работать дальше.
Маркони ушел к себе. И щелчком прервалась музыка.
– Пойди к капитану, – сказал мне рыбмастер, распрямляясь над бочкой, которую он только что откатил, – Пойди к капитану, будь они хоть десять раз родственники. Пусть эта гнида идет на палубу и занимается делом. И пусть капитан отправляет его первой оказией. А то, не приведи боже, конечно, его с крыла первой волной смыть может… Так мы думаем, – Петрович обвел всех взглядом, он был самый старший на палубе, и он дольше всех ходил в море.
Я и сказал все это Скребцову Валентину Степанычу. Кроме волны, конечно, всё сказал. «Работайте…», – ответил он. Еще сказал, чтобы Петрович к нему зашел: «…Сысоев пока поработает за рыбмастера».
Говорить с маркони мне было трудно: он не понимал. Но в волну, судя по лицу, поверил. И на палубу вышел, и шкерочный нож взял, который ему бондарь бросил.
Нигде маркони не трогают в работу на палубе, его забота – связь постоянная, у них на судне своя работа нужная – людей радовать и меж собой соединять.
У этого кончилась такая работа. Взял он нож шкерочный, резать рыбу начал под тишину нашу. Но недолго резал – швырнул нож почти к ногам моим, убежал, зубами заскрипев.
А Петрович как раз от кэпа вернулся.
– Нормальный он человек, – сказал рыбмастер. – Поработаем еще. При мне дал радиограмму на базу о замене нашего… экспериментщика. Стучит сейчас свою отходную. Не повезло кэпу, конечно… подолгу мы на берегу не бываем, что ж поделать, судьба. Сына вот и упустил… мм-да-а… рейс. А туда же – «седьмая вода»…
Лежит теперь тот шкерочный нож у меня в столе, хоть и траулера нашего и в помине уж нет. Не очень и видный нож, весь потемнелый, источенный частой правкой.
И кажется, стоит его лизнуть, и теперь, наверное, ощутишь горечь соли.
4
«Ты только не злись на меня, но…
я устала. Так жить очень тяжело,
Устала! Я уезжаю от твоего моря,
Я больше не могу…»
(Из письма в море)
Море было спокойно. Насколько может быть спокойна Северная Атлантика в феврале. И шла рыба. У всех ныли руки и спины. В те несколько часов, что выпадали свободными в сутках, матросы спали крепко и без сновидений. А утром снова серебристый поток заливал палубу логгера, подвахта сменяла друга друга; только палубная команда – наскоро поев и выкурив по мятой, влажной то ли от воды, то ли от пота, сигарете – продолжала раскачиваться в такт судну, упираясь раставленными ногами в палубу; продолжала наваливать новые потоки сельди, катать бочки, майнать их в трюм. Была усталость. Но это усталость удовлетворенная, умиротворенная результатом, усталость от хорошей работы, ведь и шли за ней, за рыбой: рыба – план, заработок, гордость и подарки, отдых на берегу «на всю катушку»…
Шла рыба. Большая рыба.
Святослав, конечно, тоже радовался улову. Он обещал Марии с дочкой взять отпуск и слетать куда-нибудь на юг, заехать к ее родителям, которые не видели еще маленькой Наташки. Бросить море он не мог, как настаивала жена, – что он, боцман, будет делать на берегу? Море давало ему уверенность, да и привык он за эти пять лет. И к хорошим заработкам привык, и к тоске, которую давали рейсы: на берегу он ждал моря, в море – вспоминал берег. Разве может быть жизнь полнее этого…