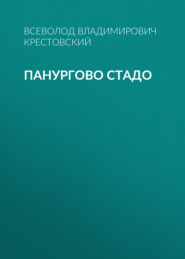По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Петербургские трущобы. Том 2
Серия
Год написания книги
1866
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Оставь его!.. Оставь, или я задушу тебя! – сцепив свои зубы и задыхаясь, прошипела девушка.
– Ну нет, задушить-то ты меня не задушишь, – спокойно возразил Летучий, пожирая ее пьяными глазами. – Для эфтово у вашей сестры руки из репы кроены, капустой подстеганы! А вот, поколева живу, отродясь не видал еще, чтобы баба ко мне эдак-то подлетела! Вот что правда, то правда! Ай да зверь-девка! Право, зверь!.. Люблю таких!.. Одначеж ты отселева отчаливай, потому неравно второпях зашибу, – прибавил он ей, снова обращаясь к Вересову с прежним намерением.
– Не тронь! – с силой вырвался отчаянный крик из груди Маши. – Клянусь, задушу! Слышишь!
И она с неестественной, нервной и неведомо откуда вдруг появившейся у нее силой опять схватила его за руки. Глаза ее грозно и зловеще сверкали из-под сдвинутых бровей.
– Ай, да и что ж это за девка! – в каком-то зверообразном довольстве воскликнул Лука, любуясь дикой красотой девушки. – Любо мне это, да и только!.. Слышь ты, зверь-девка, вот бы мне такую полюбовницу! Лихо!
– Палач!.. – с ненавистным омерзением бросила ему в лицо свое слово Маша.
Летучий вздрогнул и хмуро насупился.
– Палач? – повторил он медленно и тихо. – Ну нет, брат-девка, это ты врешь!.. Не говори ты мне, никогда не говори ты мне такого слова! Слышишь! Палачом Луку Летучего не обзывай!
Лука знал, что рано ли, поздно ли он попадется в палачовские лапы, и по естественной ненависти к ним, свойственной всей братии, считал это слово, примененное к самому себе, большим оскорблением, жестокой обидой и тяжелым укором. Оно его словно ножом резнуло по сердцу, сказанное с такой презрительной прямотой, в глазах огромной толпы, значительную часть которой человеческий поступок Маши заставил вдруг человеческими глазами взглянуть на это дело.
Но самолюбие Луки Летучего не позволяло ему оставить Вересова вследствие одного только слова и энергической воли какой-то шальной девчонки: «Пожалуй, подумают, что испугался». И в то же время он чувствовал, что после «палача» не годится мучить мальчонку. Луке нужно было с достоинством выйти из этого положения, и потому он тотчас же сметливо придумал исход, который мог польстить и его самолюбию, и его сластолюбивым инстинктам.
– Так вашему здоровью, стало быть, желательно-с, чтобы я его оставил? – с заигрывающей улыбкой обратился он к Маше.
– Ты его не тронешь больше! – твердо и решительно проговорила она.
– Не трону, коли на стачку пойдешь. Поцалуй, девка, Луку Летучего, тогда – вот тебе Бог! – не трону. – И он, выжидая поцелуя, стал перед ней, избоченясь.
Маша ответила одним лишь презрительным взглядом.
– Не хочешь? – медленно проговорил мучитель, сдвигая свои брови; положение становилось для него еще более затруднительным. – Не хочешь? Ну, так уж не пеняй! Держите-тка его, братцы!
И он снова взял руки Вересова.
Маша дикой кошкой бросилась на него, но Летучий одним легким движением локтя отбросил ее в сторону, так что она уж разом поняла всю невозможность меряться с этой силой.
Лука держал руки своей жертвы, но почему-то медлил приступать к новой пытке, а положение Вересова меж тем становилось все более и более критическим.
Несчастный бросил на Машу долгий, невыразимо страдающий и молящий взгляд, после которого тотчас же раздался его крик – Летучий начал свое дело.
Девушка уловила этот взгляд, столь много говорящий, и, заслышав новый вопль, с отчаянной тоской оглянулась вокруг себя, почти готовая упасть без чувств от потрясения, и вдруг – не успел еще замереть голос Вересова, как она уже стремительно бросилась к Летучему и, закрыв глаза, чтобы преодолеть отвращение, громко поцеловала его.
Тот, как зверь, охватил ее своими лапами и стал покрывать поцелуями все лицо бесчувственной Маши.
Чуха подоспела на помощь. С ругательствами и криком старая волчиха принялась отбивать от него девушку, и Лука Летучий через минуту опомнился: он хоть и был шибко хмелен, однако ж увидел и понял, что дело дошло до обморока.
– Тьфу!.. Это я словно мертвеца целовал! Ажно похолодела! – пробурчал он себе под нос и, передав Машу с рук на руки Чухе, мигнул своим приспешникам:
– Отпустите мальца! Будет с него!
Вересов был оставлен.
С помощью двух женщин старуха утащила девушку от посторонних глаз в маленький темный чулан, за перегородку, куда обыкновенно сваливают в Малиннике мебель, пострадавшую до окончательной негодности среди ночных оргий. Там ее раза два вспрыснули водой, потерли грудь да виски – и девушка очнулась.
– Где он?.. – спросила она, подымаясь на ноги. – Где он?.. Пустите меня к нему – они снова станут мучить его.
Чуха начала было уговаривать и успокаивать ее, но Маша ничего не хотела слушать и порывалась из чулана. Пришлось отвести ее в прежнюю комнату.
Вересов, оставленный Летучим, а вместе с тем и всей остальной толпой, долго еще не мог прийти в себя и стоял на прежнем месте, ошеломленный всем случившимся, не зная, куда из этой комнаты направиться к выходу, и в то же время страшась сделать шаг, из опасения подвергнуться опять каким-нибудь новым мучениям.
– Пойдем отсюда… Бога ради, пойдем отсюда! – стремительно проговорила Маша, подведенная к нему Чухой, и, без сопротивления взяв руку молодого человека, повела его вслед за собой.
– Вот девка так девка! Молодец девка!.. – одобрительно замечали некоторые личности, когда Маша, вместе с Чухой и Вересовым, проходила малинникские комнаты.
А в это время в большой зале опять уже вокруг Летучего кучилась большая толпа, и опять бренчал торбан, и звенели ложки, и певцы отхватывали «величальную» в честь этого героя:
Ах, и кто же тароват у нас?
Тароват да свет Лука Лукич!
Он со гривенки на гривенку ступал,
Он полтиною вороты припирал,
По пяти рублев в окошечко кидал.
И Лука Лукич при этих последних словах величальной песни снова швырнул в толпу направо и налево две горсти серебряной мелочи и медяков, а сам, поднявшись с места, начал с сановитой повадкой, и подтопывая, и помахивая развернутым фуляровым платком, плясовым ходом похаживать по кругу и вдруг лихо гаркнул, вместе с певцами:
Ах вы, Сашки, канашки мои!
Р-р-разменяйте-д мне бумажки мои,
Вы бумажки мне новенькие-да
Двадцатипятирублевенькие!
И при этом снова несколько скомканных ассигнаций полетело в толпу, где давно уже шла из-за этих грошей великая свалка и драка.
Трое малинникских беглецов вышли на площадь, откуда было слышно, как гудел и неистовствовал весь этот Малинник.
Чуха бережно поддерживала трепещущую Машу, которую теперь благодетельно освежила и придала новой бодрости струя свежего воздуха.
– Спасибо… Это второй раз… Второй раз вы меня выручили… спасли… – бессвязно проговорил ей глубоко потрясенный Вересов, удерживая в груди тяжелое рыдание. – Я… никогда, никогда не забуду… Спасибо!
Маша протянула ему руку, и они молча простились одним крепким горячим пожатием.
– Хорошо, что ты привела меня сюда. Я рада… – с чувством промолвила девушка своей спутнице, когда они одни переходили площадь по направлению к Вяземскому дому.
– Да, без тебя-то он, пожалуй бы, так не отделался, – с тяжелым вздохом и мрачным лицом проговорила старуха. – Они бы его, пожалуй, и насмерть забили.
– Насмерть? – с удивленным ужасом, широко раскрыла Маша свои глаза.
– Насмерть, – подтвердила спутница. – В наших хороших местах это случается: убьют невзначай человека, в драке там, что ль, или как, нахлобучат на мертвого шапку да словно пьяного и потащат вдвоем или втроем, под руки, к Фонтанке, а там внизу у спуска и в воду – поминай как звали! Они на это молодцы у нас.
Вересов остался один на распутье.
«Нет, воля хороша сытым… голодному воля – смерть, – решил он сам собой. – Тюрьма лучше… лучше, чем такая воля!.. Пойду к следственному, сейчас же пойду – чего тут ждать еще? Попрошусь снова в Литовский замок… Пока, в части, в арестантской, дадут ночлег, а может… может и хлеба там себе выпрошу…»