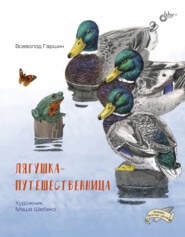По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Красный цветок (сборник)
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Кулак! – отрезал он. – Прощайте, однако, пора спать.
Я сделал ему под козырек и побрел к своей палатке. Мне было и больно и противно.
В палатке, казалось, уже все спали; но минуты через две после того, как я лег, Федоров, спавший рядом со мною, тихо спросил:
– Михайлыч, спите?
– Нет, не сплю.
– С Венцелем ходили?
– С ним самым.
– Что ж он с вами как? Смирный?
– Ничего, смирный, даже любезен.
– Ишь ты ведь! Что значит свой брат барин! Не то, что с нами.
– А что? Разве очень сердит?
– И-и-и… беда! Трещат скулы во второй стрелковой. Зверь!
И он сейчас же уснул, так что в ответ на мой следующий вопрос я услышал только его ровное и спокойное дыхание. Я завернулся в шинель; в голове все спуталось и исчезло в крепком сне.
III
За дождями наступили жары. Около этого времени мы вышли с проселка, где ноги вязли в расползавшейся почве, на большое шоссе, ведущее из Ясс в Бухарест. Первый наш переход по шоссе, от Текуча к Берладу, навсегда останется в памяти сделавших его. Было тридцать пять градусов в тени; переход был сорок восемь верст. Было тихо; мелкая известковая пыль, подымаемая тысячами ног, стояла над шоссе; она лезла в нос и рот, пудрила волосы, так что нельзя было разобрать их цвета; смешанная с потом, она покрыла все лица грязью и превратила всех в негров. Почему-то мы шли тогда не в рубахах, а в мундирах. Солнце нагревало черное сукно, невыносимо пекло головы сквозь черные кепи; ноги чувствовали сквозь подошву раскаленный щебень шоссе. Люди задыхались. На беду, колодцы были редки, и в большей части их было так мало воды, что голова нашей колонны (шла целая дивизия) вычерпывала всю воду, и нам, после страшной давки и толкотни у колодцев, доставалась только глинистая жидкость, скорее грязь, чем вода. Когда не хватало и ее, люди падали. В этот день в одном нашем батальоне упало на дороге около девяноста человек. Трое умерло от солнечного удара.
Я выносил эту пытку сравнительно с другими легко. Может быть, потому, что наш полк был набран большею частью из северян, а я с детства привык к степным жарам; а может быть, тут действовала и иная причина. Мне случалось заметить, что простые солдаты вообще принимают физические страдания ближе к сердцу, чем солдаты из так называемых привилегированных классов (говорю только о тех, кто пошел на войну по собственному желанию). Для них, простых солдат, физические беды были настоящим горем, способным наводить тоску и вообще мучить душу. Те же люди, которые шли на войну сознательно, хотя физически страдали, конечно, не меньше, а больше солдат из простых людей, – вследствие изнеженного воспитания, сравнительной телесной слабости и проч., – но душевно были спокойнее. Душевный мир их не мог быть нарушен избитыми в кровь ногами, невыносимым жаром и смертельною усталостью. Никогда не было во мне такого полного душевного спокойствия, мира с самим собой и кроткого отношения к жизни, как тогда, когда я испытывал эти невзгоды и шел под пули убивать людей. Дико и странно может показаться все это, но я пишу одну правду.
Как бы то ни было, когда другие падали на дороге, я все-таки еще помнил себя. В Текуче я запасся огромною тыквенного кубышкою, в которую входило, по крайней мере, бутылки четыре. Дорогой мне пришлось не раз наполнять ее водой; половину этой воды я выливал в себя, другую раздавал соседям. Идет человек, перемогается, но жара берет свое: ноги начинают подгибаться, тело качается, как у пьяного; сквозь слой грязи и пыли видно, как багровеет лицо; рука судорожно стискивает винтовку. Глоток воды оживляет его на несколько минут, но в конце концов человек без памяти валится на пыльную и жесткую дорогу. «Дневальный!» – кричат хриплые голоса. Обязанности дневального – оттащить упавшего в сторону и помочь ему; но и сам дневальный почти в таком же состоянии. Канавы по сторонам шоссе усеяны лежащими людьми… Федоров и Житков идут рядом со мною и хотя видимо страдают, но крепятся. Жара произвела на них действие сообразно с их характерами, но только в обратную сторону: Федоров молчит и только иногда тяжело вздыхает, жалобно посматривает своими прекрасными, а теперь воспаленными от пыли глазами; дядя Житков ругается и резонерствует.
– Ишь, валится… Штыком заденешь, че-ерт! – сердито кричит он, отклоняясь от штыка упавшего солдата, который чуть не попал ему острием в глаз. – Господи! Царица Небесная! За что ты на нас посылаешь? Кабы не живодер этот, и сам бы, кажись, упал.
– Кто живодер, дядя? – спрашиваю я.
– Немцев, штабс-капитан. Нонче он дежурный; сзади идет. Лучше идти, а то так отработает… Места живого не оставит.
Я знал уже, что солдаты переделали фамилию «Венцель» в «Немцев». Выходило и похоже и по-русски.
Я вышел из рядов. В сторонке от шоссе идти было немного легче: не было такой пыли и толкотни. Сторонкой шли многие: в этот несчастный день никто не заботился о сохранении правильного строя. Понемногу я отстал от своей роты и очутился в хвосте колонны.
Венцель, измученный, задыхающийся, но возбужденный, догнал меня.
– Каково? – спросил он осипшим голосом. – Пройдемтесь стороною. Я совершенно измучен.
– Хотите воды?
Он жадно выпил несколько больших глотков из моей кубышки.
– Благодарю. Легче стало. Ну, денек!
Несколько времени мы шли рядом молча.
– Кстати, – сказал он, – вы так и не перебрались к Ивану Платонычу?
– Нет, не перебрался.
– Глупо. Извините за откровенность. До свиданья; мне надо в хвост колонны. Что-то уж очень много этих нежных созданий падает.
Пройдя несколько шагов и повернув голову назад, я увидел, что Венцель наклонился над упавшим солдатом и тащит его за плечо.
– Вставай, каналья! Вставай!
Я не узнал своего образованного собеседника. Он сыпал грубыми ругательствами без перерыва. Солдат был почти без чувств, но открыл глаза и с безнадежным выражением смотрел на взбешенного офицера. Губы его шептали что-то.
– Вставай! Сейчас же вставай! А! Ты не хочешь? Так вот тебе, вот тебе, вот тебе!
Венцель схватил свою саблю и начал наносить ее железными ножнами удар за ударом по измученным ранцем и ружьем плечам несчастного. Я не выдержал и подошел к нему.
– Петр Николаевич!
– Вставай!.. – Рука с саблею еще раз поднялась для удара. Я успел крепко схватить ее.
– Бога ради, Петр Николаевич, оставьте его!
Он обернул ко мне разъяренное лицо. С выкатившимися глазами и с судорожно искривленным ртом, он был страшен. Резким движением он вырвал свою руку из моей. Я думал, что он разразится на меня грозой за мою дерзость (схватить офицера за руку действительно было крупной дерзостью), но он сдержал себя.
– Слушайте, Иванов, не делайте этого никогда! Если б на моем месте был какой-нибудь бурбон, вроде Щурова или Тимофеева, вы бы дорого заплатили за вашу шутку. Вы должны помнить, что вы рядовой и что вас за подобные вещи могут без дальних слов расстрелять!
– Все равно. Я не мог видеть и не вступиться.
– Это делает честь вашим нежным чувствам. Но прилагаете вы их не в то место. Разве можно иначе с этими… (Его лицо выразило презрение, даже больше, какую-то ненависть.) Из этих десятков свалившихся, как бабы, может быть, только несколько человек действительно изнемогли. Я делаю это не из жестокости – во мне ее нет. Нужно поддерживать спайку, дисциплину. Если б с ними можно было говорить, я бы действовал словом. Слово для них – ничто. Они чувствуют только физическую боль.
Я не дослушал его и пустился догонять свою уже далеко ушедшую роту. Я догнал Федорова и Житкова, когда наш батальон свели с шоссе на поле и скомандовали остановиться.
– Что это вы, Михайлыч, с штабс-капитаном Венцелем говорили? – спросил Федоров, когда я в изнеможении упал возле него, едва успев поставить ружье.
– Говорил! – пробурчал Житков. – Нешто так говорят? Он его за руку схватил. Эх, барин Иванов, берегитесь Немцева, не смотрите, что он разговаривать с вами охоч, пропадете вы с ним ни за денежку!
IV
Поздно вечером мы добрались до Фокшан, прошли через неосвещенный безмолвный и пыльный городок и вышли куда-то в поле. Не было видно ни зги, кое-как поставили батальоны, и измученные люди уснули как убитые; никто почти не захотел есть приготовленного «обеда». Солдатская еда всегда «обед», случится ли она ранним утром, днем или ночью. Целую ночь подтягивались отсталые. На заре мы опять выступили, утешаясь тем, что через переход будет дневка.
Снова движущиеся ряды; снова ранец давит онемевшие плечи, снова болят истертые и налившиеся кровью ноги. Но первые десять верст почти ничего не сознаешь. Короткий сон не может уничтожить усталости вчерашнего дня, и люди шагают совсем сонные. Мне случалось спать на ходу до такой степени крепко, что, остановившись на привале, я не верил, что мы уже прошли десять верст, и не помнил ни одного места из пройденного пути. Только когда перед привалом колонны начинают подтягиваться и перестраиваться для остановки, просыпаешься и с радостью думаешь о целом часе отдыха, когда можно развьючиться, вскипятить воду в котелке и полежать на свободе, попивая горячий чай. Как только ружья поставлены и ранцы сняты, большая часть людей принимается собирать топливо – почти всегда сухие стебли прошлогодней кукурузы. В землю втыкаются два штыка; на них кладется шомпол, а на него вешаются два или три котелка. Сухие рыхлые стебли горят ясно и весело; раскладывают их всегда с надветренной стороны; пламя лижет закопченные котелки, и через десять минут вода бьет ключом. Чай бросали прямо в кипяток и давали ему вывариться: получалась крепкая, почти черная жидкость, которую пили большею частью без сахара, так как казна, выдававшая очень много чая (его даже курили, когда не хватало табаку), давала очень мало сахара, и пили в огромном количестве. Котелок, в который входило семь стаканов, составляет обыкновенную порцию для одного.
Может быть, странным покажется, что я так распространяюсь о мелочах. Но солдатская походная жизнь так тяжела, в ней столько лишений и мучений, впереди так мало надежды на хороший исход, что и какой-нибудь чай или тому подобная маленькая роскошь составляли огромную радость. Нужно было видеть, с какими серьезными и довольными лицами загорелые, грубые и суровые солдаты, молодые и старые, – правда, старше сорока лет между нами почти не было, – точно дети, подкладывали под котелки палочки и стебельки, поправляли огонь и советовали друг другу: