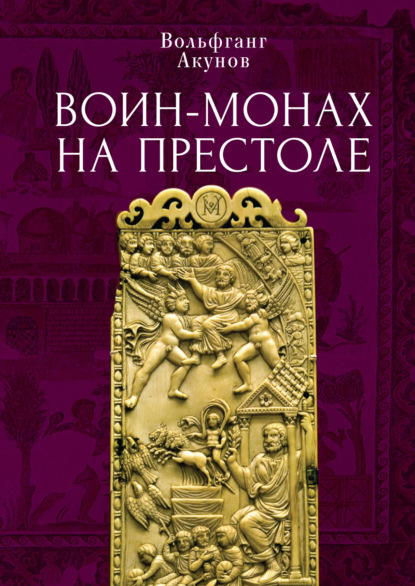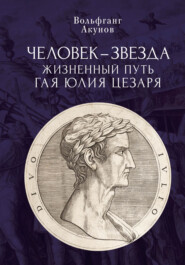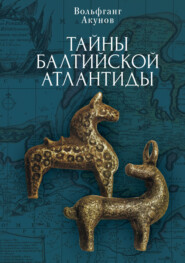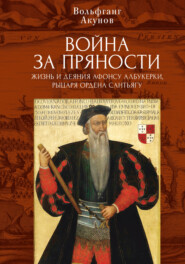По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воин-монах на престоле
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однако, несмотря на все угрозы, исходившие для правоверия («православия» сказать нельзя, ведь Юлиан рос и воспитывался с юных лет не в православном, а в арианском, то есть, как нам с уважаемым читателем уже известно, еретическом, хотя и христианском, окружении!) царственного юноши от его страстной одержимости всем греческим и от его склонности вникать в запретные духовные сферы, будущий Отступник в этот, первый, начальный, период своей юности, проявлял (по крайней мере – внешне) вполне искреннее христианское благочестие и религиозное рвение. Полученные им в указанный период впечатления продолжали находить свое отражение в его позднейших сочинениях, свидетельствуя о глубине наблюдений, сделанных Юлианом при его введении в вероисповедные таинства душеспасительного христианского учения.
Глава пятая
Наставление в вере[56 - Наставление в вере – процесс передачи знаний о Боге, опыта Бого-познания и Богообщения, хранимых в Церковном Предании; содействие развитию навыка Богообщения.]
Провозглашенная равноапостольным царем Константином I толерантность, сиречь (религиозная) терпимость, устранила все препятствия, стоявшие на пути победного шествия и распространения христианства не только в пределах Римской «мировой» империи, но и далеко за ее пределами. Наконец-то Христова церковь оказалась в состоянии в полной мере использовать притягательную силу своих празднеств, торжественно отмечая их не под покровом темноты, в подземных убежищах (от чего, если верить церковной истории патриарха Иерусалимского Досифея, и пошел обычай христиан зажигать светильники во время богослужения), как прежде, в пору гонений, а безбоязненно, при ярком свете дня. Размеры христианских базилик заметно увеличились, их число многократно возросло. С целью привлечения язычников литургии придавались новые формы, с учетом языческих обычаев, привычек и склонностей. Очень скоро церемониал церковных праздников стал превосходить своим блеском и своей пышностью прежние, дохристианские культы. И в то же время церковный культ «галилеян» не отвращал своими формами от церкви даже самые тонко чувствующие души. Не вызывая более сомнений, церковь сумела привлечь к себе как высший, образованный слой, так и широкие, необразованные массы населения. Она апеллировала к самым благородным побуждениям души, указывала и открывала без разбора всем, большим и малым, общий для них всех путь к спасению, аналогичного которому не смог бы найти и указать в рамках древних религий даже самый фанатичный апологет язычества.
В целях повышения привлекательности и прелести молитвы, церковь успешно сочетала ее с самыми разными средствами воздействия на чувства прихожан (и «захожан»), которые только можно было себе вообразить – символическими изображениями и ритуальным языком жестов, песнопениями и музыкой, приводящими сердце и дух молящегося то в возвышенное, то в умиротворенное состояние. Она непрерывно предоставляла верующим возможность вновь и вновь разжигать в себе пламя веры. Дни памяти Христа Спасителя, святых апостолов и мучеников следовали другом за другом плавной чередой в церковном календаре, составляя и образуя годовой круг Богослужения, в каждый из них полагались особые чтения и благочестивые медитации, и потому смена времен и месяцев года сопровождалось значительным числом памятных и знаменательных праздников. В каждый из этих праздников, да и в промежутках между ними верующие могли сочетаться со Христом путем участия в Святой Евхаристии, как это было принято с самых ранних времен христианства, начиная с евангельской Тайной Вечери. А во все прочие дни с первого крика петуха и до наступления темноты они, трезвые, целомудренные и чистые, в ожидании раскрывшие очи и души, ощущали близость Иисуса, стучавшего в их сердце. Чтобы наитеснейшим образом соединиться с Ним, христианам надлежало, из почтения к Нему, принести Ему в жертву – посвятить Ему – не живые существа или плоды земные, но лишь все свои дела. Так благочестие облагораживало даже самые низкие будничные занятия.
Ловля рыбы (римская мозаика)
Когда матросы и гребцы безропотно несли свою суровую морскую службу; когда рыбаки тянули из озер, рек или моря сети с рыбой; когда возчики влачились со своими тяжело нагруженными возами по пыльным сельским дорогам; когда виноградари и пахари на залитых солнцем холмах и в долинах гнули натруженные спины на виноградниках и пашнях, добывая себя тяжким трудом хлеб насущный; когда рабы крутили скрипящие мельничные жернова, перемалывая зерно в муку, потребную для изготовления этого самого хлеба насущного; когда девушки и женщины трудились в своих каморках за ткацким станком и прялкой, – всегда и везде древние трудовые песни приспосабливались к новому спасительному вероучению, а трудовой ритм – к ритму псалмов.
Пахарь и сеятель (римская мозаика)
«Оратай (пахарь – В. А.), опираясь на плуг свой, поет аллилуйя, жнец освежается псалмами посреди знойных трудов, и виноградарь, обрезывая лозы свои, имеет непрестанно в устах своих стихи Давида (ветхозаветного святого царя-пророка-псалмопевца, сочинителя Псалтири – В. А.)», как писал блаженный Иероним Стридонский, автор латинского перевода Библии – так называемой «Вульгаты».
Так христиане превращали всю свою жизнь от рассвета до заката в одну сплошную, непрерывную молитву, возносящую душу к Богу и постепенно изгонявшую из атмосферы – то есть, из воздушного пространства – вредоносное влияние злых демонов (или, по-нашему, по-русски – бесов); ибо еще не изведенные под корень идолопоклонники по-прежнему творили в разных частях богоспасаемой (в общем и целом) Римской «мировой» державы свои безобразия.
Итак, в ту пору, когда Юлиан усердно предавался в благодатном и спасительном уединении Макелла своим духовным упражнениям, христианский культ уже подчинил себе, с помощью своей гармонично построенной литургии, умы и души многих подданных благочестивых августов, добившись повсеместного и прочного влияния. Кроме того, этот культ привлек Юлиана блеском и притягательностью, всегда присущими в глазах всякого человека, чему-то новому, успешному, победоносному. Будучи в возрасте, в котором дух, душа и настроение еще подобны чистому листу, неисписанной странице (или, как говорили римляне, tabula rasa), весьма впечатлительный юноша, конечно же, очень быстро поддался воздействию новой религии, исповедовать которую его учили опытные, искушенные наставники и душепастыри – ловцы душ человеческих (по евангельскому речению Спасителя), питавшие его духовной трапезой догматов богословия, умело толковавшие тексты Священного Писания и прояснявшие глубокий смысл церковных таинств. Склонный по своей природе к мистической мечтательности, царевич, вероятно, вполне добровольно позволил совершить над собой христианские посвятительные обряды, против которых открыто восстал лишь при своем отпадении от христианства. Сначала он принял возложение рук и крестное знамение на чело. Подобно всем оглашенным (по-гречески – катехуменам), Юлиану разъяснили смысл Молитвы Господней, а затем, после преподанных ему главных положений христианского вероучения (при этом история страстей Христовых растрогала его до слез), он был принят в число тех, кто испрашивал милости и благодати Святого Крещения. Царевич постился и молился положенное время и покаялся в своих грехах, выучил наизусть Символ Веры в форме, принятой в диоцезе (епархии) его епископа – полуарианина Диания («Верую в Бога Отца всемогущего, И в Иисуса Христа, Сына его единородного, Господа нашего; рожденнаго от Духа Свята и Марии Девы; распятаго при Понтийстем Пилате, и погребенна; воскресшего в третий день из мертвых; восшедшаго на небеса, седяща одесную Отца; и грядущего судити живым и мертвым. И в Духа Святаго; Святую Церковь; Отпущение грехов, Воскресение плоти»)., дал экзорцистам произнести над собой все необходимые заклинательные молитвы, в которых именем Божьим запрещалось нечистым духам приближаться к новокрещенному, совлек с себя все одежды, торжественно объявил (причем не трижды, как принято у современных христиан, а пятнадцать раз, как это было принято в IV столетии), что отрицается Сатаны и всех дел его, и всех аггелов (демонов) его, и всего служения его, и всея гордыни его, свидетельствовал свое сознательное сочетание Христу. Священник трижды облил его очистительной водой Крещения (в то время на римском Востоке крестили обливанием), смыв с крещаемого все его прежние грехи. Затем Юлиана облачили в белоснежную одежду новообращенного, помазали его елеем освящения, и наконец, к его великой радости, поднялась завеса, скрывавшая от него Таинство Евхаристии – на Пасхальной литургии он был допущен к Святому Причастию.
Воспитатели царевича повели его еще дальше по пути христианского совершенства – Юлиан, обретший Благодать Святого Крещения, был (как и Галл) допущен к вступлению в ряды низшего клира, приняв посвящение в священный чин анагноста. Иными словами, царевича приняли в число чтецов, чья задача (или, по-христиански – послушание) заключалась в том, чтобы ритмично, ясно и отчетливо декламировать членам церковной общины те или иные отрывки из Библии.
Как писал впоследствии святой Григорий Назианзин, один из самых яростных обличителей Юлиана Отступника, стремясь всячески подчеркнуть «отеческую заботу» и «любовь» августа Констанция II к обездоленным, с его ведома и при его попустительстве (если не по его державной воле), царственным сиротам:
«На них (сводных братьях Галле и Юлиане – В. А.) <…> не лежало тогда никаких должностей, царская власть была еще впереди и в одном предположении, а возраст и надежда не вели к чинам второстепенным. Посему они имели при себе наставников и в прочих науках (все первоначальное учение преподавал им сам дядя и царь), а еще больше – в нашем любомудрии, не только в том, которое имеет предметом догматы, но и в том, которое назидает благочестие нравов. Для сего пользовались обращением с людьми особенно испытанными и были приучаемы к делам самым похвальным, показывающим опыты добродетели. Они по своей охоте вступили в клир, читали народу божественные книги, нимало не почитая сего ущербом для своей славы, но еще признавая благочестие лучшим из всех украшений. Также многоценными памятниками в честь мучеников, щедрыми приношениями и всем, что показывает в человеке страх Божий, свидетельствовали о своем любомудрии и усердии ко Христу». («Слово четвертое, первое обличительное против царя Юлиана»)
Когда Юлиан впоследствии предпринял свою грандиозную попытку «влить новое вино в мехи старые» – вдохнуть новую жизнь в умирающий культ языческих богов, он (и это вызывает определенное удивление) восхвалял не те его аспекты и моменты, которые были свойственны в равной степени всем восточным по происхождению мистериальным культам – Христа, Кибелы, Исиды или Митры – но в первую очередь рекомендовал своим языческим единоверцам многое из того, с чем познакомился в лоне христианской церкви в пору своего первого религиозного рвения. Нигде и никогда он не утверждал в данной связи (в отличие от многих позднейших критиков христианства), что христианские обряды не содержат в себе ничего нового и оригинального, но, напротив, в своих сочинениях ставил христиан в пример «своим» язычникам и в особенности – хвалил христианскую трудовую мораль, как образцовую и достойную подражания.
Особенное восхищение у Юлиана вызывала структура внутренних помещений церквей и молитвенных домов, в которых собирались верующие в Спасителя Иисуса. Он оказался способным оценить по достоинству всю целесообразность их расположения и понять их значение. По его представлениям, богословское и нравственное обучение в форме чтения и проповедей повышало воздействие культовых действий и придавало им вящую весомость и основательность подлинного духовного просвещения.
Религиозный пыл тогдашних верующих христиан очень часто находил свое выражение преимущественно в почитании святых мучеников. На местах их захоронений повсюду высились роскошные молитвенные дома, купола которых были украшены красочными мозаичными изображениями. А в местах, где верующим для поклонения нельзя было предоставить святые мощи, их привозили из каких-либо иных святых мест. С момента обретения в Элии – Святом Граде Иерусалиме – Святого Гроба Господня, Святого Истинного Креста и Голгофских гвоздей (один из которых равноапостольный царь Константин Великий повелел вделать в свой шлем в залог своей непобедимости), в церквях римского Востока непрерывно обретались все новые священные реликвии, переносимые под пение псалмов и аккомпанемент страстных молитвенных обращений.
Когда христианское духовенство Кесарии Каппадокийской порешило найти для своей паствы небесного заступника перед Богом, долго искать ему не пришлось. Невдалеке от города покоились мощи скромного пастыря, то есть, попросту говоря – пастуха по имени Мамант, Мамае или Мама. Этот святой человек провел свою земную жизнь в праведных трудах и в благочестивых молитвах, питаясь, как о нем рассказывали, молоком стельных олених, пасшихся в его родных горах, и был в правление языческого императора-солнцепоклонника Аврелиана, приговорен к смерти за исповедание веры в Христа. Вскоре после мученической кончины Мамы его могила прославилась многочисленными творившимися там чудесами. Помолившись святому мученику, его преданные почитатели неоднократно получали чудесные подтверждения милости Небес, включая возвращение уже давно оплакиваемых ими близких, считавшихся пропавшими без вести; воскрешение умерших детей; многочисленные видения и исцеления.
Все эти чудеса, совершенные по молитвам угодившего своей праведной жизнью и мученической кончиной Богу пастуха прославили его имя на всю Каппадокию и соседствующие с ней области римской «мировой» державы.
Когда интернированные в Макелле благочестивые братья-сироты Галл и Юлиан, получили от своих катехизаторов испрошенное дозволение помолиться в часовне святого Мамы, они сочли это очень скромное строение недостойным столь великого святого, и решили построить на его месте монументальное здание. Братья взялись за этот подвиг христианского благочестия сообща, причем разделили «фронт работ» между собою пополам. Каждый из них старался превзойти другого пышностью и благочестивым рвением. Однако скромный пастух, чьи останки поились под камнями, еще раз проявил в данном случае свою чудодейственную силу. В то время как часть постройки, возводимая Галлом, росла не по дням, а по часам, все усилия Юлиана оставались напрасными. То построенное им рушилось, то земля засыпала сооруженный им фундамент, как если бы она не желала принимать ничего от человека, чье благочестие оставляло в действительности желать много лучшего. Это невероятное чудо, добавляет раннехристианский агиограф[57 - Агиографами называются авторы жизнеописаний (житий) святых.], сохранивший данную историю для последующих поколений (включая и нас, многогрешных), может быть подтверждено многими современными ему людьми, ставшими некогда его очевидцами. Возможно, этот исторический анекдот родился после отпадения одного из наших двух братьев от веры. К тому же он явно представляет собой прямую реминисценцию на жертвоприношение двух других, упомянутых в христианском Священном Писании Ветхого Завета, братьев – благочестивого Авеля (чья жертва была принята Богом) и нечестивого Каина (чья жертва была Богом отвергнута), что указывает на его литературное происхождение. Тем не менее, вряд ли стоит считать сообщение агиографа вымышленным от начала до конца. По крайней мере, безымянный рассказчик донес до нас достаточно привлекательный образ юного царевича Юлиана, честно стремящегося, не покладая рук, возвести базилику в честь и память скромного мученика-простолюдина.
Впоследствии эта знаменательная история обрела, в передаче святого Григория Богослова, епископа каппадокийского города Назианза, от названия которого он и получил свое прозвище «Назианзин» (пишущего просто о «мучениках», не упоминая конкретно святого Маманта), следующий вид:
«Один из них (двух сосланных Констанцием II в Макелл братьев-царевичей – В. А.) был действительно благочестив и хотя по природе вспыльчивее, однако же в благочестии искренен (речь идет о Галле – В. А.). А другой (Юлиан – В. А.) выжидал только времени и под личиной скромности таил злонравие. И вот доказательство! Ибо не могу пройти молчанием бывшего чуда, которое весьма достопамятно и может послужить уроком для многих нечестивцев. Оба они, как сказал я, усердствовали для мучеников, не уступали друг другу в щедрости, богатой рукой и не щадя издержек созидали храм. Но поелику труды их происходили не от одинакового произволения, то и конец трудов был различен. Дело одного, разумею старшего брата шло успешно и в порядке, потому что Бог охотно принимал дар, как Авелеву жертву, право и принесенную и разделенную (Быт. 4:7), и самый дар был как бы некоторым освящением первородного, а дар другого (какое еще здесь на земле посрамление для нечестивых, свидетельствующее о будущем и малозначительными указаниями предвещающее о чем-то великом!) – дар другого отверг Бог мучеников, как жертву Каинову. Он прилагал труды, а земля изметала совершенное трудами. Он употреблял еще большие усилия, а земля отказывалась принимать в себя основания, полагаемые человеком, зыблющимся в благочестии. Земля как бы вещала, какое будет произведено им потрясение, и вместе воздавала честь мученикам бесчестием нечестивейшего. <…> Какое братолюбие в мучениках! Они не приняли чествования от того, кто обесчестит многих мучеников, отвергли дары человека, который многих изведет в подвиг страдания, даже позавидует им и в сем подвиге».
Как говорится – «почувствуйте разницу!» Впрочем, довольно об этом…
Как известно, вера без дел мертва есть… И потому царственного «ссыльнопоселенца», в соответствии со словами святого Григория, учили, что благочестие находит свое наилучшее, наиполнейшее выражение в нравственном поведении. Его духовные воспитатели в ходе своих разъездов по странноприимным домам, сооружаемым в то время церковью для путешественников и нуждающихся, а также в ходе своих посещений больных и заключенных брали с собой и юного царевича. Так они пробуждали в нем сочувствие и понимание нравственного евангельского учения, давая Юлиану возможность участвовать в творимых ими делах христианского милосердия.
Время тогда было крайне тяжелое, если не сказать – кризисное. Голод, вторжения внешних врагов, стихийные бедствия, всевозможные трудности и испытания, осложняемые безудержной спекуляцией и ростовщичеством, а также бездарной политикой хищного фиска – имперской налоговой службы —, действовавшего по принципу «чем больше жмешь, тем больше выжмешь», повсюду вели к неудержимому, все возрастающему массовому обнищанию. Города были переполнены бродягами и беженцами.
На площадях и на церковных папертях Антиохии, столицы римской Сирии – прославленного на весь античный мир своими роскошно украшенными площадями, нескончаемыми рядами тщательно вымощенных улиц длиной до тридцати шести стадий (или, по-современному, шести с половиной километров), сдвоенными колоннадами и галереями, освещаемыми ночью с помощью фонарей так же яро, как и днем – солнечным светом, обильным водоснабжением, позволявшим иметь ванны даже владельцам самых скромных домов, города социальных контрастов – теснились несметными толпами калеки, слепцы, больные лихорадкой и жалкие фигуры голодающих, прилюдно обнажавшие свои покрытые язвами члены и свои исхудавшие, как скелеты, тела, в надежде вызвать сострадание. Ефрем Эдесский и другие авторы тех времен описывали подобные душераздирающие сцены, способные вызвать сочувствие по сей день. В такой весьма опасной для общественного порядка обстановке церковь изыскала новую возможность претворить в форму деятельной любви к ближнему – благотворительности – свое сочувствие и сострадание страждущим. В IV веке церковь принялась – прежде всего на Востоке Римской «мировой» державы, а если быть еще точнее – то на Ближнем Востоке, учреждать при молитвенных домах лечебницы, дома призрения – приюты для убогих и странноприимницы. Первоначально они были предназначены для размещения неимущих странников, не имевших чем заплатить за ночлег, но вскоре постройки стали расширять, располагая под одной крышей несколько отделений, дававших приют всем категориям нуждающихся в помощи, либо отдельные детские дома для сирот и подкидышей (у язычников – греков и римлян – подкидывать детей, даже рожденных в законном браке, было совершенно обычным делом); больницы (в том числе для неизлечимо больных), дома престарелых (по-латыни – инфирмерии). Одновременно повсеместно множились мужские и женские монастыри, также помогавшие нуждающимся.
Турецкий город Антакья, в древности – Антиохия-на-Оронте, столица римской Сирии (современный вид)
Кесарийская церковь была богатой и щедрой. Нигде лучше, чем в Макелле, Юлиан не мог наблюдать за тем, что священники и епископы делали для бедных. Возможно, именно тогда он впервые увидел запомнившиеся ему на всю жизнь фигуры людей, названных им апотактитами, то есть отшельниками или отрицателями мира – нищенствующих монахов, отказавшихся, по его утверждениям, от всего, одетых в грубую рубаху-тунику, а поверх туники – в черный плащ либо мешок из козьей шкуры; их нечесаные и неприбранные волосы развевались на ветру, бороды были всклокочены, нестрижены и неухожены, ноги – босы. В таком виде они бродили по округе, просили подаяния, молились в церквях и, в качестве единственного «рекомендательного письма» предъявляли выданное епископом удостоверение. Наиболее строгие в своем непримиримом аскетизме апотактиты даже отказывались обращаться со словами приветствия к женатым мужчинам или замужним женщинам.
Глава пятая
Наставление в вере[56 - Наставление в вере – процесс передачи знаний о Боге, опыта Бого-познания и Богообщения, хранимых в Церковном Предании; содействие развитию навыка Богообщения.]
Провозглашенная равноапостольным царем Константином I толерантность, сиречь (религиозная) терпимость, устранила все препятствия, стоявшие на пути победного шествия и распространения христианства не только в пределах Римской «мировой» империи, но и далеко за ее пределами. Наконец-то Христова церковь оказалась в состоянии в полной мере использовать притягательную силу своих празднеств, торжественно отмечая их не под покровом темноты, в подземных убежищах (от чего, если верить церковной истории патриарха Иерусалимского Досифея, и пошел обычай христиан зажигать светильники во время богослужения), как прежде, в пору гонений, а безбоязненно, при ярком свете дня. Размеры христианских базилик заметно увеличились, их число многократно возросло. С целью привлечения язычников литургии придавались новые формы, с учетом языческих обычаев, привычек и склонностей. Очень скоро церемониал церковных праздников стал превосходить своим блеском и своей пышностью прежние, дохристианские культы. И в то же время церковный культ «галилеян» не отвращал своими формами от церкви даже самые тонко чувствующие души. Не вызывая более сомнений, церковь сумела привлечь к себе как высший, образованный слой, так и широкие, необразованные массы населения. Она апеллировала к самым благородным побуждениям души, указывала и открывала без разбора всем, большим и малым, общий для них всех путь к спасению, аналогичного которому не смог бы найти и указать в рамках древних религий даже самый фанатичный апологет язычества.
В целях повышения привлекательности и прелести молитвы, церковь успешно сочетала ее с самыми разными средствами воздействия на чувства прихожан (и «захожан»), которые только можно было себе вообразить – символическими изображениями и ритуальным языком жестов, песнопениями и музыкой, приводящими сердце и дух молящегося то в возвышенное, то в умиротворенное состояние. Она непрерывно предоставляла верующим возможность вновь и вновь разжигать в себе пламя веры. Дни памяти Христа Спасителя, святых апостолов и мучеников следовали другом за другом плавной чередой в церковном календаре, составляя и образуя годовой круг Богослужения, в каждый из них полагались особые чтения и благочестивые медитации, и потому смена времен и месяцев года сопровождалось значительным числом памятных и знаменательных праздников. В каждый из этих праздников, да и в промежутках между ними верующие могли сочетаться со Христом путем участия в Святой Евхаристии, как это было принято с самых ранних времен христианства, начиная с евангельской Тайной Вечери. А во все прочие дни с первого крика петуха и до наступления темноты они, трезвые, целомудренные и чистые, в ожидании раскрывшие очи и души, ощущали близость Иисуса, стучавшего в их сердце. Чтобы наитеснейшим образом соединиться с Ним, христианам надлежало, из почтения к Нему, принести Ему в жертву – посвятить Ему – не живые существа или плоды земные, но лишь все свои дела. Так благочестие облагораживало даже самые низкие будничные занятия.
Ловля рыбы (римская мозаика)
Когда матросы и гребцы безропотно несли свою суровую морскую службу; когда рыбаки тянули из озер, рек или моря сети с рыбой; когда возчики влачились со своими тяжело нагруженными возами по пыльным сельским дорогам; когда виноградари и пахари на залитых солнцем холмах и в долинах гнули натруженные спины на виноградниках и пашнях, добывая себя тяжким трудом хлеб насущный; когда рабы крутили скрипящие мельничные жернова, перемалывая зерно в муку, потребную для изготовления этого самого хлеба насущного; когда девушки и женщины трудились в своих каморках за ткацким станком и прялкой, – всегда и везде древние трудовые песни приспосабливались к новому спасительному вероучению, а трудовой ритм – к ритму псалмов.
Пахарь и сеятель (римская мозаика)
«Оратай (пахарь – В. А.), опираясь на плуг свой, поет аллилуйя, жнец освежается псалмами посреди знойных трудов, и виноградарь, обрезывая лозы свои, имеет непрестанно в устах своих стихи Давида (ветхозаветного святого царя-пророка-псалмопевца, сочинителя Псалтири – В. А.)», как писал блаженный Иероним Стридонский, автор латинского перевода Библии – так называемой «Вульгаты».
Так христиане превращали всю свою жизнь от рассвета до заката в одну сплошную, непрерывную молитву, возносящую душу к Богу и постепенно изгонявшую из атмосферы – то есть, из воздушного пространства – вредоносное влияние злых демонов (или, по-нашему, по-русски – бесов); ибо еще не изведенные под корень идолопоклонники по-прежнему творили в разных частях богоспасаемой (в общем и целом) Римской «мировой» державы свои безобразия.
Итак, в ту пору, когда Юлиан усердно предавался в благодатном и спасительном уединении Макелла своим духовным упражнениям, христианский культ уже подчинил себе, с помощью своей гармонично построенной литургии, умы и души многих подданных благочестивых августов, добившись повсеместного и прочного влияния. Кроме того, этот культ привлек Юлиана блеском и притягательностью, всегда присущими в глазах всякого человека, чему-то новому, успешному, победоносному. Будучи в возрасте, в котором дух, душа и настроение еще подобны чистому листу, неисписанной странице (или, как говорили римляне, tabula rasa), весьма впечатлительный юноша, конечно же, очень быстро поддался воздействию новой религии, исповедовать которую его учили опытные, искушенные наставники и душепастыри – ловцы душ человеческих (по евангельскому речению Спасителя), питавшие его духовной трапезой догматов богословия, умело толковавшие тексты Священного Писания и прояснявшие глубокий смысл церковных таинств. Склонный по своей природе к мистической мечтательности, царевич, вероятно, вполне добровольно позволил совершить над собой христианские посвятительные обряды, против которых открыто восстал лишь при своем отпадении от христианства. Сначала он принял возложение рук и крестное знамение на чело. Подобно всем оглашенным (по-гречески – катехуменам), Юлиану разъяснили смысл Молитвы Господней, а затем, после преподанных ему главных положений христианского вероучения (при этом история страстей Христовых растрогала его до слез), он был принят в число тех, кто испрашивал милости и благодати Святого Крещения. Царевич постился и молился положенное время и покаялся в своих грехах, выучил наизусть Символ Веры в форме, принятой в диоцезе (епархии) его епископа – полуарианина Диания («Верую в Бога Отца всемогущего, И в Иисуса Христа, Сына его единородного, Господа нашего; рожденнаго от Духа Свята и Марии Девы; распятаго при Понтийстем Пилате, и погребенна; воскресшего в третий день из мертвых; восшедшаго на небеса, седяща одесную Отца; и грядущего судити живым и мертвым. И в Духа Святаго; Святую Церковь; Отпущение грехов, Воскресение плоти»)., дал экзорцистам произнести над собой все необходимые заклинательные молитвы, в которых именем Божьим запрещалось нечистым духам приближаться к новокрещенному, совлек с себя все одежды, торжественно объявил (причем не трижды, как принято у современных христиан, а пятнадцать раз, как это было принято в IV столетии), что отрицается Сатаны и всех дел его, и всех аггелов (демонов) его, и всего служения его, и всея гордыни его, свидетельствовал свое сознательное сочетание Христу. Священник трижды облил его очистительной водой Крещения (в то время на римском Востоке крестили обливанием), смыв с крещаемого все его прежние грехи. Затем Юлиана облачили в белоснежную одежду новообращенного, помазали его елеем освящения, и наконец, к его великой радости, поднялась завеса, скрывавшая от него Таинство Евхаристии – на Пасхальной литургии он был допущен к Святому Причастию.
Воспитатели царевича повели его еще дальше по пути христианского совершенства – Юлиан, обретший Благодать Святого Крещения, был (как и Галл) допущен к вступлению в ряды низшего клира, приняв посвящение в священный чин анагноста. Иными словами, царевича приняли в число чтецов, чья задача (или, по-христиански – послушание) заключалась в том, чтобы ритмично, ясно и отчетливо декламировать членам церковной общины те или иные отрывки из Библии.
Как писал впоследствии святой Григорий Назианзин, один из самых яростных обличителей Юлиана Отступника, стремясь всячески подчеркнуть «отеческую заботу» и «любовь» августа Констанция II к обездоленным, с его ведома и при его попустительстве (если не по его державной воле), царственным сиротам:
«На них (сводных братьях Галле и Юлиане – В. А.) <…> не лежало тогда никаких должностей, царская власть была еще впереди и в одном предположении, а возраст и надежда не вели к чинам второстепенным. Посему они имели при себе наставников и в прочих науках (все первоначальное учение преподавал им сам дядя и царь), а еще больше – в нашем любомудрии, не только в том, которое имеет предметом догматы, но и в том, которое назидает благочестие нравов. Для сего пользовались обращением с людьми особенно испытанными и были приучаемы к делам самым похвальным, показывающим опыты добродетели. Они по своей охоте вступили в клир, читали народу божественные книги, нимало не почитая сего ущербом для своей славы, но еще признавая благочестие лучшим из всех украшений. Также многоценными памятниками в честь мучеников, щедрыми приношениями и всем, что показывает в человеке страх Божий, свидетельствовали о своем любомудрии и усердии ко Христу». («Слово четвертое, первое обличительное против царя Юлиана»)
Когда Юлиан впоследствии предпринял свою грандиозную попытку «влить новое вино в мехи старые» – вдохнуть новую жизнь в умирающий культ языческих богов, он (и это вызывает определенное удивление) восхвалял не те его аспекты и моменты, которые были свойственны в равной степени всем восточным по происхождению мистериальным культам – Христа, Кибелы, Исиды или Митры – но в первую очередь рекомендовал своим языческим единоверцам многое из того, с чем познакомился в лоне христианской церкви в пору своего первого религиозного рвения. Нигде и никогда он не утверждал в данной связи (в отличие от многих позднейших критиков христианства), что христианские обряды не содержат в себе ничего нового и оригинального, но, напротив, в своих сочинениях ставил христиан в пример «своим» язычникам и в особенности – хвалил христианскую трудовую мораль, как образцовую и достойную подражания.
Особенное восхищение у Юлиана вызывала структура внутренних помещений церквей и молитвенных домов, в которых собирались верующие в Спасителя Иисуса. Он оказался способным оценить по достоинству всю целесообразность их расположения и понять их значение. По его представлениям, богословское и нравственное обучение в форме чтения и проповедей повышало воздействие культовых действий и придавало им вящую весомость и основательность подлинного духовного просвещения.
Религиозный пыл тогдашних верующих христиан очень часто находил свое выражение преимущественно в почитании святых мучеников. На местах их захоронений повсюду высились роскошные молитвенные дома, купола которых были украшены красочными мозаичными изображениями. А в местах, где верующим для поклонения нельзя было предоставить святые мощи, их привозили из каких-либо иных святых мест. С момента обретения в Элии – Святом Граде Иерусалиме – Святого Гроба Господня, Святого Истинного Креста и Голгофских гвоздей (один из которых равноапостольный царь Константин Великий повелел вделать в свой шлем в залог своей непобедимости), в церквях римского Востока непрерывно обретались все новые священные реликвии, переносимые под пение псалмов и аккомпанемент страстных молитвенных обращений.
Когда христианское духовенство Кесарии Каппадокийской порешило найти для своей паствы небесного заступника перед Богом, долго искать ему не пришлось. Невдалеке от города покоились мощи скромного пастыря, то есть, попросту говоря – пастуха по имени Мамант, Мамае или Мама. Этот святой человек провел свою земную жизнь в праведных трудах и в благочестивых молитвах, питаясь, как о нем рассказывали, молоком стельных олених, пасшихся в его родных горах, и был в правление языческого императора-солнцепоклонника Аврелиана, приговорен к смерти за исповедание веры в Христа. Вскоре после мученической кончины Мамы его могила прославилась многочисленными творившимися там чудесами. Помолившись святому мученику, его преданные почитатели неоднократно получали чудесные подтверждения милости Небес, включая возвращение уже давно оплакиваемых ими близких, считавшихся пропавшими без вести; воскрешение умерших детей; многочисленные видения и исцеления.
Все эти чудеса, совершенные по молитвам угодившего своей праведной жизнью и мученической кончиной Богу пастуха прославили его имя на всю Каппадокию и соседствующие с ней области римской «мировой» державы.
Когда интернированные в Макелле благочестивые братья-сироты Галл и Юлиан, получили от своих катехизаторов испрошенное дозволение помолиться в часовне святого Мамы, они сочли это очень скромное строение недостойным столь великого святого, и решили построить на его месте монументальное здание. Братья взялись за этот подвиг христианского благочестия сообща, причем разделили «фронт работ» между собою пополам. Каждый из них старался превзойти другого пышностью и благочестивым рвением. Однако скромный пастух, чьи останки поились под камнями, еще раз проявил в данном случае свою чудодейственную силу. В то время как часть постройки, возводимая Галлом, росла не по дням, а по часам, все усилия Юлиана оставались напрасными. То построенное им рушилось, то земля засыпала сооруженный им фундамент, как если бы она не желала принимать ничего от человека, чье благочестие оставляло в действительности желать много лучшего. Это невероятное чудо, добавляет раннехристианский агиограф[57 - Агиографами называются авторы жизнеописаний (житий) святых.], сохранивший данную историю для последующих поколений (включая и нас, многогрешных), может быть подтверждено многими современными ему людьми, ставшими некогда его очевидцами. Возможно, этот исторический анекдот родился после отпадения одного из наших двух братьев от веры. К тому же он явно представляет собой прямую реминисценцию на жертвоприношение двух других, упомянутых в христианском Священном Писании Ветхого Завета, братьев – благочестивого Авеля (чья жертва была принята Богом) и нечестивого Каина (чья жертва была Богом отвергнута), что указывает на его литературное происхождение. Тем не менее, вряд ли стоит считать сообщение агиографа вымышленным от начала до конца. По крайней мере, безымянный рассказчик донес до нас достаточно привлекательный образ юного царевича Юлиана, честно стремящегося, не покладая рук, возвести базилику в честь и память скромного мученика-простолюдина.
Впоследствии эта знаменательная история обрела, в передаче святого Григория Богослова, епископа каппадокийского города Назианза, от названия которого он и получил свое прозвище «Назианзин» (пишущего просто о «мучениках», не упоминая конкретно святого Маманта), следующий вид:
«Один из них (двух сосланных Констанцием II в Макелл братьев-царевичей – В. А.) был действительно благочестив и хотя по природе вспыльчивее, однако же в благочестии искренен (речь идет о Галле – В. А.). А другой (Юлиан – В. А.) выжидал только времени и под личиной скромности таил злонравие. И вот доказательство! Ибо не могу пройти молчанием бывшего чуда, которое весьма достопамятно и может послужить уроком для многих нечестивцев. Оба они, как сказал я, усердствовали для мучеников, не уступали друг другу в щедрости, богатой рукой и не щадя издержек созидали храм. Но поелику труды их происходили не от одинакового произволения, то и конец трудов был различен. Дело одного, разумею старшего брата шло успешно и в порядке, потому что Бог охотно принимал дар, как Авелеву жертву, право и принесенную и разделенную (Быт. 4:7), и самый дар был как бы некоторым освящением первородного, а дар другого (какое еще здесь на земле посрамление для нечестивых, свидетельствующее о будущем и малозначительными указаниями предвещающее о чем-то великом!) – дар другого отверг Бог мучеников, как жертву Каинову. Он прилагал труды, а земля изметала совершенное трудами. Он употреблял еще большие усилия, а земля отказывалась принимать в себя основания, полагаемые человеком, зыблющимся в благочестии. Земля как бы вещала, какое будет произведено им потрясение, и вместе воздавала честь мученикам бесчестием нечестивейшего. <…> Какое братолюбие в мучениках! Они не приняли чествования от того, кто обесчестит многих мучеников, отвергли дары человека, который многих изведет в подвиг страдания, даже позавидует им и в сем подвиге».
Как говорится – «почувствуйте разницу!» Впрочем, довольно об этом…
Как известно, вера без дел мертва есть… И потому царственного «ссыльнопоселенца», в соответствии со словами святого Григория, учили, что благочестие находит свое наилучшее, наиполнейшее выражение в нравственном поведении. Его духовные воспитатели в ходе своих разъездов по странноприимным домам, сооружаемым в то время церковью для путешественников и нуждающихся, а также в ходе своих посещений больных и заключенных брали с собой и юного царевича. Так они пробуждали в нем сочувствие и понимание нравственного евангельского учения, давая Юлиану возможность участвовать в творимых ими делах христианского милосердия.
Время тогда было крайне тяжелое, если не сказать – кризисное. Голод, вторжения внешних врагов, стихийные бедствия, всевозможные трудности и испытания, осложняемые безудержной спекуляцией и ростовщичеством, а также бездарной политикой хищного фиска – имперской налоговой службы —, действовавшего по принципу «чем больше жмешь, тем больше выжмешь», повсюду вели к неудержимому, все возрастающему массовому обнищанию. Города были переполнены бродягами и беженцами.
На площадях и на церковных папертях Антиохии, столицы римской Сирии – прославленного на весь античный мир своими роскошно украшенными площадями, нескончаемыми рядами тщательно вымощенных улиц длиной до тридцати шести стадий (или, по-современному, шести с половиной километров), сдвоенными колоннадами и галереями, освещаемыми ночью с помощью фонарей так же яро, как и днем – солнечным светом, обильным водоснабжением, позволявшим иметь ванны даже владельцам самых скромных домов, города социальных контрастов – теснились несметными толпами калеки, слепцы, больные лихорадкой и жалкие фигуры голодающих, прилюдно обнажавшие свои покрытые язвами члены и свои исхудавшие, как скелеты, тела, в надежде вызвать сострадание. Ефрем Эдесский и другие авторы тех времен описывали подобные душераздирающие сцены, способные вызвать сочувствие по сей день. В такой весьма опасной для общественного порядка обстановке церковь изыскала новую возможность претворить в форму деятельной любви к ближнему – благотворительности – свое сочувствие и сострадание страждущим. В IV веке церковь принялась – прежде всего на Востоке Римской «мировой» державы, а если быть еще точнее – то на Ближнем Востоке, учреждать при молитвенных домах лечебницы, дома призрения – приюты для убогих и странноприимницы. Первоначально они были предназначены для размещения неимущих странников, не имевших чем заплатить за ночлег, но вскоре постройки стали расширять, располагая под одной крышей несколько отделений, дававших приют всем категориям нуждающихся в помощи, либо отдельные детские дома для сирот и подкидышей (у язычников – греков и римлян – подкидывать детей, даже рожденных в законном браке, было совершенно обычным делом); больницы (в том числе для неизлечимо больных), дома престарелых (по-латыни – инфирмерии). Одновременно повсеместно множились мужские и женские монастыри, также помогавшие нуждающимся.
Турецкий город Антакья, в древности – Антиохия-на-Оронте, столица римской Сирии (современный вид)
Кесарийская церковь была богатой и щедрой. Нигде лучше, чем в Макелле, Юлиан не мог наблюдать за тем, что священники и епископы делали для бедных. Возможно, именно тогда он впервые увидел запомнившиеся ему на всю жизнь фигуры людей, названных им апотактитами, то есть отшельниками или отрицателями мира – нищенствующих монахов, отказавшихся, по его утверждениям, от всего, одетых в грубую рубаху-тунику, а поверх туники – в черный плащ либо мешок из козьей шкуры; их нечесаные и неприбранные волосы развевались на ветру, бороды были всклокочены, нестрижены и неухожены, ноги – босы. В таком виде они бродили по округе, просили подаяния, молились в церквях и, в качестве единственного «рекомендательного письма» предъявляли выданное епископом удостоверение. Наиболее строгие в своем непримиримом аскетизме апотактиты даже отказывались обращаться со словами приветствия к женатым мужчинам или замужним женщинам.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: