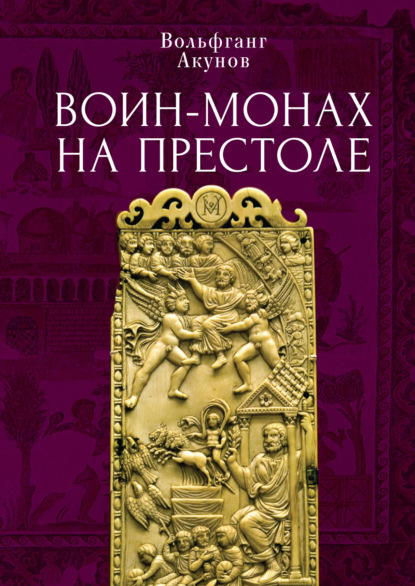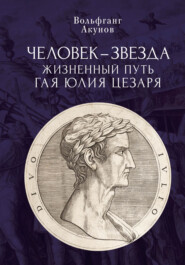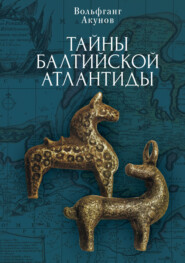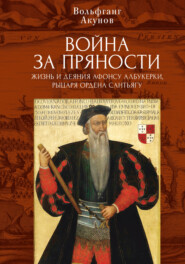По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Воин-монах на престоле
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Философ-неопифагореец и теyрг I века Аполлоний Тианский
По легенде, императору Аврелиану в сонном видении явился философ-неопифагореец и теург I века Аполлоний Тианский, повелевший ему построить в Риме на Тибре храм Солнца. Господин и бог Аврелиан выполнил это повеление теурга, ввел в Риме культ Солнца и сам стал первосвященником этого культа (не привившегося, однако, в гражданской среде, в отличие от римской армии, где он тесно переплелся и фактически слился с культом иранского божества света, солнца и правды – Митры).
Заметим также, что язычники в своих молитвах именовали «Солнце, в пути неистомное» (как выражался Гомер в «Илиаде») не только «непобедимым», но и «праведным» (справедливым) – и это полностью соответствовало восприятию христианами Христа как «Солнца праведного», или «Солнца Правды»[39 - В христианских гимнах и молитвах Иисус Христос именовался также «Умным Солнцем».]. Не случайно в Православном тропаре Рождества Христова по сей день поется: «Рождество Твое Христе Боже наш, восс!я мирови свет разумный, внемъ бо иже звездамъ служапци, звездою поучахуся, Тебе кланятися Солнцу праведному, и Тебе ведети свыше Востокъ, Господи, слава Тебе».
Святой Дионисий Ареопагит (по преданию, обращенный в христианство в Афинах самим святым Павлом – «апостолом язычников») писал: «Ее (Причину всего, то есть Бога – В. А.) называют «солнцем», «звездой», «огнем»…» («О Божественных именах»).
Константин Великий и образ Sol Invictus. Медальон. 313 г.
А один из прозванных «великими каппадокийцами» святителей и столпов Христовой Веры, современников Юлиана – святой Григорий Богослов (Назианзин): «Солнце – образ (Бога – В. А.) Сына, Небо – образ (Бога – В. А.) Отца».
«Ведь в древности праздник солнца приходился именно на зимнее солнцестояние и именно в этот день, день Sol Invictas, постановил святой (император – В. А.) Константин праздновать Рождество Солнца Правды (Иисуса Христа – В. А.), которому поклонились цари-волхвы, цари Востока, цари от царя Мелхиседека…» (В. И. Карпец. «Родословие Кощея Бессмертного»).
В-общем, «бывают странные сближенья», говоря словами поэта. Но довольно об этом…
Новый Рим был блестящим и оживленным городом. «Владыка обитаемого мира» осыпал свою столицу на Босфоре бесчисленными знаками своей милости и привилегиями. «Варвары» были вытеснены за пределы «мировой» державы или казались покоренными римским оружием, интриги внутри императорского дома вроде бы прекратились. В 324 году благочестивый деспот приказал убить своих соперников в борьбе за императорский престол – Мартиниана (Марциниана) и Лициния (поверившего на слово и сдавшегося Константину I, обещавшему сохранить ему жизнь; впрочем, восточноримский историк готского происхождения Иордан, в отличие от других, более ранних, историков – к примеру, Аврелия Виктора – утверждал впоследствии, что Лициний был убит не по приказу Константина, а восставшими германцами-готами, своими бывшими союзниками, которые пронзили лишенного власти императора-неудачника мечом в городе Фессалонике… «от имени Константина-победителя») —, затем, в 326 году – устранить сына Лициния, но на этом не остановился.
Цезарь Флавий Юлий Крисп, старший сын Константина I Великого, казненный своим венценосным отцом
В приступе ревности (скорее всего – неоправданной) равноапостольный царь Константин повелел казнить своего собственного сына – цезаря Флавия Юлия Криспа, а после устранения Криспа – удушить горячим паром в бане свою супругу августу Фавсту (Фаусту, дочь свирепого гонителя христиан Максимиана Геркулия), якобы заподозренную им в преступной любовной связи с пасынком, уже павшим жертвой отцовского гнева. Полагая, что достаточно обезопасил этими убийствами свой престол и свое супружеское ложе, мстительный император счел возможным перейти к более умеренной и милосердной внутренней политике, постепенно допуская к власти своих родственников, сумевших уцелеть. Ибо вознамерился сделать императорскую власть наследственной, рассматривая Римскую империю, как наследственное достояние своего дома и рода (домен, или, говоря по-русски – вотчину). В 333 году сын Феодоры – цензор (ценсор)[40 - Цензор, или ценсор (кенсор) – должностное лицо в Древнем Риме, осуществлявшее главным образом проведение ценза. Должность была учреждена первоначально для регулирования податей и военной службы, затем – и для надзора за нравами, финансового контроля: отдачи на откуп общественных земель, государственных доходов и поземельных податей, а следовательно, и рудников, таможенных пошлин, торговли солью и т. д., наблюдение за всеми оплачиваемыми казною вещами и поставками, например за вооружением войск, их перевозкой и др.; надзором за сооружением и содержанием общественных зданий и заведений. После двух цензоров времен императора Августа, цензорские полномочия принимал на себя только сам принцепс. Начиная с Домициана, император получал цензорские полномочия пожизненно. В позднеимперскую эпоху домината должность цензора жаловалась императором кому-либо из приближенных в качестве почетного титула (подобно званиям консула, консуляра, патриция или сенатора).] Далмаций – получил инсигнии, сиречь знаки отличия консула (высшего магистрата-чиновника) – фасции (связки розог со вложенной в них секирой)[41 - Фасции (лат. fasces), иначе фаски, фасцы, также ликторские пучки – пучки розог, или прутьев, перетянутые красным шнуром или связанные ремнями. Заимствованный римлянами у этрусков атрибут власти древнеримских царей-рексов, в эпоху Римской республики – высших магистратов. Первоначально символизировали право магистрата добиваться исполнения своих решений силой. Вне пределов города в фасции закреплялся топор, или секира – символ права магистрата казнить и миловать подданных (внутри городов высшей инстанцией для смертных приговоров был римский народ, то есть народное собрание – комиции – римских граждан). Право ношения фасций закреплялось за особыми госслужащими – ликторами. Впоследствии ликторские фасции стали символизировать государственное и национальное единство.] и трабею[42 - Трабея – короткий плащ, служивший у этрусков знаком царской власти. Трабея была весьма древним видом тоги и служила одеждой членов жреческих коллегий салиев и авгуров. Римлянами использовалось три вида трабеи: 1)пурпуровая – одежда (на статуях) богов; 2) пурпуровая с белыми просветами – одеяние рексов (царей); з)с ярко-красными горизонтальными полосами и пурпуровой каймой – одеяние авгуров. Впоследствии трабею с ярко-красными горизонтальными полосами по торжественным случаям носили римские цари, всадники и авгуры, а затем – консулы. Императорская трабея стала полностью пурпуровой.], после чего сын и тезка Далмация был назначен цезарем.
Римский кoнсyл в трабее
В 335 году, через пять лет после возвращения отца Юлиана в «царственный град» на Босфоре, по случаю тридцатилетия восшествия императора Константина I на престол, имя Юлия Констанция было внесено в консульские фасты (фасти консулярес – ежегодные списки консулов – высших магистратов, то есть высших римских государственных чиновников), и с «благороднейшим патрицием» – нобилиссимус патрициус – стали обращаться, как с царевичем, или, если использовать терминологию не Римской, а претендовавшей на ее преемство Российской империи – «князем крови императорской». Разделение власти в рамках императорской фамилии, осуществленное в это же время императором Константином I, можно считать первым из задуманных им проектов раздела Римской «мировой» империи (которую он сам так долго собирал воедино) между своими ближайшими родственниками. В самом выгодном и преимущественном положении оказались три провозглашенных цезарями родных сына и наследника Константина I – Константин Младший (будущий Константин II), Констанций и Констант. При этом следует подчеркнуть, что, хотя равноапостольный царь (оставивший себе Фракию и Грецию – современный Балканский полуостров) передал каждому из них в управление и наследство его удел (Константину Младшему – Испанию, Галлию и Британию; Констанцию – Азию и Египет; Константу же – Италию, Иллирию и Африку), они, цезари, по его замыслу, должны были оставаться любящими друг друга братьями, а Римская империя – единым целым. Иначе непонятно, чего ради Константин I Великий всю свою многотрудную жизнь занимался собиранием римских земель. Не остался обездоленным и цезарь Далмаций, которому была поручена «оборона готского берега Дануба». Брат Далмация, Ганнибалиан, получил власть над Понтом и Арменией со столицей в Цезарее (Кесарии) Каппадокийской с пышным титулом «царя царей» (который носили, в честь своих царственных персидских предков, правители эллинистического государства Понт, происходившие, по одной линии – от владык Древне-Персидской державы Ахеменидов, а по другой – от завоевавшего эту Древне-Персидскую державу Александра Македонского) и весьма заманчивой перспективой со временем распространить свою власть на (Ново-) Персидскую державу Сасанидов (также считавшихся потомками древних Ахеменидов) – Эраншахр («Арийское царство»), которую для этого, правда, еще предстояло завоевать и романизировать. Связи внутри этого правящего сообщества Вторых Флавиев были дополнительно упрочены путем заключения двух династических брачных союзов. Одна из дочерей Юлия Констанция, сводная сестра Юлиана, вышла замуж за сына равноапостольного царя – цезаря Констанция. Ганнибалиану же август Константин Великий обещал руку своей собственной дочери, Констанции (которой было суждено впоследствии стать супругой Галла – сводного брата Юлиана). В моменты кризиса император мог теперь окружить себя своими братьями, как своеобразным государственным советом. Таким образом, равноапостольный севаст постарался сделать все возможное, чтобы обеспечить мир, согласие и добрые отношения между всеми представителями своей династии. И надеялся, что восстановил, таким образом, покой и порядок.
Однако восстановленные, вроде бы, благоверным августом согласие и «мир во всем мире» продолжались, увы, недолго. В 336 году – Юлиану еще не исполнилось восемь – на Востоке стали вновь собираться грозовые тучи. По прошествии сорока мирных лет, там снова замаячила персидская угроза. Ко двору императора Константина I прибыло посольство от «царя арийцев и неарийцев» Шапура, или Сапора (как его именовали римляне и греки) II Сасанида, «брата Солнца и Луны», имевшее «типично варварскую» наглость потребовать уступки римлянами персам завоеванных августом Диоклетианом месопотамских провинций, прилегающих к реке Тигр.
Царь царей Персии Шапур II, «брат Солнца и Лyны»
В случае отклонения августом Константином требований шаханшаха Шапура персы угрожали возобновлением давней войны, длившейся, казалось, бесконечно, с незапамятных времен, хотя, естественно, с периодическими перерывами. В этой нескончаемой войне, ведшейся с переменным успехом, римляне потерпели от персов целый ряд тяжелых поражений. В III веке второй по счету персидский «царь царей» из дома Сасанидов (считавших себя, как уже было сказано выше, потомками и преемниками древних персидских царей из династии Ахеменидов, чье царство было в IV веке до Р. X. завоевано Александром Македонским, и теперь жаждавших реванша и мести грекам, не особо отличая их от римлян) – Шапур I, сын основателя династии – Ардашира Папакана, одолел римского императора Гордиана III (павшего в бою с персами, если верить персидским источникам, или убитого собственными приближенными, если верить источникам римским), принудил к унизительному миру его преемника – благосклонного к христианам (и, вероятно, тайного христианина) императора Филиппа I Аравитянина (Араба), взял в плен преследовавшего своих подданных-христиан императора Валериана I, так и умершего в персидском плену, подвергаясь всевозможным унижениям и, возможно, замученного до смерти (его останки были возвращены персами римлянам только через три столетия) и совершил еще великое множество подвигов на поле брани.
«Царь царей» (шаханшах) Эраншахра (Персии) Ша(х)пур I Сасанид (справа, верхом на коне) торжествует победу над Римом. Слева – принужденный Шапуром к миру римский император Филипп I Араб (Аравитянин), преклонивший колено перед царским конем.
Стоящий человек, схваченный Шапуром за руку – правивший после Филиппа римский император Валериан I, взятый персами в плен в 260 году и умерший в плену (Иран, Накше-Рустам)
А теперь вот новый «царь царей» – Шапур II, воинственный потомок Шапура I – вознамерился пойти по стопам своего победоносного предка.
Император Константин I Великий отвечал, что не замедлит лично выразить «царю царей» Шапуру свои чувства. Равноапостольный царь действительно возглавил весной карательную экспедицию против персов, фактически – первый в истории Крестовый поход объединенного Римом Запада на Восток. Ибо с собою благочестивый и христолюбивый август Константин (бывший солнцепоклонник, считавшийся теперь, после объявления Христианства государственной религией всей Римской «мировой» державы, императором не только всех римлян, но и всех христиан – «дьявольская разница!», как сказал бы «наше всё» Александр Сергеевич Пушкин) взял в поход на нечестивого персидского царя (все еще поклонявшегося по старинке Солнцу, Свету и Огню) особый шатер, в котором размещалась переносная военно-полевая церковь. Римское войско сопровождала целая группа христианских епископов, готовых молиться за успех военной экспедиции севаста-крестоносца против огнепоклонников. Однако, когда на небе внезапно появилась необычайно крупная хвостатая звезда (или, по-нашему – комета), римские войска пали духом. Вскоре после появления этого небесного знамения, не предвещавшего римлянам, по общему мнению, ничего хорошего, христолюбивый август Константин ощутил первые признаки поразившей его болезни, помешавшей ему осуществить свой Крестовый поход, доведя его до победного конца, дабы все языцы ему покорилися…
Святой равноапостольный царь Константин I Великий
Согласно биографу равноапостольного царя римлян и всех христиан Евсевию Памфилу (о котором еще пойдет речь далее), угроза римского вторжения настолько встревожила шаханшаха Шапура II, что тот, умерив свою прыть и обуздав свою воинственность, прислал посольство, чтобы заключить мир с равноапостольным императором. Мирный договор между Шапуром II и Константином I был заключен до праздника Пасхи – светлого дня Христова Воскресения —, то есть до 4 апреля 337 года. Прибыв в район целебных источников под Еленополем в Вифинии, Константин Великий остался там на лечение. Пройдя курс лечения на водах, благочестивый август совершил паломничество к мощам святого мученика Лукиана Антиохийского, особенно почитавшегося его матерью Еленой (хотя и объявленного впоследствии еретиком; впрочем, до этого было еще далеко!). Однако ни водолечение, ни паломничество к чудотворной святыне не принесли облегчения занедужившему императору, испытывавшему все большие страдания и пораженному жестокой лихоманкой, то есть, горячкой. Равноапостольный царь Константин был спешно доставлен в одно из императорских имений, расположенное близ Анкиры (столицы современной Турции – Анкары) под Никомидией. Там благочестивый василевс промучился на одре болезни шесть недель и, наконец, почил в Бозе. К счастью, умирающий, испустивший дух в Духов день, День Святой Троицы, 22 мая 337 года, успел перед смертью принять Святое Крещение…
Профиль августа Константина II на монете
Профиль августа Константа I на монете
Профиль августа Констанция II на монетах
Не вполне ясным представляется вопрос, был ли терзаемый жестокими приступами лихорадки август Константин в здравом уме и твердой памяти, необходимой ему для осознанного решения вопроса о престолонаследии. Епископ Евсевий Никомидийский причастил готовящегося к переходу в Вечность автократора Святых Христовых Таин, помог ему совлечь с себя царскую багряницу и вытянуться во весь рост на смертном ложе в белом облачении, дабы, паче снега убелившись и очистившись от всех своих многочисленных грехов (а кто из нас, смертных, не грешен?) приложиться к роду отцов своих в ореоле святости. До сих пор нет четкого и ясного ответа на вопрос, успел ли равноапостольный царь сообщить Евсевию свою последнюю волю? Епископ так и не раскрыл этой тайны историографам своего времени, так что придется нам с уважаемым читателем смириться с мыслью, что последние мысли умирающего самодержца остались погребенными во мраке смертного часа Великого равноапостольного василевса Константина I…
Ливаний
Скоропостижная кончина первого христианского императора вызвала глубокое потрясение в сердцах его подданных. Август Константин Великий был очень любим своими воинами, и траурные церемонии, прежде всего – в армии, были весьма впечатляющими. Скорбящие военные трибуны доставили роскошные носилки с телом усопшего императора в Новый Рим, где воздаваемые равноапостольному царю, посмертные почести вылились в форменный апофеоз, иначе говоря – обожение. В одном из парадных залов Священного Палатия – блиставшего баснословным великолепием константинопольского императорского дворца – было выставлено тело августа Константина I, облаченного в порфиру, или багряницу (то есть расшитую золотом пурпурную одежду) и увенчанного драгоценной диадемой (все – в подражание «царям царей» враждебной Риму сасанидской Персии, чьи невероятно пышные придворный церемониал и облачение римские самодержцы постепенно, во все большей степени, заимствовали и перенимали у своих противников, пока, при Диоклетиане, не сравнялись с ними в роскоши и блеске), на высоком катафалке, в окружении золотых светильников и дорогих настенных драпировок. День и ночь у гроба стоял на часах регулярно сменявшийся почетный караул в сверкающих доспехах и шлемах с пышными султанами. Причем усопшему монарху воздавались те же самые почести, что и живому правящему императору. В назначенные часы на торжественную аудиенцию к тщательно набальзамированному сиятельному трупу являлись пышно разодетые сенаторы, магистраты, придворные вельможи. Созданием иллюзии, что севаст Константин Великий как бы все еще жив, царедворцы надеялись избежать интриг вокруг внезапно опустевшего престола до прибытия в Царьград одного из наследников умершего. «Август жил, август жив, август будет жить!»…Для отца Юлиана было бы смертельно опасно, отстранившись от происходящего, не принимать участия в траурных церемониях. И потому наш нобилиссимус патрициус был вынужден вместе со своими сыновьями воздавать почести мертвому императору. Эта пышная демонстрация сиятельного трупа была первой встречей Юлиана со смертью. Очень скоро ему предстояло соприкоснуться с ней еще ближе, можно даже сказать – вплотную…
Благоверный цезарь Констанций, хотя и извещенный своевременно надежными гонцами о смерти своего августейшего отца, не смог сразу же прибыть в Новый Рим на Босфоре. Вследствие чего ещё 2 августа 337 года был обнародован закон, принятый от имени умершего, но официально все еще живого Константина I. И лишь после этого начались похоронные торжества, которыми руководил прибывший, наконец-то, во Второй Рим цезарь Констанций. Он распорядился похоронить отца в базилике Святых апостолов. 9 сентября 337 года все три сына почившего в Бозе Константина Великого – цезари Константин, Констант и Констанций – были провозглашены верховными императорами – августами. С момента провозглашения таковыми они могли по праву считать себя единственными легитимными владыками разделенной на три части Римской «мировой» империи.
Почти одновременно начали, (несомненно, с ведома августа Констанция II), распространяться тревожные слухи. Утверждали, что в руке усопшего первого христианского императора, прикрытой погребальной мантией, якобы было зажат свиток (или табличка) с завещанием, в котором Константин утверждал, что был отравлен своими братьями, оставлял империю в наследство своим трем сыновьям и одновременно призывал их обезвредить самым надежным способом виновников его смерти от яда. Об этом упоминают восточноримские историки Филосторгий, Иоанн Зонара и Георгий Кедрин. Скорее всего, именно этими сознательно распущенными по указке «сверху» провокационными слухами (что согласуется и с сообщением святого Григория Назианзина) был вызван военный мятеж, жертвой которого пали братья первого римского императора-христианина. Результат распространения облыжных обвинений не замедлил себя ждать. Разъяренные воины ворвались в резиденцию братьев севаста Константина I, и на берегу Босфора разыгралась первая из династических «кровавых бань», повторявшихся там с тех пор с завидным постоянством вплоть до времен османских падишахов, сменивших в 1453 году на цареградском престоле своих «ромейских» предшественников). Взбунтовавшимися воинами были зверски убиты отец, дядя, старший родной брат и несколько двоюродных братьев Юлиана (в общей сложности ни много ни мало – одиннадцать человек). Его сводный брат Галл, прикованный к одру болезни, был пощажен убийцами (то ли сжалившимися над болящим юнцом, то ли решившими, что он все равно не жилец на белом свете). Юлиан был обязан спасением от ярости убийц, скорее всего, своему нежному возрасту. Как утверждал впоследствии ритор, учитель и друг Юлиана – Ливаний, или Либаний, в своем надгробном слове павшему на поле брани императору-философу: «И вот Константин (Великий – В. А.) умер от недуга, а чуть не весь род, отцов и детей одинаково, обошел меч. Этот же человек (Юлиан – В. А.) и старший брат его от того же отца (Галл – В. А.) избегают великого смертоубийства, при чем одного (Галла – В. А.) спасла болезнь, которая представлялась достаточно опасной, чтобы окончиться смертью, другого (Юлиана – В. А.) возраст, так как он только что был отнят от груди.». Впрочем, согласно другой, достаточно достоверной, версии, спасителями юного Юлиана стали христианские священники, вставшие живой стеной между насмерть перепуганным ребенком и медлившими в нерешительности или успевшими остынуть воинами, а затем тайными ходами проведшие мальчика под защиту храмового алтаря. Юлиан до конца жизни не мог изгладить из своей памяти события того кровавого дня. Много лет спустя он прямо намекал на него при описании потрясшего его вещего сновидения (а говоря по-современному – «инсайта»), в котором лучезарный бог Солнца открыл ему смысл его жизненной миссии. Как утверждал Юлиан, тот день был днем резни, в который, как и в отношении рода Эдипа, по божественному произволению свершилось погибельное проклятие, и наследие его, Юлиана, отцов было разделено мечом («последовала всеобщая резня, и демон осуществил на деле трагические проклятия, и лезвия мечей разделили их вотчину, и все преисполнилось смятения»). При этом, однако, Отступник приписал свое спасение не христианским (или, как он выражался, «галилейским») священникам, а светлому, благому богу Солнца, во имя и ради которого он отрекся от христианской веры – Гелиосу (фактически слившемуся к описываемому времени в представлениях верующих в него язычников с Аполлоном), выведшему маленького царевича целым и невредимым из убийственной резни, кровопролития и смуты.
Глава третья
Епископ Евсевий и евнух Мардоний
После того, как пронесшаяся над Юлианом буря улеглась, его миром стали приходящие в запустение дворцы и тихие улицы Никомидии (сегодняшнего турецкого Измита), расположенной на берегу Астакского залива на азиатской стороне Пропонтиды (сегодняшнего Мраморного моря), в северо-западной части Малой Азии. Туда Его Вечность август Констанций II, новый самодержец Восточной части Римской «мировой» империи, не решившийся «зарезать маленького царевича», приказал сослать осиротевшего мальчугана после убийства его злополучного отца.
Август-арианин Констанций II
В описываемое время римская (Малая) Азия, или Асия, вот уже полторы тысячи лет была очагом и средоточием культуры и культурных ценностей, наук, ремесел, знаний. Не только центром греческой колонизации, но и питательной средой для греческой культуры и образования. Задолго до Афин достигших расцвета и невиданных высот развития в славном и богатом городе Милете, героическое сопротивление которого персам было в свое время воспето афинянином Фринихом в трагедии «Падение Милета». Производившей на свет в каждом поколении гигантов духа и глубоких мыслителей. Рождавшихся под солнцем Азии и, наряду с эллинской кровью, хранивших в своих генах здоровое, могучее наследие пастухов Анатолийского плоскогорья и дикое непокорство киликийских мореходов. Эта часть света, куда древние греческие города-государства – полисы – Аттики и Пелопоннеса[43 - Пелопоннес – южная часть материковой Греции, позднейший полуостров Морея.] издавна высылали своих неусидчивых «пассионариев», «людей длинной воли» (как выразился бы Лев Николаевич Гумилев), в куда большей степени, чем так называемая Великая Греция на Тринакрии-Сицилии и в Авзонии-Апулии[44 - Апулия – Южная Италия.], способствовала сохранению высокой эллинской культуры в ее полном блеске. Культуры, оказавшейся гораздо долговечней латинской Римской империи. И придавшей Второму Риму, в конце концов, чисто греческий характер. Именно в (Малой)
Азии, на восточных берегах Средиземного моря (именуемого «скромными» римлянами просто «нашим морем» – «маре нострум»), находилась духовная цитадель эллинизма, устоявшего под гнетом неотесанных мужланов с тибрских берегов. Дав повод классику римской поэзии Квинту Горацию Флакку сказать: «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила». Иными словами, некультурные римляне, победившие греков силой оружия, переняли несравненно более высокую культуру побежденных. Римляне (естественно, в первую очередь – принадлежавшие к высшим слоям общества) начали «денно и нощно, не выпуская из рук» (по слову того же Горация), изучать греческую письменность, греческий язык (как средство международного общения, подобно английскому в наши дни), литературу, философию, покупать греков-рабов – для обучения своих детей, перенимать греческие обычаи, моду и правила жизни. Именно «из греческой школы вышло такое дивное создание римского гения, как речи Цицерона и поэзия Вергилия, с Энеидой во главе», как писал русский философ, богослов, литературный и музыкальный критик, композитор Владимир Николаевич Ильин. Мысль о родстве и равенстве римлян и эллинов во всех отношениях активно проводилась в жизнь на самых разных уровнях и в самых разных сферах государственной и общественной жизни – достаточно указать хотя бы на «Сравнительные жизнеописания» выдающихся греков и римлян, вышедшие из-под вдохновенного пера Луция Местрия Плутарха Херонейского, о которых еще пойдет речь далее. Пламенным и убежденным приверженцем мнения о равноценности, тождестве, идентичности грехов и римлян, был и Юлиан, утверждавший, без тени сомнения (и в то же время явно отдавая эллинам приоритет в этом «тандеме»):
«Ибо римляне не только относятся к роду эллинов, но и религиозные установления, и благая вера в богов, которую они утвердили и охраняют от начала и до конца – эллинские. Да и политическое устроение у них ничуть не хуже, нежели у лучших из эллинских полисов, если только не наилучшее из всех, какие когда-либо осуществлялись на практике. Поэтому, думаю, наш город (Рим – В. А.) эллинский и по роду, и по политическому устроению».
В конечном счете, эллинство добилось перевеса и триумфа над «латинством» (хоть «триумф» и римское понятие!), на тысячу лет пережив, в Малой Азии и Греции, римскую цивилизацию на италийской земле.
Но это так, к слову…
Никомидия давно уже не была императорской резиденцией, как во времена императоров Диоклетиана и Лициния (да и Константина Великого, до переноса им столицы империи в бывший Византий). Верховные владыки римлян посещали Никомидию лишь изредка, время от времени, но, тем не менее, она продолжала не только по традиции считаться, но и реально оставаться одной из «жемчужин» римской Азии. Внушительным видом своих бесчисленных монументов, здания сената, крытых галерей и колоннад, храмов, терм (или, по-нашему – общественных бань) и театров, мощных стен и обширных портовых сооружений она еще издалека приводила в восхищение прибывавших в Никомидию перегринов – путешественников, как только их взорам представали на горизонте, после горного пейзажа, очертания города. В этом красивом городе было нетрудно следить за ссыльными таким образом, чтобы те не замечали слежки.
Изгнанный из столицы империи, лишенный всего и находившийся под угрозой испытать на себе все еще не улегшийся гнев своих недоброжелателей мальчик Юлиан был взят под покровительство епископом ставшего его пристанищем города – Евсевием Никомидийским. Епископ понимал, что, согласившись взять на себя заботы о духовном окормлении и воспитании одного из последних Флавиев и в то же время осуществлять над ним неусыпный надзор, он оказал бы августу Востока Констанцию II неоценимую, поистине дружескую услугу. Поэтому он и согласился взять на себя столь ответственную задачу. Евсевий с самого начала занял благожелательную позицию в отношении Юлиана, оказывая ему всяческие знаки внимания. Больше нам об их отношениях ничего не известно, ибо Юлиан не оставил никаких воспоминаний и высказываний о епископе, пробывшем некоторое время его опекуном и выбравшем для него первых учителей.
Тем не менее, отношения между ними, скорее всего, не были слишком доверительными.
Неподалеку от Евсевия жила мать Василины, бабка Юлиана – богатая, влиятельная, «великосветская» дама. Эта почтенная матрона была, видимо, безмерно рада и прямо-таки счастлива представившейся ей возможности растить внука, напоминавшего ей любимую дочь, которой она так рано лишилась. И потому она относилась к внуку с той нежностью, которую пожилые люди испытывают к молодой поросли своего рода. Любящая бабка очень скоро предоставила в распоряжение юного царевича красивую, со всеми удобствами, виллу, дав ему возможность предаваться тихим радостям, указывающим на проявившиеся уже в раннем возрасте мечтательные и чувствительные стороны его натуры. Возможно, именно в окружении своей бабки Юлиан познакомился со своим дядей по матери, который впоследствии, подобно ему самому, стал отступником от христианства.
Насколько скуп и сдержан был Юлиан в своих высказываниях о своем опекуне епископе Евсевии, настолько же подробно он высказывался о своем воспитателе Мардонии, прибывшем к нему из Никомидии. Этот уже упомянутый нами выше старый евнух-«скиф» (то есть, скорее всего – гот) был, как, несомненно, еще помнит уважаемый читатель, в свое время «чтецом», то есть учителем, Василины. Тем проще и легче было ему теперь беседовать с мальчиком и отвечать на его вопросы, подобно тому, как он когда-то беседовал с его матерью и отвечал на ее вопросы. Не удивительно, что Мардоний с большим сочувствием относился к царственному сироте, чье воспитание было ему поручено и в чьих чертах гот очевидно узнавал черты его безвременно ушедшей матери, своей сравнительно недавней ученицы. Юлиан, со своей стороны, все больше привязывался к нему, и вполне понятно, что он позволял Мардонию оказывать на свой детский ум все большее влияние. В данной связи необходимо указать на следующий характерный момент в воспитании мальчика: в то время, как самые знаменитые из его современников, прославленных впоследствии христианской церковью в лике святых – два Григория (Нисский и Назианзин), Василий Великий, Иоанн Златоуст и Блаженный Августин – были обязаны своими важнейшими переживаниями и впечатлениями своему семейному кругу и, в особенности своим матерям, Юлиан, рано лишившийся семьи, стал, так сказать, хоть и не плотским, но духовным сыном своего учителя, под чьим умелым, чутким руководством «в науки он вперил ум, алчущий познаний» (да будет нам позволено использовать крылатое выражение бессмертного Александра Сергеевича Грибоедова из его столь же бессмертной комедии «Горе от ума»). Юлиан всегда, неизменно отзывался о Мардонии в крайне, подчеркнуто уважительном и почтительном тоне, называя его своим воспитателем и учителем, введшим его в притвор, или придел, святого храма философии. Вне всякого сомнения, Мардоний сумел пробудить в своем царственном питомце благородное воодушевление и преклонение перед величием греческой культуры, ставшее в дальнейшем главной, сильнейшей движущей силой и, так сказать, пружиной всей его деятельности. Мардоний был добродетельным старцем, свободным от человеческих слабостей, целиком и полностью, с величайшим чувством ответственности, посвятившим себя своей задаче (чем он весьма отличался – в положительную сторону! – от типа достаточно распространенного беспутного, безнравственного и подлого учителя, известного нам из сочинений античных сатириков). «Скиф» был сведущ во всех тогдашних науках, обладал хорошим вкусом и был исполнен духовного огня, вдохновляющего всех подлинно добрых учителей и воспитателей. Он оберегал Юлиана от опасностей изнеженного образа жизни, служил ему в качестве репетитора и руководил им при выборе книг для чтения. Как в свое время – Василине, так и теперь – ее единственному сыну Юлиану – просвещенный гот Мардоний демонстрировал, прежде всего, красоты поэтических творений Гомера и Гесиода (которые, по Мережковскому, не просто читал вслух, а пел, подобно древнегреческим рапсодам-гомеристам), формируя на основе их бессмертного (для всех образованных людей грекоримского культурного пространства) творчества духовную жизнь мальчика и его литературный вкус. «Скиф»-эллинист пробудил в своем подопечном, впитывавшем знания подобно губке, не только понимание смысла поэтических строф, которые ученик должен был заучивать наизусть, но и подлинную любовь к поэзии, радость наслаждения чтением ее шедевров, и сумел приучить его не довольствоваться антологиями, содержащими лишь отдельные отрывки из произведений классиков, но и обращаться от сборников к самим первоисточникам, из которых эти фрагменты были извлечены. Именно данным обстоятельством объясняется тот достойный упоминания факт, что Юлиан знал наизусть и мог цитировать по памяти множество литературных произведений, не встречавшихся в современных ему школьных учебниках и не входивших в обычный круг чтения образованных людей его эпохи. Особенно примечательным представляется то обстоятельство, что Юлиан цитировал стихи Гесиода, дошедшие до нас только в его выдержках..
На основании сохранившихся и дошедших до нас высказываний Юлиана о его отношениях с Мардонием, можно составить себе представление и о том, каким Юлиан виделся в своих детских воспоминаниях самому себе – послушным, прилежным, понятливым, пытливым, одержимым стремлением к знаниям, скромно держащим глаза опущенными, долу, шел мальчик вслед за своим воспитателем привычным путем от дворца до школы – удивительно рано повзрослевший и достигший зрелости ребенок с серьезным и задумчивым выражением на лице, у которого вошло в привычку держать голову склоненной к земле.
Однако стремление к дружеской склонности, доказательство которому он впоследствии так часто давал своим друзьям, нередко заставляло его, послушно следующего вслед за своим учителем, ощущать себя очень одиноким, и тогда его прогулки с Мардонием казались ему подчиненными столь строгому распорядку, что этот распорядок приводил его в отчаяние. Если верить воспоминаниям Юлиана, ему очень часто хотелось после окончания школьных занятий сходить со своими товарищами в цирк или в театр. Но всякий раз суровый воспитатель одергивал его, строгим тоном указывая на то, что подобным пустым развлечениям следует предпочесть учебу. И Юлиану приходилось подавлять свои тайные желания (а возможно – даже глотать слезы обиды и разочарования), печально и разочарованно провожать глазами смеющуюся веселую кампанию, уходящую развлекаться… увы, без него. Порой, как он признавался впоследствии, у него даже возникало желание возроптать и отказать учителю в повиновении…
В данной связи представляется не лишним процитировать дошедшее до нас сатирическое сочинение самого Юлиана, уже бывшего, на момент его написания, самодержавным властелином Римской «мировой» империи, «Антиохийцам, или Брадоненавистник (либо «Враг бороды», по-гречески – Мисопогон – В. А.)»:
«Я <…>, еще когда ходил в школу, был научен своим наставником смотреть в землю; что же до театра, то я никогда не ходил в него прежде, чем волосы на моем подбородке стали длиннее, чем на голове, и даже достигнув этих лет, никогда не ходил я в театр по собственному желанию и побуждению, но был там три или четыре раза по приказу правителя, моего родственника и человека мне близкого – я был принужден, «являя благосклонность Патроклу» (то есть, из любви и уважения к близкому человеку – согласно «Илиаде» Гомера, герой Ахилл был на все готов ради своего друга Патрокла – В. А.). Это было, когда я был еще частным лицом, и, следовательно, когда это мне было простительно. Итак, представляю <…> моего наставника, сварливость которого <…> (не давала – В. А.) мне покоя наставлениями даже на пути [в школу]. Результат его действий отпечатался в моей душе, чего я не желал тогда, хотя он был весьма усерден, прививая мне все это, как если бы творил нечто прекрасное; дикость он называл величием, бесчувственность – целомудрием, непреклонность к желаниям и отказ достигать счастья путем осуществления желаний он называл мужественностью. Он был варвар, клянусь богами и богинями, родом скиф (то есть, в реалиях IV столетия – гот – В. А.), тезка человека, склонившего Ксеркса двинуться на Элладу (то есть первого, древнеперсидского, Мардония; в данном случае Юлиан применяет характерный прием софистов – использовать иносказания, не называя имени прямо – В. А.). Более того, он был евнух – слово, которое двадцать месяцев назад (в правление севаста-арианина Констанция II, при дворе которого евнухи пользовались огромным влиянием – В. А.) почиталось и постоянно звучало, хотя ныне употребляется как оскорбление и ругательство (евнухи были изгнаны пришедшим к власти Юлианом, сделавшим исключение для Мардония – В. А.). Воспитан он был стараниями моего дедушки (Юлия Юлиана – В. А.), чтобы провести мою мать (упомянутую выше Василину – В. А.) через поэмы Гомера и Гесиода. А поскольку она, еще девочкой спасенная не имеющей матери Девой (вечно девственной богиней Афиной, вышедшей в полном расцвете сил и лет из головы своего отца – верховного бога эллинов Зевса Тучегонителя— В. А.) от множества приключавшихся ей несчастий, и дав мне жизнь – первому и единственному ее ребенку – спустя несколько месяцев умерла, я был отдан ему после того, как мне исполнилось семь лет. Тогда-то он и склонил меня к таким своим взглядам, с этих пор водил он меня в школу одной дорогой; поскольку ни сам он не хотел знать ничего иного, ни мне не позволял идти другим путем».
К счастью для Юлиана, Мардоний, несмотря на брошенные ему его бывшим подопечным «задним числом» упреки в излишней, чрезмерной сварливости, в действительности был не бездушным и черствым педантом, а истинно добрым пастырем (если использовать христианскую терминологию). Всякий раз ему удавалось утешить горюющего мальчугана интересными книгами, в которых он учил своего питомца находить все новые и новые источники чистых и подлинных радостей. В соответствии с установками строгой философской школы стоиков[45 - Стоики – философское течение, сложившееся в Греции около 300 года до Р. X. и исходившее из концепции предопределенности природного мира в его движении; поэтому на первый план для стоиков выдвигалась этическая проблематика индивидуального действия. Название «стоики» происходит от «Пестрого (Расписного, Разноцветного) портика» (греч. Стоа пойкиле) в Афинах, в котором начал проповедовать свое учение основатель стоической школы Зенон из Кития, или Китиона.], старый гот терпеливо и убедительно разъяснял Юлиану, что тому, кто способен подходить к чтению не поверхностно, а вдумчиво и глубоко, Гомер дает возможность насладиться зрелищами, несравненно более великолепными, чем непритязательные театральные и цирковые представления, которыми развлекается подлый люд, низкая необразованная чернь.
«Он говорил мне часто – это так, клянусь Зевсом и Музами! – в то время, когда был педагогом при мне, еще мальчонке: “Никогда не позволяй толпе твоих сверстников, несущихся в театр, склонить тебя к страстному желанию подобных зрелищ. Не влечешься ли ты к скачкам? Об этом справедливейшим образом сказано у Гомера, возьми книгу и изучи. Слышал ли ты о тех, что изображают путем пантомимы? Оставь их, у феакийцев[46 - Феакийцы (феаки) – в поэме Гомера «Одиссея» легендарный блаженный народ корабельщиков, переселившейся из мифической Гиперийской («Верхней», «Запредельной») земли (Гипербореи?) на остров Схерию (который одни исследователи считают мифическим, другие же отождествляют с позднейшим греческим островом Керкирой, ныне – Корфу) и гостеприимно принявший скитальца Одиссея, потерпевшего кораблекрушение.] юноши делают это лучше (ибо исполняют, в отличие от расслабленных, женственных мимов эпохи Юлиана, настоящие, мужественные танцы – В. А.). Из кифаредов ты имеешь (в поэме Гомера – В. А.) Фемия, из певцов – Демодока [47 - Кифареды пели, аккомпанируя себе на кифаре (струнном инструменте вроде лиры); Фемий был кифаредом при дворе Одиссея на острове Итака, Демодок – у феакийцев.]. Более того, у Гомера есть много ростков, более сладостных для слуха, чем то, что мы можем увидеть:
По легенде, императору Аврелиану в сонном видении явился философ-неопифагореец и теург I века Аполлоний Тианский, повелевший ему построить в Риме на Тибре храм Солнца. Господин и бог Аврелиан выполнил это повеление теурга, ввел в Риме культ Солнца и сам стал первосвященником этого культа (не привившегося, однако, в гражданской среде, в отличие от римской армии, где он тесно переплелся и фактически слился с культом иранского божества света, солнца и правды – Митры).
Заметим также, что язычники в своих молитвах именовали «Солнце, в пути неистомное» (как выражался Гомер в «Илиаде») не только «непобедимым», но и «праведным» (справедливым) – и это полностью соответствовало восприятию христианами Христа как «Солнца праведного», или «Солнца Правды»[39 - В христианских гимнах и молитвах Иисус Христос именовался также «Умным Солнцем».]. Не случайно в Православном тропаре Рождества Христова по сей день поется: «Рождество Твое Христе Боже наш, восс!я мирови свет разумный, внемъ бо иже звездамъ служапци, звездою поучахуся, Тебе кланятися Солнцу праведному, и Тебе ведети свыше Востокъ, Господи, слава Тебе».
Святой Дионисий Ареопагит (по преданию, обращенный в христианство в Афинах самим святым Павлом – «апостолом язычников») писал: «Ее (Причину всего, то есть Бога – В. А.) называют «солнцем», «звездой», «огнем»…» («О Божественных именах»).
Константин Великий и образ Sol Invictus. Медальон. 313 г.
А один из прозванных «великими каппадокийцами» святителей и столпов Христовой Веры, современников Юлиана – святой Григорий Богослов (Назианзин): «Солнце – образ (Бога – В. А.) Сына, Небо – образ (Бога – В. А.) Отца».
«Ведь в древности праздник солнца приходился именно на зимнее солнцестояние и именно в этот день, день Sol Invictas, постановил святой (император – В. А.) Константин праздновать Рождество Солнца Правды (Иисуса Христа – В. А.), которому поклонились цари-волхвы, цари Востока, цари от царя Мелхиседека…» (В. И. Карпец. «Родословие Кощея Бессмертного»).
В-общем, «бывают странные сближенья», говоря словами поэта. Но довольно об этом…
Новый Рим был блестящим и оживленным городом. «Владыка обитаемого мира» осыпал свою столицу на Босфоре бесчисленными знаками своей милости и привилегиями. «Варвары» были вытеснены за пределы «мировой» державы или казались покоренными римским оружием, интриги внутри императорского дома вроде бы прекратились. В 324 году благочестивый деспот приказал убить своих соперников в борьбе за императорский престол – Мартиниана (Марциниана) и Лициния (поверившего на слово и сдавшегося Константину I, обещавшему сохранить ему жизнь; впрочем, восточноримский историк готского происхождения Иордан, в отличие от других, более ранних, историков – к примеру, Аврелия Виктора – утверждал впоследствии, что Лициний был убит не по приказу Константина, а восставшими германцами-готами, своими бывшими союзниками, которые пронзили лишенного власти императора-неудачника мечом в городе Фессалонике… «от имени Константина-победителя») —, затем, в 326 году – устранить сына Лициния, но на этом не остановился.
Цезарь Флавий Юлий Крисп, старший сын Константина I Великого, казненный своим венценосным отцом
В приступе ревности (скорее всего – неоправданной) равноапостольный царь Константин повелел казнить своего собственного сына – цезаря Флавия Юлия Криспа, а после устранения Криспа – удушить горячим паром в бане свою супругу августу Фавсту (Фаусту, дочь свирепого гонителя христиан Максимиана Геркулия), якобы заподозренную им в преступной любовной связи с пасынком, уже павшим жертвой отцовского гнева. Полагая, что достаточно обезопасил этими убийствами свой престол и свое супружеское ложе, мстительный император счел возможным перейти к более умеренной и милосердной внутренней политике, постепенно допуская к власти своих родственников, сумевших уцелеть. Ибо вознамерился сделать императорскую власть наследственной, рассматривая Римскую империю, как наследственное достояние своего дома и рода (домен, или, говоря по-русски – вотчину). В 333 году сын Феодоры – цензор (ценсор)[40 - Цензор, или ценсор (кенсор) – должностное лицо в Древнем Риме, осуществлявшее главным образом проведение ценза. Должность была учреждена первоначально для регулирования податей и военной службы, затем – и для надзора за нравами, финансового контроля: отдачи на откуп общественных земель, государственных доходов и поземельных податей, а следовательно, и рудников, таможенных пошлин, торговли солью и т. д., наблюдение за всеми оплачиваемыми казною вещами и поставками, например за вооружением войск, их перевозкой и др.; надзором за сооружением и содержанием общественных зданий и заведений. После двух цензоров времен императора Августа, цензорские полномочия принимал на себя только сам принцепс. Начиная с Домициана, император получал цензорские полномочия пожизненно. В позднеимперскую эпоху домината должность цензора жаловалась императором кому-либо из приближенных в качестве почетного титула (подобно званиям консула, консуляра, патриция или сенатора).] Далмаций – получил инсигнии, сиречь знаки отличия консула (высшего магистрата-чиновника) – фасции (связки розог со вложенной в них секирой)[41 - Фасции (лат. fasces), иначе фаски, фасцы, также ликторские пучки – пучки розог, или прутьев, перетянутые красным шнуром или связанные ремнями. Заимствованный римлянами у этрусков атрибут власти древнеримских царей-рексов, в эпоху Римской республики – высших магистратов. Первоначально символизировали право магистрата добиваться исполнения своих решений силой. Вне пределов города в фасции закреплялся топор, или секира – символ права магистрата казнить и миловать подданных (внутри городов высшей инстанцией для смертных приговоров был римский народ, то есть народное собрание – комиции – римских граждан). Право ношения фасций закреплялось за особыми госслужащими – ликторами. Впоследствии ликторские фасции стали символизировать государственное и национальное единство.] и трабею[42 - Трабея – короткий плащ, служивший у этрусков знаком царской власти. Трабея была весьма древним видом тоги и служила одеждой членов жреческих коллегий салиев и авгуров. Римлянами использовалось три вида трабеи: 1)пурпуровая – одежда (на статуях) богов; 2) пурпуровая с белыми просветами – одеяние рексов (царей); з)с ярко-красными горизонтальными полосами и пурпуровой каймой – одеяние авгуров. Впоследствии трабею с ярко-красными горизонтальными полосами по торжественным случаям носили римские цари, всадники и авгуры, а затем – консулы. Императорская трабея стала полностью пурпуровой.], после чего сын и тезка Далмация был назначен цезарем.
Римский кoнсyл в трабее
В 335 году, через пять лет после возвращения отца Юлиана в «царственный град» на Босфоре, по случаю тридцатилетия восшествия императора Константина I на престол, имя Юлия Констанция было внесено в консульские фасты (фасти консулярес – ежегодные списки консулов – высших магистратов, то есть высших римских государственных чиновников), и с «благороднейшим патрицием» – нобилиссимус патрициус – стали обращаться, как с царевичем, или, если использовать терминологию не Римской, а претендовавшей на ее преемство Российской империи – «князем крови императорской». Разделение власти в рамках императорской фамилии, осуществленное в это же время императором Константином I, можно считать первым из задуманных им проектов раздела Римской «мировой» империи (которую он сам так долго собирал воедино) между своими ближайшими родственниками. В самом выгодном и преимущественном положении оказались три провозглашенных цезарями родных сына и наследника Константина I – Константин Младший (будущий Константин II), Констанций и Констант. При этом следует подчеркнуть, что, хотя равноапостольный царь (оставивший себе Фракию и Грецию – современный Балканский полуостров) передал каждому из них в управление и наследство его удел (Константину Младшему – Испанию, Галлию и Британию; Констанцию – Азию и Египет; Константу же – Италию, Иллирию и Африку), они, цезари, по его замыслу, должны были оставаться любящими друг друга братьями, а Римская империя – единым целым. Иначе непонятно, чего ради Константин I Великий всю свою многотрудную жизнь занимался собиранием римских земель. Не остался обездоленным и цезарь Далмаций, которому была поручена «оборона готского берега Дануба». Брат Далмация, Ганнибалиан, получил власть над Понтом и Арменией со столицей в Цезарее (Кесарии) Каппадокийской с пышным титулом «царя царей» (который носили, в честь своих царственных персидских предков, правители эллинистического государства Понт, происходившие, по одной линии – от владык Древне-Персидской державы Ахеменидов, а по другой – от завоевавшего эту Древне-Персидскую державу Александра Македонского) и весьма заманчивой перспективой со временем распространить свою власть на (Ново-) Персидскую державу Сасанидов (также считавшихся потомками древних Ахеменидов) – Эраншахр («Арийское царство»), которую для этого, правда, еще предстояло завоевать и романизировать. Связи внутри этого правящего сообщества Вторых Флавиев были дополнительно упрочены путем заключения двух династических брачных союзов. Одна из дочерей Юлия Констанция, сводная сестра Юлиана, вышла замуж за сына равноапостольного царя – цезаря Констанция. Ганнибалиану же август Константин Великий обещал руку своей собственной дочери, Констанции (которой было суждено впоследствии стать супругой Галла – сводного брата Юлиана). В моменты кризиса император мог теперь окружить себя своими братьями, как своеобразным государственным советом. Таким образом, равноапостольный севаст постарался сделать все возможное, чтобы обеспечить мир, согласие и добрые отношения между всеми представителями своей династии. И надеялся, что восстановил, таким образом, покой и порядок.
Однако восстановленные, вроде бы, благоверным августом согласие и «мир во всем мире» продолжались, увы, недолго. В 336 году – Юлиану еще не исполнилось восемь – на Востоке стали вновь собираться грозовые тучи. По прошествии сорока мирных лет, там снова замаячила персидская угроза. Ко двору императора Константина I прибыло посольство от «царя арийцев и неарийцев» Шапура, или Сапора (как его именовали римляне и греки) II Сасанида, «брата Солнца и Луны», имевшее «типично варварскую» наглость потребовать уступки римлянами персам завоеванных августом Диоклетианом месопотамских провинций, прилегающих к реке Тигр.
Царь царей Персии Шапур II, «брат Солнца и Лyны»
В случае отклонения августом Константином требований шаханшаха Шапура персы угрожали возобновлением давней войны, длившейся, казалось, бесконечно, с незапамятных времен, хотя, естественно, с периодическими перерывами. В этой нескончаемой войне, ведшейся с переменным успехом, римляне потерпели от персов целый ряд тяжелых поражений. В III веке второй по счету персидский «царь царей» из дома Сасанидов (считавших себя, как уже было сказано выше, потомками и преемниками древних персидских царей из династии Ахеменидов, чье царство было в IV веке до Р. X. завоевано Александром Македонским, и теперь жаждавших реванша и мести грекам, не особо отличая их от римлян) – Шапур I, сын основателя династии – Ардашира Папакана, одолел римского императора Гордиана III (павшего в бою с персами, если верить персидским источникам, или убитого собственными приближенными, если верить источникам римским), принудил к унизительному миру его преемника – благосклонного к христианам (и, вероятно, тайного христианина) императора Филиппа I Аравитянина (Араба), взял в плен преследовавшего своих подданных-христиан императора Валериана I, так и умершего в персидском плену, подвергаясь всевозможным унижениям и, возможно, замученного до смерти (его останки были возвращены персами римлянам только через три столетия) и совершил еще великое множество подвигов на поле брани.
«Царь царей» (шаханшах) Эраншахра (Персии) Ша(х)пур I Сасанид (справа, верхом на коне) торжествует победу над Римом. Слева – принужденный Шапуром к миру римский император Филипп I Араб (Аравитянин), преклонивший колено перед царским конем.
Стоящий человек, схваченный Шапуром за руку – правивший после Филиппа римский император Валериан I, взятый персами в плен в 260 году и умерший в плену (Иран, Накше-Рустам)
А теперь вот новый «царь царей» – Шапур II, воинственный потомок Шапура I – вознамерился пойти по стопам своего победоносного предка.
Император Константин I Великий отвечал, что не замедлит лично выразить «царю царей» Шапуру свои чувства. Равноапостольный царь действительно возглавил весной карательную экспедицию против персов, фактически – первый в истории Крестовый поход объединенного Римом Запада на Восток. Ибо с собою благочестивый и христолюбивый август Константин (бывший солнцепоклонник, считавшийся теперь, после объявления Христианства государственной религией всей Римской «мировой» державы, императором не только всех римлян, но и всех христиан – «дьявольская разница!», как сказал бы «наше всё» Александр Сергеевич Пушкин) взял в поход на нечестивого персидского царя (все еще поклонявшегося по старинке Солнцу, Свету и Огню) особый шатер, в котором размещалась переносная военно-полевая церковь. Римское войско сопровождала целая группа христианских епископов, готовых молиться за успех военной экспедиции севаста-крестоносца против огнепоклонников. Однако, когда на небе внезапно появилась необычайно крупная хвостатая звезда (или, по-нашему – комета), римские войска пали духом. Вскоре после появления этого небесного знамения, не предвещавшего римлянам, по общему мнению, ничего хорошего, христолюбивый август Константин ощутил первые признаки поразившей его болезни, помешавшей ему осуществить свой Крестовый поход, доведя его до победного конца, дабы все языцы ему покорилися…
Святой равноапостольный царь Константин I Великий
Согласно биографу равноапостольного царя римлян и всех христиан Евсевию Памфилу (о котором еще пойдет речь далее), угроза римского вторжения настолько встревожила шаханшаха Шапура II, что тот, умерив свою прыть и обуздав свою воинственность, прислал посольство, чтобы заключить мир с равноапостольным императором. Мирный договор между Шапуром II и Константином I был заключен до праздника Пасхи – светлого дня Христова Воскресения —, то есть до 4 апреля 337 года. Прибыв в район целебных источников под Еленополем в Вифинии, Константин Великий остался там на лечение. Пройдя курс лечения на водах, благочестивый август совершил паломничество к мощам святого мученика Лукиана Антиохийского, особенно почитавшегося его матерью Еленой (хотя и объявленного впоследствии еретиком; впрочем, до этого было еще далеко!). Однако ни водолечение, ни паломничество к чудотворной святыне не принесли облегчения занедужившему императору, испытывавшему все большие страдания и пораженному жестокой лихоманкой, то есть, горячкой. Равноапостольный царь Константин был спешно доставлен в одно из императорских имений, расположенное близ Анкиры (столицы современной Турции – Анкары) под Никомидией. Там благочестивый василевс промучился на одре болезни шесть недель и, наконец, почил в Бозе. К счастью, умирающий, испустивший дух в Духов день, День Святой Троицы, 22 мая 337 года, успел перед смертью принять Святое Крещение…
Профиль августа Константина II на монете
Профиль августа Константа I на монете
Профиль августа Констанция II на монетах
Не вполне ясным представляется вопрос, был ли терзаемый жестокими приступами лихорадки август Константин в здравом уме и твердой памяти, необходимой ему для осознанного решения вопроса о престолонаследии. Епископ Евсевий Никомидийский причастил готовящегося к переходу в Вечность автократора Святых Христовых Таин, помог ему совлечь с себя царскую багряницу и вытянуться во весь рост на смертном ложе в белом облачении, дабы, паче снега убелившись и очистившись от всех своих многочисленных грехов (а кто из нас, смертных, не грешен?) приложиться к роду отцов своих в ореоле святости. До сих пор нет четкого и ясного ответа на вопрос, успел ли равноапостольный царь сообщить Евсевию свою последнюю волю? Епископ так и не раскрыл этой тайны историографам своего времени, так что придется нам с уважаемым читателем смириться с мыслью, что последние мысли умирающего самодержца остались погребенными во мраке смертного часа Великого равноапостольного василевса Константина I…
Ливаний
Скоропостижная кончина первого христианского императора вызвала глубокое потрясение в сердцах его подданных. Август Константин Великий был очень любим своими воинами, и траурные церемонии, прежде всего – в армии, были весьма впечатляющими. Скорбящие военные трибуны доставили роскошные носилки с телом усопшего императора в Новый Рим, где воздаваемые равноапостольному царю, посмертные почести вылились в форменный апофеоз, иначе говоря – обожение. В одном из парадных залов Священного Палатия – блиставшего баснословным великолепием константинопольского императорского дворца – было выставлено тело августа Константина I, облаченного в порфиру, или багряницу (то есть расшитую золотом пурпурную одежду) и увенчанного драгоценной диадемой (все – в подражание «царям царей» враждебной Риму сасанидской Персии, чьи невероятно пышные придворный церемониал и облачение римские самодержцы постепенно, во все большей степени, заимствовали и перенимали у своих противников, пока, при Диоклетиане, не сравнялись с ними в роскоши и блеске), на высоком катафалке, в окружении золотых светильников и дорогих настенных драпировок. День и ночь у гроба стоял на часах регулярно сменявшийся почетный караул в сверкающих доспехах и шлемах с пышными султанами. Причем усопшему монарху воздавались те же самые почести, что и живому правящему императору. В назначенные часы на торжественную аудиенцию к тщательно набальзамированному сиятельному трупу являлись пышно разодетые сенаторы, магистраты, придворные вельможи. Созданием иллюзии, что севаст Константин Великий как бы все еще жив, царедворцы надеялись избежать интриг вокруг внезапно опустевшего престола до прибытия в Царьград одного из наследников умершего. «Август жил, август жив, август будет жить!»…Для отца Юлиана было бы смертельно опасно, отстранившись от происходящего, не принимать участия в траурных церемониях. И потому наш нобилиссимус патрициус был вынужден вместе со своими сыновьями воздавать почести мертвому императору. Эта пышная демонстрация сиятельного трупа была первой встречей Юлиана со смертью. Очень скоро ему предстояло соприкоснуться с ней еще ближе, можно даже сказать – вплотную…
Благоверный цезарь Констанций, хотя и извещенный своевременно надежными гонцами о смерти своего августейшего отца, не смог сразу же прибыть в Новый Рим на Босфоре. Вследствие чего ещё 2 августа 337 года был обнародован закон, принятый от имени умершего, но официально все еще живого Константина I. И лишь после этого начались похоронные торжества, которыми руководил прибывший, наконец-то, во Второй Рим цезарь Констанций. Он распорядился похоронить отца в базилике Святых апостолов. 9 сентября 337 года все три сына почившего в Бозе Константина Великого – цезари Константин, Констант и Констанций – были провозглашены верховными императорами – августами. С момента провозглашения таковыми они могли по праву считать себя единственными легитимными владыками разделенной на три части Римской «мировой» империи.
Почти одновременно начали, (несомненно, с ведома августа Констанция II), распространяться тревожные слухи. Утверждали, что в руке усопшего первого христианского императора, прикрытой погребальной мантией, якобы было зажат свиток (или табличка) с завещанием, в котором Константин утверждал, что был отравлен своими братьями, оставлял империю в наследство своим трем сыновьям и одновременно призывал их обезвредить самым надежным способом виновников его смерти от яда. Об этом упоминают восточноримские историки Филосторгий, Иоанн Зонара и Георгий Кедрин. Скорее всего, именно этими сознательно распущенными по указке «сверху» провокационными слухами (что согласуется и с сообщением святого Григория Назианзина) был вызван военный мятеж, жертвой которого пали братья первого римского императора-христианина. Результат распространения облыжных обвинений не замедлил себя ждать. Разъяренные воины ворвались в резиденцию братьев севаста Константина I, и на берегу Босфора разыгралась первая из династических «кровавых бань», повторявшихся там с тех пор с завидным постоянством вплоть до времен османских падишахов, сменивших в 1453 году на цареградском престоле своих «ромейских» предшественников). Взбунтовавшимися воинами были зверски убиты отец, дядя, старший родной брат и несколько двоюродных братьев Юлиана (в общей сложности ни много ни мало – одиннадцать человек). Его сводный брат Галл, прикованный к одру болезни, был пощажен убийцами (то ли сжалившимися над болящим юнцом, то ли решившими, что он все равно не жилец на белом свете). Юлиан был обязан спасением от ярости убийц, скорее всего, своему нежному возрасту. Как утверждал впоследствии ритор, учитель и друг Юлиана – Ливаний, или Либаний, в своем надгробном слове павшему на поле брани императору-философу: «И вот Константин (Великий – В. А.) умер от недуга, а чуть не весь род, отцов и детей одинаково, обошел меч. Этот же человек (Юлиан – В. А.) и старший брат его от того же отца (Галл – В. А.) избегают великого смертоубийства, при чем одного (Галла – В. А.) спасла болезнь, которая представлялась достаточно опасной, чтобы окончиться смертью, другого (Юлиана – В. А.) возраст, так как он только что был отнят от груди.». Впрочем, согласно другой, достаточно достоверной, версии, спасителями юного Юлиана стали христианские священники, вставшие живой стеной между насмерть перепуганным ребенком и медлившими в нерешительности или успевшими остынуть воинами, а затем тайными ходами проведшие мальчика под защиту храмового алтаря. Юлиан до конца жизни не мог изгладить из своей памяти события того кровавого дня. Много лет спустя он прямо намекал на него при описании потрясшего его вещего сновидения (а говоря по-современному – «инсайта»), в котором лучезарный бог Солнца открыл ему смысл его жизненной миссии. Как утверждал Юлиан, тот день был днем резни, в который, как и в отношении рода Эдипа, по божественному произволению свершилось погибельное проклятие, и наследие его, Юлиана, отцов было разделено мечом («последовала всеобщая резня, и демон осуществил на деле трагические проклятия, и лезвия мечей разделили их вотчину, и все преисполнилось смятения»). При этом, однако, Отступник приписал свое спасение не христианским (или, как он выражался, «галилейским») священникам, а светлому, благому богу Солнца, во имя и ради которого он отрекся от христианской веры – Гелиосу (фактически слившемуся к описываемому времени в представлениях верующих в него язычников с Аполлоном), выведшему маленького царевича целым и невредимым из убийственной резни, кровопролития и смуты.
Глава третья
Епископ Евсевий и евнух Мардоний
После того, как пронесшаяся над Юлианом буря улеглась, его миром стали приходящие в запустение дворцы и тихие улицы Никомидии (сегодняшнего турецкого Измита), расположенной на берегу Астакского залива на азиатской стороне Пропонтиды (сегодняшнего Мраморного моря), в северо-западной части Малой Азии. Туда Его Вечность август Констанций II, новый самодержец Восточной части Римской «мировой» империи, не решившийся «зарезать маленького царевича», приказал сослать осиротевшего мальчугана после убийства его злополучного отца.
Август-арианин Констанций II
В описываемое время римская (Малая) Азия, или Асия, вот уже полторы тысячи лет была очагом и средоточием культуры и культурных ценностей, наук, ремесел, знаний. Не только центром греческой колонизации, но и питательной средой для греческой культуры и образования. Задолго до Афин достигших расцвета и невиданных высот развития в славном и богатом городе Милете, героическое сопротивление которого персам было в свое время воспето афинянином Фринихом в трагедии «Падение Милета». Производившей на свет в каждом поколении гигантов духа и глубоких мыслителей. Рождавшихся под солнцем Азии и, наряду с эллинской кровью, хранивших в своих генах здоровое, могучее наследие пастухов Анатолийского плоскогорья и дикое непокорство киликийских мореходов. Эта часть света, куда древние греческие города-государства – полисы – Аттики и Пелопоннеса[43 - Пелопоннес – южная часть материковой Греции, позднейший полуостров Морея.] издавна высылали своих неусидчивых «пассионариев», «людей длинной воли» (как выразился бы Лев Николаевич Гумилев), в куда большей степени, чем так называемая Великая Греция на Тринакрии-Сицилии и в Авзонии-Апулии[44 - Апулия – Южная Италия.], способствовала сохранению высокой эллинской культуры в ее полном блеске. Культуры, оказавшейся гораздо долговечней латинской Римской империи. И придавшей Второму Риму, в конце концов, чисто греческий характер. Именно в (Малой)
Азии, на восточных берегах Средиземного моря (именуемого «скромными» римлянами просто «нашим морем» – «маре нострум»), находилась духовная цитадель эллинизма, устоявшего под гнетом неотесанных мужланов с тибрских берегов. Дав повод классику римской поэзии Квинту Горацию Флакку сказать: «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила». Иными словами, некультурные римляне, победившие греков силой оружия, переняли несравненно более высокую культуру побежденных. Римляне (естественно, в первую очередь – принадлежавшие к высшим слоям общества) начали «денно и нощно, не выпуская из рук» (по слову того же Горация), изучать греческую письменность, греческий язык (как средство международного общения, подобно английскому в наши дни), литературу, философию, покупать греков-рабов – для обучения своих детей, перенимать греческие обычаи, моду и правила жизни. Именно «из греческой школы вышло такое дивное создание римского гения, как речи Цицерона и поэзия Вергилия, с Энеидой во главе», как писал русский философ, богослов, литературный и музыкальный критик, композитор Владимир Николаевич Ильин. Мысль о родстве и равенстве римлян и эллинов во всех отношениях активно проводилась в жизнь на самых разных уровнях и в самых разных сферах государственной и общественной жизни – достаточно указать хотя бы на «Сравнительные жизнеописания» выдающихся греков и римлян, вышедшие из-под вдохновенного пера Луция Местрия Плутарха Херонейского, о которых еще пойдет речь далее. Пламенным и убежденным приверженцем мнения о равноценности, тождестве, идентичности грехов и римлян, был и Юлиан, утверждавший, без тени сомнения (и в то же время явно отдавая эллинам приоритет в этом «тандеме»):
«Ибо римляне не только относятся к роду эллинов, но и религиозные установления, и благая вера в богов, которую они утвердили и охраняют от начала и до конца – эллинские. Да и политическое устроение у них ничуть не хуже, нежели у лучших из эллинских полисов, если только не наилучшее из всех, какие когда-либо осуществлялись на практике. Поэтому, думаю, наш город (Рим – В. А.) эллинский и по роду, и по политическому устроению».
В конечном счете, эллинство добилось перевеса и триумфа над «латинством» (хоть «триумф» и римское понятие!), на тысячу лет пережив, в Малой Азии и Греции, римскую цивилизацию на италийской земле.
Но это так, к слову…
Никомидия давно уже не была императорской резиденцией, как во времена императоров Диоклетиана и Лициния (да и Константина Великого, до переноса им столицы империи в бывший Византий). Верховные владыки римлян посещали Никомидию лишь изредка, время от времени, но, тем не менее, она продолжала не только по традиции считаться, но и реально оставаться одной из «жемчужин» римской Азии. Внушительным видом своих бесчисленных монументов, здания сената, крытых галерей и колоннад, храмов, терм (или, по-нашему – общественных бань) и театров, мощных стен и обширных портовых сооружений она еще издалека приводила в восхищение прибывавших в Никомидию перегринов – путешественников, как только их взорам представали на горизонте, после горного пейзажа, очертания города. В этом красивом городе было нетрудно следить за ссыльными таким образом, чтобы те не замечали слежки.
Изгнанный из столицы империи, лишенный всего и находившийся под угрозой испытать на себе все еще не улегшийся гнев своих недоброжелателей мальчик Юлиан был взят под покровительство епископом ставшего его пристанищем города – Евсевием Никомидийским. Епископ понимал, что, согласившись взять на себя заботы о духовном окормлении и воспитании одного из последних Флавиев и в то же время осуществлять над ним неусыпный надзор, он оказал бы августу Востока Констанцию II неоценимую, поистине дружескую услугу. Поэтому он и согласился взять на себя столь ответственную задачу. Евсевий с самого начала занял благожелательную позицию в отношении Юлиана, оказывая ему всяческие знаки внимания. Больше нам об их отношениях ничего не известно, ибо Юлиан не оставил никаких воспоминаний и высказываний о епископе, пробывшем некоторое время его опекуном и выбравшем для него первых учителей.
Тем не менее, отношения между ними, скорее всего, не были слишком доверительными.
Неподалеку от Евсевия жила мать Василины, бабка Юлиана – богатая, влиятельная, «великосветская» дама. Эта почтенная матрона была, видимо, безмерно рада и прямо-таки счастлива представившейся ей возможности растить внука, напоминавшего ей любимую дочь, которой она так рано лишилась. И потому она относилась к внуку с той нежностью, которую пожилые люди испытывают к молодой поросли своего рода. Любящая бабка очень скоро предоставила в распоряжение юного царевича красивую, со всеми удобствами, виллу, дав ему возможность предаваться тихим радостям, указывающим на проявившиеся уже в раннем возрасте мечтательные и чувствительные стороны его натуры. Возможно, именно в окружении своей бабки Юлиан познакомился со своим дядей по матери, который впоследствии, подобно ему самому, стал отступником от христианства.
Насколько скуп и сдержан был Юлиан в своих высказываниях о своем опекуне епископе Евсевии, настолько же подробно он высказывался о своем воспитателе Мардонии, прибывшем к нему из Никомидии. Этот уже упомянутый нами выше старый евнух-«скиф» (то есть, скорее всего – гот) был, как, несомненно, еще помнит уважаемый читатель, в свое время «чтецом», то есть учителем, Василины. Тем проще и легче было ему теперь беседовать с мальчиком и отвечать на его вопросы, подобно тому, как он когда-то беседовал с его матерью и отвечал на ее вопросы. Не удивительно, что Мардоний с большим сочувствием относился к царственному сироте, чье воспитание было ему поручено и в чьих чертах гот очевидно узнавал черты его безвременно ушедшей матери, своей сравнительно недавней ученицы. Юлиан, со своей стороны, все больше привязывался к нему, и вполне понятно, что он позволял Мардонию оказывать на свой детский ум все большее влияние. В данной связи необходимо указать на следующий характерный момент в воспитании мальчика: в то время, как самые знаменитые из его современников, прославленных впоследствии христианской церковью в лике святых – два Григория (Нисский и Назианзин), Василий Великий, Иоанн Златоуст и Блаженный Августин – были обязаны своими важнейшими переживаниями и впечатлениями своему семейному кругу и, в особенности своим матерям, Юлиан, рано лишившийся семьи, стал, так сказать, хоть и не плотским, но духовным сыном своего учителя, под чьим умелым, чутким руководством «в науки он вперил ум, алчущий познаний» (да будет нам позволено использовать крылатое выражение бессмертного Александра Сергеевича Грибоедова из его столь же бессмертной комедии «Горе от ума»). Юлиан всегда, неизменно отзывался о Мардонии в крайне, подчеркнуто уважительном и почтительном тоне, называя его своим воспитателем и учителем, введшим его в притвор, или придел, святого храма философии. Вне всякого сомнения, Мардоний сумел пробудить в своем царственном питомце благородное воодушевление и преклонение перед величием греческой культуры, ставшее в дальнейшем главной, сильнейшей движущей силой и, так сказать, пружиной всей его деятельности. Мардоний был добродетельным старцем, свободным от человеческих слабостей, целиком и полностью, с величайшим чувством ответственности, посвятившим себя своей задаче (чем он весьма отличался – в положительную сторону! – от типа достаточно распространенного беспутного, безнравственного и подлого учителя, известного нам из сочинений античных сатириков). «Скиф» был сведущ во всех тогдашних науках, обладал хорошим вкусом и был исполнен духовного огня, вдохновляющего всех подлинно добрых учителей и воспитателей. Он оберегал Юлиана от опасностей изнеженного образа жизни, служил ему в качестве репетитора и руководил им при выборе книг для чтения. Как в свое время – Василине, так и теперь – ее единственному сыну Юлиану – просвещенный гот Мардоний демонстрировал, прежде всего, красоты поэтических творений Гомера и Гесиода (которые, по Мережковскому, не просто читал вслух, а пел, подобно древнегреческим рапсодам-гомеристам), формируя на основе их бессмертного (для всех образованных людей грекоримского культурного пространства) творчества духовную жизнь мальчика и его литературный вкус. «Скиф»-эллинист пробудил в своем подопечном, впитывавшем знания подобно губке, не только понимание смысла поэтических строф, которые ученик должен был заучивать наизусть, но и подлинную любовь к поэзии, радость наслаждения чтением ее шедевров, и сумел приучить его не довольствоваться антологиями, содержащими лишь отдельные отрывки из произведений классиков, но и обращаться от сборников к самим первоисточникам, из которых эти фрагменты были извлечены. Именно данным обстоятельством объясняется тот достойный упоминания факт, что Юлиан знал наизусть и мог цитировать по памяти множество литературных произведений, не встречавшихся в современных ему школьных учебниках и не входивших в обычный круг чтения образованных людей его эпохи. Особенно примечательным представляется то обстоятельство, что Юлиан цитировал стихи Гесиода, дошедшие до нас только в его выдержках..
На основании сохранившихся и дошедших до нас высказываний Юлиана о его отношениях с Мардонием, можно составить себе представление и о том, каким Юлиан виделся в своих детских воспоминаниях самому себе – послушным, прилежным, понятливым, пытливым, одержимым стремлением к знаниям, скромно держащим глаза опущенными, долу, шел мальчик вслед за своим воспитателем привычным путем от дворца до школы – удивительно рано повзрослевший и достигший зрелости ребенок с серьезным и задумчивым выражением на лице, у которого вошло в привычку держать голову склоненной к земле.
Однако стремление к дружеской склонности, доказательство которому он впоследствии так часто давал своим друзьям, нередко заставляло его, послушно следующего вслед за своим учителем, ощущать себя очень одиноким, и тогда его прогулки с Мардонием казались ему подчиненными столь строгому распорядку, что этот распорядок приводил его в отчаяние. Если верить воспоминаниям Юлиана, ему очень часто хотелось после окончания школьных занятий сходить со своими товарищами в цирк или в театр. Но всякий раз суровый воспитатель одергивал его, строгим тоном указывая на то, что подобным пустым развлечениям следует предпочесть учебу. И Юлиану приходилось подавлять свои тайные желания (а возможно – даже глотать слезы обиды и разочарования), печально и разочарованно провожать глазами смеющуюся веселую кампанию, уходящую развлекаться… увы, без него. Порой, как он признавался впоследствии, у него даже возникало желание возроптать и отказать учителю в повиновении…
В данной связи представляется не лишним процитировать дошедшее до нас сатирическое сочинение самого Юлиана, уже бывшего, на момент его написания, самодержавным властелином Римской «мировой» империи, «Антиохийцам, или Брадоненавистник (либо «Враг бороды», по-гречески – Мисопогон – В. А.)»:
«Я <…>, еще когда ходил в школу, был научен своим наставником смотреть в землю; что же до театра, то я никогда не ходил в него прежде, чем волосы на моем подбородке стали длиннее, чем на голове, и даже достигнув этих лет, никогда не ходил я в театр по собственному желанию и побуждению, но был там три или четыре раза по приказу правителя, моего родственника и человека мне близкого – я был принужден, «являя благосклонность Патроклу» (то есть, из любви и уважения к близкому человеку – согласно «Илиаде» Гомера, герой Ахилл был на все готов ради своего друга Патрокла – В. А.). Это было, когда я был еще частным лицом, и, следовательно, когда это мне было простительно. Итак, представляю <…> моего наставника, сварливость которого <…> (не давала – В. А.) мне покоя наставлениями даже на пути [в школу]. Результат его действий отпечатался в моей душе, чего я не желал тогда, хотя он был весьма усерден, прививая мне все это, как если бы творил нечто прекрасное; дикость он называл величием, бесчувственность – целомудрием, непреклонность к желаниям и отказ достигать счастья путем осуществления желаний он называл мужественностью. Он был варвар, клянусь богами и богинями, родом скиф (то есть, в реалиях IV столетия – гот – В. А.), тезка человека, склонившего Ксеркса двинуться на Элладу (то есть первого, древнеперсидского, Мардония; в данном случае Юлиан применяет характерный прием софистов – использовать иносказания, не называя имени прямо – В. А.). Более того, он был евнух – слово, которое двадцать месяцев назад (в правление севаста-арианина Констанция II, при дворе которого евнухи пользовались огромным влиянием – В. А.) почиталось и постоянно звучало, хотя ныне употребляется как оскорбление и ругательство (евнухи были изгнаны пришедшим к власти Юлианом, сделавшим исключение для Мардония – В. А.). Воспитан он был стараниями моего дедушки (Юлия Юлиана – В. А.), чтобы провести мою мать (упомянутую выше Василину – В. А.) через поэмы Гомера и Гесиода. А поскольку она, еще девочкой спасенная не имеющей матери Девой (вечно девственной богиней Афиной, вышедшей в полном расцвете сил и лет из головы своего отца – верховного бога эллинов Зевса Тучегонителя— В. А.) от множества приключавшихся ей несчастий, и дав мне жизнь – первому и единственному ее ребенку – спустя несколько месяцев умерла, я был отдан ему после того, как мне исполнилось семь лет. Тогда-то он и склонил меня к таким своим взглядам, с этих пор водил он меня в школу одной дорогой; поскольку ни сам он не хотел знать ничего иного, ни мне не позволял идти другим путем».
К счастью для Юлиана, Мардоний, несмотря на брошенные ему его бывшим подопечным «задним числом» упреки в излишней, чрезмерной сварливости, в действительности был не бездушным и черствым педантом, а истинно добрым пастырем (если использовать христианскую терминологию). Всякий раз ему удавалось утешить горюющего мальчугана интересными книгами, в которых он учил своего питомца находить все новые и новые источники чистых и подлинных радостей. В соответствии с установками строгой философской школы стоиков[45 - Стоики – философское течение, сложившееся в Греции около 300 года до Р. X. и исходившее из концепции предопределенности природного мира в его движении; поэтому на первый план для стоиков выдвигалась этическая проблематика индивидуального действия. Название «стоики» происходит от «Пестрого (Расписного, Разноцветного) портика» (греч. Стоа пойкиле) в Афинах, в котором начал проповедовать свое учение основатель стоической школы Зенон из Кития, или Китиона.], старый гот терпеливо и убедительно разъяснял Юлиану, что тому, кто способен подходить к чтению не поверхностно, а вдумчиво и глубоко, Гомер дает возможность насладиться зрелищами, несравненно более великолепными, чем непритязательные театральные и цирковые представления, которыми развлекается подлый люд, низкая необразованная чернь.
«Он говорил мне часто – это так, клянусь Зевсом и Музами! – в то время, когда был педагогом при мне, еще мальчонке: “Никогда не позволяй толпе твоих сверстников, несущихся в театр, склонить тебя к страстному желанию подобных зрелищ. Не влечешься ли ты к скачкам? Об этом справедливейшим образом сказано у Гомера, возьми книгу и изучи. Слышал ли ты о тех, что изображают путем пантомимы? Оставь их, у феакийцев[46 - Феакийцы (феаки) – в поэме Гомера «Одиссея» легендарный блаженный народ корабельщиков, переселившейся из мифической Гиперийской («Верхней», «Запредельной») земли (Гипербореи?) на остров Схерию (который одни исследователи считают мифическим, другие же отождествляют с позднейшим греческим островом Керкирой, ныне – Корфу) и гостеприимно принявший скитальца Одиссея, потерпевшего кораблекрушение.] юноши делают это лучше (ибо исполняют, в отличие от расслабленных, женственных мимов эпохи Юлиана, настоящие, мужественные танцы – В. А.). Из кифаредов ты имеешь (в поэме Гомера – В. А.) Фемия, из певцов – Демодока [47 - Кифареды пели, аккомпанируя себе на кифаре (струнном инструменте вроде лиры); Фемий был кифаредом при дворе Одиссея на острове Итака, Демодок – у феакийцев.]. Более того, у Гомера есть много ростков, более сладостных для слуха, чем то, что мы можем увидеть: