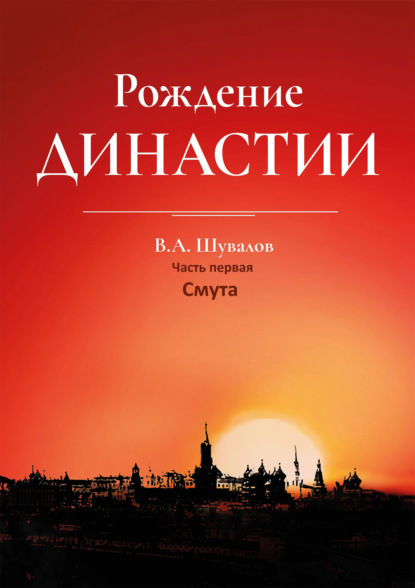По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рождение династии. Книга 1. Смута
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда ребятишки перестали помогать Михаилу Никитичу, он все-таки продолжал жить: этому способствовал его богатырский организм и молодость.
После очередной попойки нерадивые московские стражники решили: да сколько мы можем здесь находиться?! Они гурьбой подошли к яме, разбросали бревна, и сам Тушин спрыгнул в эту яму. Через несколько минут он вылез из ямы весь раскрасневшийся, запыхавшийся, и объявил, что боярин скончался.
То же говорили и про Василия Никитича, сосланного в Яренск. Годунов, отлично понимавший неизбежность обвинений в свой адрес в случае смерти узника, строго приказал «везти Василия дорогой бережно, чтоб он с дороги не ушёл и лиха никакого над собою не сделал».
При Василии Никитиче был даже оставлен слуга. Конечно, следить за изоляцией узника приказывалось во все глаза: «чтобы к нему на дороге и на станах никто не приходил, и не разговаривал ни о чем, и грамотами не ссылался». Всех подозрительных Годунов велел хватать, допрашивать, пытать и отсылать в Москву.
Двор узника в Яренске (ныне город в Архангельской области) следовало выбрать подальше от жилья, а если такого нет – поставить новый с крепким забором, но не тесный: две избы, сени, клеть и погреб. Предписано было кормить опального изрядно – хлебом, калачами, мясом, рыбой, квасом; на это отпускалась очень крупная по тем временам сумма: сто рублей в год.
Узник был беспокойный: ещё по дороге, на Волге, выкрал ключ от своих кандалов и утопил в реке, чтоб его нельзя было вновь заковать. Пристав подобрал другой ключ и заковал Василия Никитича пуще прежнего, хотя делать это ему было не велено.
Пристав получил от Бориса Годунова выговор, хоть и, доносил, что Василий Никитич «хотел у меня убежать».
Как и следовало ожидать, томимый собственным гневом и утеснением пристава узник заболел.
Обеспокоенный Годунов велел перевезти его в Пелым, где был уже заточен Иван Никитич Романов, разбитый параличом (у него отнялась рука и плохо слушалась нога).
Пелымский пристав сообщал царю, что «взял твоего государева изменника Василия Романова больного, чуть живого, на цепи, ноги у него опухли. Я для болезни его цепь с него снял. Сидел у него брат его Иван да человек их Сенька; и я ходил к нему и попа пускал. Умер он 15 февраля (1602 г.), и я похоронил его, дал по нём трем попам, да дьячку, да пономарю двадцать рублей».
Однако, как потом выяснили расследовавшие злодеяния Бориса Годунова верные царя Михаила Федоровича люди, приставы держали двух больных братьев прикованными к стене цепями в разных углах избы, всячески ускоряя их смерть.
Так что и вправду, как говорили, Ивана только «Бог спас, душу его укрепив».
Другие близкие родственному кругу Романовых князья Сицкие, князья Шестуновы, Шереметевы, Долматовы-Карповы, которых затронуло следствие, были наказаны не так сурово: ссылкой в «понизовые города» и на дальние воеводства.
Иван Никитич был раскован по царскому указу от 15 января 1602 г., а указом от 28 мая отправлен на службу в Нижний Новгород вместе с князем Иваном Борисовичем Черкасским (сыном князя Бориса и Марфы Никитичны Романовой), выпущенным из заточения в Малмыже на Вятке. На этот раз Годунов строго предупредил приставов: «идучи дорогою и живучи в Нижнем Новгороде к князю Ивану (Черкасскому) и к Ивану Романову бережение держать большое, чтоб им нужды ни в чём никакой отнюдь не было, и жили б они и ходили свободны».
Милосердие царя Бориса было вынужденным: его уже по всем углам величали убийцей, припоминая длинный ряд подозрительных смертей на его пути к трону и во время царствования.
Печальная судьба ссыльных Романовых укрепила эти обвинения.
Но самые тяжелые испытания выпали на долю супруги Федора Никитича Романова боярыни Ксении Ивановны. Зимой 1601 года под охраной сразу двух приставов была доставлена она в «Обонежскую пятину, в Выгозерский стан, на Толву», где была насильно пострижена и отправлена в Толвуйский Егорьевский погост на полуострове Заонежье, где и была забыта на долгие пять лет.
Жестокая расправа с семейством Романовых потрясла весь московский люд от дворянской верхушки, до простых смердов. Каждый, кто следил за этой трагедией, понимал, что есть в ней что-то потаенное, недосказанное.
Конечно, «смертные корешки» дело серьезное. Но ими можно не только царей, но и крыс травить. Злой умысел так и не был доказан. Холопы боярские, которых били батогами и пытали на дыбе, может быть, и сказали бы чего, да не знали, а сами Романовы молчали.
Помнили люди, как тщательно после захвата обыскивали стрельцы усадьбу Романовых на Варварке. А что искали? «Корешки» вроде нашли.
– Человечка они одного искали, – говорили самые «осведомленные». Толи холопа боевого, который убег после сражения со стрельцами, толи родственника какого, который жил в усадьбе Романовых. Как зовут, никто не ведал, а только в доверии большом был он у бояр. Кабы нашли, многое бы он мог рассказать на дыбе. Но не нашли!
О, если бы знали они тогда, кого так упорно искали царские стражники! Эту тайну много лет спустя раскрыл в своей Грамоте Патриарх Иов, когда началась на Руси Великая Смута.
Чернец Филарет и инокиня Марфа
Антониево-Сийский монастырь
Телеги медленно двигались по берегу озера. Какой уже день непрерывно шли дожди. Хмурые тучи плотно укрывали небо, не давая прорваться ни единому лучику солнца. Была уже середина лета, но конные пути так и не просохли и кое-где были размыты огромными серыми лужами. Лошади натужно упирались копытами в хлипкую почву, пытаясь выдернуть телеги из очередной залитой водой промоины. И тогда люди слезали с телег и толкали их сзади, стремясь быстрее вылезть на сухое место. Всем до смерти надоело это четырехмесячное «путешествие».
Наконец, на небольшом полуострове показались звонницы монастыря.
– Ну вот, боярин, и обитель твоя, – с облегчением вздохнув, сказал пристав Роман Дуров, обращаясь к сидевшему на подводе Федору Романову. В этом старике с взлохмаченными седыми волосами и соломой, застрявшей в спутанной бороде, трудно было узнать некогда блестящего московского боярина.
Романов ничего не ответил. Он смотрел отрешенным взглядом куда-то вдаль, где небо упиралось в землю.
– Ну, вот он край вечного безмолвия, край земли Русской. Там за озером, за полосой далекого леса только бескрайнее Студёное море.
Здесь закончится его жизнь – потомка русских царей, вознамерившегося претендовать на престол своих предков. Больше не будет ничего: ни вольготной боярской жизни, ни интриг, ни врагов и сторонников… Только вечный покой и молитвы Господу.
У ворот Сийского монастыря путников встретил престарелый игумен Иона. Он уважительно поклонился приставу и сочувственно посмотрел на Федора Никитича.
– Вот, отче, новый постоялец к тебе: — обратился к игумену пристав: – велено держать его в строгости. В царской грамоте все отписано.
Благовестили к вечерне. Телега остановилась у соборного храма. Пристав Роман Дуров, прошел в алтарь. Игумен Иона со всеми соборными старцами вышел из алтаря и начал обряд пострижения.
Боярин уведен был на паперть. Там сняли с него обычные одежды, оставив в одной сорочке. Затем привели его снова в церковь, без пояса, босого, с непокрытой головой.
– Ты пришел, брат, в обитель сию, чтобы припасть ко святому жертвеннику и ко святой братии? – согласно Уставу спросил Иона.
Федор Никитич молчал.
– Желаю, жития постнического, святый Отче! – ответил за него пристав Роман Дуров.
– Воистину правильный выбор, но предстоит тебе трудами великими в молитвах избавиться от болезни грехов твоих. Волей ли своего разума пришел ты к Господу?
– Да, отче! – ответил за боярина пристав.
– Думаешь ли пребывать в монастыре и пощении даже до последнего своего издыхания?
– Да, – снова ответил Дуров.
– Сохранишь ли послушание к игумену и всей Христовой братии? Сможешь ли терпеть всякую скорбь и тесноту иноческого жития ради царства небесного?
– Да. Отче! – снова послышался голос пристава.
Федор Никитич стоял перед игуменом с низко опущенной головой. Игумен сделал краткое поучение и прочитал две молитвы. Наконец, в соответствии с Уставом игумен обратился к узнику:
– Возьми ножницы и подай мне.
Боярин по-прежнему безмолвствовал, склонив голову, будто все происходящее не имело к нему никакого отношения. Ножницы опять подал пристав.
Прядь волос упала на пол. И тогда Федор Никитич поднял голову и посмотрел в лицо игумену. И столько боли, гнева и ненависти было в этом взгляде, что Иона содрогнулся.
– Я не принимаю ваш постриг! Господь всегда запрещал насилие, особенно во имя свое!
Федор Никитич знал, о чем говорил: каноны святой Церкви запрещают любое насилие в служении Богу.
Человек может отказаться от мирской жизни и посвятить себя Господу, став монахом только по собственной воле.