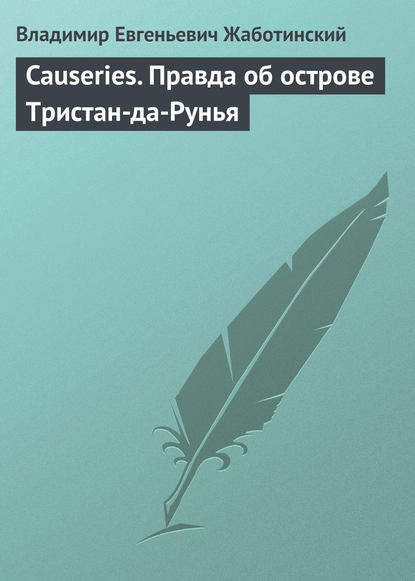По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Causeries. Правда об острове Тристан-да-Рунья
Год написания книги
1930
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Средние века рисуются вашему воображение в вид некоего поля свалки, где жаждущие толпы человечества беспрерывно осаждали ограду, возведенную кем то властным вокруг древа знаний и древа свободы; и только пламенный меч обращающийся мешал им прорваться к этим растениям. Массы средневековой Европы вам представляются чем-то вроде миллионов брыкающихся детей, которых насильно уложили в кроватку спать.
Неужели вам никогда не пришло в голову, что бывают часы, когда здоровый ребенок сам просится в кроватку, и что «тьма» тогда является первым условием хорошего сна, – и что сон такой есть не пытка, а блаженство.
Прочел я недавно в одном роман страницу, над которой, как ни странно, стоит остановиться и просвещенному вниманию. Это была картина человеческого общества после сплошного десятилетия войны в воздух. Десять лет подряд наука проявляла свою мощь во имя разрушения – и, любуясь на это совершенство, возненавидел человек самую идею «знания». Душой целого поколения овладело великое равнодушие. Фабрики стали, – тем немногим рабочим, которых не успели искалечить, просто не хочется ходить на работу. Свисли телеграфные проволоки с расшатанных столбов, потому что никто ни о чем не спрашивает и некому и не о чем сообщить. Ребятишки играют в мяч на ржавых рельсах; еще вчера это были важнейшие нервы торгашеской цивилизации, а сегодня и матери тех ребятишек забыли, что когда то такая забава могла кончиться плохо. И самим детям уже в голову не придет спросить старших, что это за рельсы, к чему проволоки, для чего высокие трубы; ибо самое любопытство угасло, и остатки человечества живут только двумя желаниями: утолить голод и спать.
Именно так, полторы тысячи лет тому назад, сошло на землю средневековье; и в этом вся разгадка его долговечности. Никакого тут не было меча пламенного, и никакой надобности в мече. Акрополь осыпался и форум исчез под кучей мусора не потому, что новые пастыри ненавидели все античное, а потому, что и пастырям и пастве было просто не до того. Не по чьему либо приказу начали римские золоторотцы вываливать содержимое своих тачек на Yla Sacra, а просто потому, что вот удобная канава, близко, и никому не нужна. Никакой нужды не было запрещать Фидия и Платона, как нет нужды сегодня запретить моду наших бабушек.
А отсюда, молодой человек, следует один вывод: самое счастливое время в истории человечества, прошлой и будущей, должно быть и есть это самое средневековье. Выбросьте вы из головы, раз навсегда, это невежественное представление о тех веках, как об эпохе непрерывного и активного угнетения, духовного или политического или общественного. Чего ради? Ведь не было тогда любопытствующего Галилея, которого пришлось бы сажать в тюрьму; не было и хронических эпидемий ереси, чтобы нужно было заводить инквизицию. Если и случались вспышки иноверия, то весь обхват их ограничивался одной какой-нибудь провинцией, по большей части далекой окраиной; да и то редко. Большинство населения не интересовалось богоисканием. Вообще не любопытствовало. Фанатизма не было – только неучи говорят о средних веках, как об эпохе фанатической. Фанатизм есть явление военного порядка: мобилизация энтузиазма, для защиты твердынь или ниспровержения твердынь. Когда всем в сущности все это безразлично, незачем мобилизовать ни охрану, ни крамолу. Вы принимаете за фанатизм нечто совсем иное: ту ребяческую радость, с которой они сбегались глядеть на пестрые процессии, или то ребяческое замирание под ложечкой, с которым они на исповеди шепотом изливали пред зевающим попом малосольные погрешности куцей своей жизни. Но ведь еще больше процессии они любили ярмарку; а трепет, охватывавший их перед исповедью, ничего общего не имел с религией. Так трепещет девица от первого поцелуя; во второй раз – гораздо меньше.
В политическом отношении были это, конечно, времена неспокойные; но и тут нельзя к ним применить вашу нынешнюю терминологию – свобода, гнет, восстание. Точно так же, как вся духовная активность той эпохи была монополией тесного круга людей, носивших рясы, так и политические бури средневековья были, в сущности, домашним делом двадцати семейств, члены которых носили шляпы с перьями. Это было для них то же самое, что для вашего поколения спорт. Разве ваше поколение занимается спортом? Блеф. Два здоровых дерутся, десять тысяч глядят и кричат, а называется это, что вся нация любит бокс. Это, поверьте мне, и есть рецепт, по которому составлялись тогда все конфликты между домом Монтекки и домом Капулетти, между Пизой и Генуей, отчасти даже между гвельфами и гибеллинами. Герцог, его родня, его челядь уходили в изгнание; но не только те, кого мы теперь именуем массой, а даже и среднее сословие – купец, ремесленник, костоправ и трактирщик – играло тут чаще всего роль зрителей вокруг платформы; заинтересованных зрителей, увлеченных зрителей, но без крупной ставки в игре. Вы скажете, что я преувеличиваю. Конечно. Я чудовищно преувеличиваю. Но когда-нибудь и вы поймете, молодой человек, что много есть приемов для изложения истинной правды, и далеко не худший из них называется «преувеличивать».
А уж в социальном смысле средневековье было раем. Осуществившейся утопией. Даже вы, сударь, даже вы во всеоружии вашей неосведомленности не можете не знать, что разница в технике быта между директором банка и его дактило в наши дни куда больше, чем была в те годы между бароном в замке и браконьером на опушке баронского леса. Если хотите постичь это совсем реально, вспомните харчевню. Харчевню на большой дороге. В наши дни, путешествующий набоб останавливается в отеле, подобном городу из слитых вместе двадцати дворцов, – бедняку редко приходится даже пройти по улице, где высится это чудо продажного зодчества. Но Шарлемань во всей славе своей ночевал на том же постоялом дворе, где жевал свой кус бродяга, и та же кухня угождала обоим. А это значит, не только то, что вкусы владыки были не так еще утончены, – видно, и запросы оборванца были не так уже скромны по тогдашнему времени.
Вообще, это предположение, будто крестьянство средних веков постоянно и регулярно голодало, дабы замок мог утопать в роскоши, – сущий вздор. Какая там роскошь, когда люди вряд ли еще имели понятие о коврах, картинах, бархате, даже о стекле, даже о мягком кресле? Попробуйте сами составить список предметов вашего личного мещанского уюта: начиная с крана горячей воды и до чашки кофе после обеда (уж не говоря о вашей «библиотеке», которая, боюсь, не заслуживает этого титула) – увидите, что ни о чем подобном не мог во дни оны мечтать и пфальцграф, один из семи избирателей кесаря. Конечно, и у них были свои излишества, классический каплун с начинкой, или бутылка, которую три месяца везли из Бургундии; но, в общем, очень это была дешевая аристократия.
Но главным залогом живучести этого рая было отсутствие худшей из социальных пыток: зависти. Зависть – это псевдоним любопытства; это – склонность к подглядыванию сквозь щели сословных заборов. Для века, чьим богом был Покой, этот интерес к быту высшего круга был так же чужд, как интерес к открытию северного полюса.
Я не отрицаю, что дворянство той эпохи пользовалось некоторыми привилегиями, на наш нынешний вкус нетерпимыми. Но вопрос ведь в том, были ли эти права столь же обидными и на вкус самих вассалов. В наше время взрослого человека нельзя даже и оштрафовать без сложных обрядов судоговорения; но учитель может посадить мальчика в карцер, не прибегая ни к какому ритуалу. Это не потому, что правосудие бывает разное, а лишь потому, что сам ребенок не обижается за упрощенное производство; или не настолько обижается, чтобы вызвать серьезный отклик в общественной совести. Чтобы судить о порядках эпохи, надо понять ее психологию.
Мы с вами возмутились бы против порядка, при котором феодальному помещику принадлежало бы право de basse et haute jusnice над нами и нашими семьями; но тысячу лет назад, если бы мужику в Тюрингии предложили на выбор – или судиться у своего же барона, или тащиться на суд к судьям той же эпохи, за сто миль и дальше, ясно, что бы он предпочел.
По этому поводу, когда-нибудь, я расскажу вам историю из XIV-го века, историю графа Альбера и трех крестьянок, над которыми он надругался: надругался так обидно, так страшно, так феодально, что этот позор остался навсегда единственным приличным воспоминанием всей их скотской мужичьей жизни; и, когда разразилась Жакерия, и восставшие поселяне хотели убить графа Альбера, – спасли его, ценою собственной гибели, эти три женщины. И, по-моему, были совершенно правы.
1930
L'Amerique a un metre
Недавно пришли ко мне в гости два человека, один из Америки, другой никогда там не был. Этот второй сказал:
– Хотелось бы съездить в Соединенные Штаты, посмотреть, чем там люди живут.
– Не стоит – ответил первый. – Америка здесь перед вашим носом, вы ею окружены, вы ею дышите; и не только теперь, а с самого детства.
Я вмешался и спросил:
– Это вы про куковских туристов?
– Нет, – сказал он, – не про них, а про настоящую суть Америки, про то, «чем там люди живут», как приятель наш выразился. Эта американская квинтэссенция буквально заполняет у вас в Европе каждую щель; странно, что вы все еще этого не заметили. Изо всех духовных влияний, какими живет и жила Европа, за память нашего поколения, самое сильное – американское.
– Что за парадокс! – отозвался второй гость. – Я тоже принадлежу к вашему поколению и вырос там же, где и вы, – в России. Кто на нас влиял? Одно время французские декаденты; одно время немецкая социал-демократия; одно время – норвежские романы. Америка – никогда. А теперь здесь, в Западной Европе, да кажется и во всех Европах, главная тема духовных исканий и пререканий – тоже не Америка, а советская Россия.
– Ошибаетесь. Начнем с нашего детства. Что мы читали? Русских книжек для детей тогда почти не было, – Кот Мурлыка да Желнховская, и обчелся. А читали мы запоем. На десять книг, что мы брали в библиотеке, девять было переводных. А из этих девяти восемь было американских: Майне Рид, Купер, Брет Гарт, все сюжеты Густава Эмара, добрая половина сюжетов Жюля Верна…
– Нельзя же ссылаться на такие пустяки, – возразил небывший в Америке. – Еще до Эмара мы зачитывались сказками – разве следует отсюда, что мы духовно стали гражданами тридевятого государства?
– Это вряд ли можно сравнивать – заступился я (но только из хозяйской вежливости, так как и сам считал, что американец преувеличивает). – Сказка – небывальщина; даже детям это известно; а похождения Меткой Пули и Габриеля Конроя, как-никак, притязали на жизненную правдоподобность; и нельзя отрицать, что это чтение воспитывало в нас вкусе, скажем, к сильным переживаниям.
– Верно – сказал американец, – только я внесу одну поправку. Не просто к сильным переживаниям, а к одному их разряду. «Американские» похождения, о которых мы читали, почти всегда разыгрывались на одном и том же поприще: на поприще пионерства. Это почти всегда были приключения людей, вышедших за межу благоустроенной населенности, в пространства, где еще в ту минуту нет ни сохи, ни суда. Запомните, во-первых, это: зачитывались мы тогда не просто увлекательной авантюристикой, а авантюристикой пионерской. А во-вторых – вспомните ее героев. Очень редко был это господин с печатью гения на челе, то, что теперь называют прирожденным вождем. Чаще всего был это просто бродяга, человек среднего ума, на людях застенчивый и неловкий – в сущности рядовой обыватель, только такой, который почему то не удержался по ею сторону забора, отделяющего благоустройство от пустоши. Иными словами, один из тех сотен тысяч «безымянных солдат», которые действительно и раздвинули Америку от узкой полосы на Атлантическом берегу до прерии, потом до Скалистых гор, потом и до Тихого океана. Это и будет то «во-вторых», которое я попрошу вас запомнить. Первое было – не просто искатель приключений, а пионер, человек, вставший на цыпочки и заглянувший через забор. Второе – не просто пионер, а пионер массовый, демократический. Запомните это, потому что в этом – вся Америка. Вся суть ее особаго духа – в идее массового пионерства.
– Милый друг – сказал второй гость, отмахиваясь, – если это и верно, то не забудьте, что с четырнадцати лет мы всю эту романтику бросили и отдали свои души Бодлеру, Верлену и их русским ученикам.
– Конечно. Больше того скажу: по прямой линии подошли к Бодлеру, в качестве законного и логического продолжения майне ридовщины. Только в другой области. Прежде нас один писатель учил заглядывать, что творится по ту сторону заборов благоустроенного общежития, а потом мы полюбили писателей, которые нам показали, что творится по ту сторону заборов благоустроенного духа. Что было «декадентство»? Прорыв за межу обыденной ортодоксальной психики, путешествие в ущелья духовных переживаний странных и неисследованных… Опять пионерство. И, главное, опять пионерство американского происхождения. Кто первый попытался уловить Демона Несуразности? Кто первый раздвинул пологи обычной «здоровой» души и заглянул в ту пещеру ведьм, которая где-то спрятана, вероятно, в каждом мозгу человеческом – только мы про нее раньше не знали? Бодлер чуть ли не начал с перевода сочинений американского Эдгара По. А значит это вот что: в 1849 году на дороге между Балтиморой и Ричмондом умер под забором пьяный бродяга, поэт и рассказчик; умер «под забором», но, если простите этот выпад в область символизма, раньше пробуравил в этом самом «заборе» просвет во мглу потустороннего сознания. И, хотя Америка его забыла, но Европа послала к этому забору десятки самых пытливых, самых беспокойных своих умов, и они все прильнули глазами к просвету, открытому гражданином штата Виргиния; и отсюда возникло одно из самых сильных духовных течений в новой цивилизации.
Второй гость даже возмутился.
– Символизм? Декадентство? «Одно из самых сильных течений»? Совершенно несообразное преувеличение. То была литературная мода, никак не отразившаяся на действительности; была и прошла.
– Сэр, у вас короткая память. Вы забыли слово «fin de siecle» и весь тот громадный всеобъемлющий радужник настроений и порывов, который под ним понимался. Было десятилетие, когда слово это жило на устах каждого грамотного человека, когда книга Нордау «Вырождение», боровшаяся главным образом против явлений круга к «fin de siecle», чуть ли не разделила весь мыслящий мир на два лагеря. Если это и была «литературная мода», то мода редкой мощности, такая же волнующая и зажигательная, как в свое время романтизм. И уж совсем неправильно думать, будто есть литературные моды, которые «никак не отражаются на действительности». Конечно, действительность – зеркало своеобразное, и оно отражает литературу по своему. И романтическая школа не в том смысле «отразилась», чтобы народы стали культивировать домовых по «Леноре» и пить человечью кровь из бутылочки по Бюге Жаргалю. Но то отвращение к благоустроенной обыденщине, которое создало и суть романтизма, и даже его чепуху, сказалось на испанских пронунсиаменто, на революциях 1830 го и особенно 1848 го года, на чартизме, на эпопеях Гарибальди и Кошута. «Fin de siecle» отразился на жизни еще сильнее: я уверен, что будущий историк это признает. Этот призыв к пересмотру всего нашего духовного содержания, к уничтожению границ между нормой и анормальностью, к прыжку в обрыв – он только начался в области психологии, но перебросился в область этики, и кончился там, где кончаются все большие «литературные моды» – на баррикадах. Кто был во дни нашей молодости учителем и пророком всех поджигателей, по вине которых (или заслуге) пылают теперь заборы всего света? Звали его Ницше. А он был типичнейшей фигурой «fin de siecle».
Нордау прямо зачислил его в декаденты, и это – одна из немногих вполне справедливых оценок, какие были в его книге. Ницше – родной брат Эдгара По, только применивший ту же систему в другой отрасли, – переступивший межу не в полосе сознания и переживания, а в полосе нравственности, долга, добра и зла. Начало всех этих начал (я теперь не спорю, хороши они или плохи) – под тем забором на шоссе из Балтиморы в Ричмонд. Все это пионерство – то есть американщина.
– Может быть, – сказал ему я, – но все это было и быльем поросло. Даже дети, говорят, читают не те книжки. Взрослым вообще некогда читать. Декаденты забыты, включая и По и Ницше. Молодежь ходит в кинематограф или в танцульку.
– Верно, – подхватил он. – Я согласен: главное «духовное» влияние нашего времени – это экран и танцкласс. Опять-таки не буду сейчас разбираться, полезно ли это или вредно. Важно установить две вещи: во первых – оба эти влияния чрезвычайно сильны, количественно, пожалуй, сильнее всех прошлых. Во-вторых, на экранах царит американский фильм, а в танцульке – музыка и пляска американских негров.
Второй гость даже зевнул от такого падения с умственных высот до джаза; он сказал насмешливо:
– Любой американский патриот на вас обидится, если при нем упомянете эти два достижения в смысл некоего духовного представительства Америки в Европе.
– Мало ли за что может обидеться близорукий человек, – ответил первый. – А я вам говорю, что американский фильм, музыка кухонной кастрюли и танец чернокожего прямо и явно продолжают традицию «Меткой Пули», полета в ядре на луну и «Гибели Ушерова дома».
– Экран – пожалуй, – заметил я примирительно, опять вступая на путь хозяйской добродетели, – Дуглас Фербенксе, Том Микс, ковбои – все это, конечно, опять Майн Рид…
– Я совсем не это имел в виду, – ответил американец, – хотя, конечно, и это не мелочь. Даже мы в детстве, зачитываясь книгами об американских авантюристах, не получали этой пищи в таких дозах и в таких осязательных наглядных формах, какие глотает каждый вечер теперешнее отрочество; не говоря уже о томе, что нас, читателей, считали тысячами, а у экрана зрителей миллионы. Уж по одному этому вы неправы, когда утверждаете, будто Густав Эмар скончался. Он, под другим именем, царит теперь над детскими душами, как никогда в былые годы не царил. Каждый средний подросток, по крайней мере раз в неделю, любуется теперь на то, как надо перескакивать через заборы. Но я не эту категорию лент имел, главным образом, в виду. Гораздо важнее – и еще популярные у массы – фильмы революционного содержания; а его пока умеют делать по настоящему только в Америке.
Тут и второй гость и я развели руками: революционный фильм? из Америки? где, когда?
– Вы, – сказал американец, – плохо понимаете, что такое «революционный». Революционно не то, что прямо говорит о перевороте, а то, что подстрекает к перевороту. Фильмы, где нам показывают нищету, гнет и прочее – это не революция, это просто (почти всегда) нравоучительная скука, и массовый посетитель их не любит. Зато обожает он сцены роскоши, дворцы, наряды, собственный автомобиль, собственный парк. Это – как раз то, что в Америке делают охотно и изумительно. Никогда еще в истории не показывали бедняку так ярко, подробно и аппетитно, что такое богатство и чего он лишен. До кинематографа не только рабочий, но и мы с вами, люди средние, понятия не имели, как живут князья и миллионеры. Что-то слыхали, что-то видали на улице, но не изнутри, не интимно. Теперь нас впустили в их пиршественный чертог и в терема их женщин. Даже нам с вами завидно. А на галерке, в дешевых местах, сидит простонародье и впивает в себя подавляющее осязание (не просто сознание, а осязание) классовых различий. В забор между графом и нищим пробита щель – и какая!
– Зависть, – сказал второй гость, пожимая плечами, – это еще не революция.
– Ошибаетесь. Зависть – первый из факторов революции; вернее, единственный. Больше того: зависть – это вообще главный из двигателей прогресса. Если бы всем было плохо, если бы не было исключений, никто бы ни к чему не стремился. Если бы случайно не попалась одному из троглодитов пещера поудобнее, с мягким песчаным полом, когда у остальных «полы» были каменные, не было бы сейчас центрального отопления.
– Любопытно, все-таки, – сказал я, – как вы распространите это славословие и на джаз?
– Я не музыкален и мало знаю о музыке, – ответил он, – но извольте. Было время, сто лет тому назад, когда теория музыки начиналась с того, что есть шумы «музыкальные» и «немузыкальные». Первая категория носила характер чрезвычайно аристократически, отборный и замкнутый: даже аккорды допускались не все, а только по особому паспорту благозвучия. Словом, забор, и внутри забора очень тесный кружок строго процеженных звуковых сочетаний. Первую брешь попытался пробить Вагнер: выдал паспорт на музыкальность некоторым диссонансам. Но только некоторым; и, хотя в свое время это произвело впечатление революции, теперь мы все видим, что реформа Вагнера была, в сущности, очень невинным и умеренным шагом, вроде как бы – в области избирательного права – понижение имущественного ценза со ста рублей годового налога до девяноста. А потом встал американец, прислушался к гвалту негритянского квартала – и просто обвалил все заборы. Отменил не только разницу между аккордом и диссонансом, но даже и самое понятие «музыкального» шума. Заявил – и доказал – что музыка приемлет вообще все виды шума, стука, треска, гама, гвалта, писка, визга, рева, свиста, вплоть до отрыжки. Все можно. Это и называется джаз. Новый прорыв «пионерства». Опять раздвижение границ.
– Маринетти, – сказал я, – заявлял о музыкальности уличного грохота еще задолго до того, как мы услышали первую гнусавую ноту саксофона.
– О Маринетти, – отрезал он, – слыхали считанные сотни, и из них половина точно не знала, что он собственно проповедует. А джазом упиваются миллионы. Я ведь вам сказал, что американский дух – не просто пионерство, а пионерство массовое. – А теперь о танцах…
– Не стоит, – отмахнулся второй гость. – Уже и так понятно: вот, мол, прежде люди верили, что есть движения тела «изящные» и есть «неизящные». Пришел американец, санкционировал пляску св. Вита и назвал ее чарльстоном, и т. д. Очень упрощенная философия культуры.
– Ошибаетесь. Это все не так просто и гораздо глубже. Именно философия – философия танца. Причем для «американского» танца характерен не чарльстон и не блак-боттом (да я в них и не вижу никакого новаторства – в смысле эмансипации от «изящества» оба они, право, ушли не дальше простого русского казачка) – для американского духа типичны танцы дочарльстоновского периода – фокстрот, уанстэп и другие, имена же их Ты, Господи, веси…
– Ведь уж совсем не «авантюристские» танцы, – возразил второй гость. – Помилуйте: ни одного прыжка, нога не отрывается от паркета – делопроизводство какое то, а не пляска. Дедушка с бабушкой могут это танцевать, не утруждая старых костей и не роняя достоинства серебряных седин.
– Верно. И в том то и дело. Ибо что есть философия пляски? Танец – это воспроизведете любви. В его развитии, глядя с птичьего полета на суть, а не на мелочи, можно отметить три стадии. Для первой типичны (простоты ради, я буду говорить только о танцах парой) пляски народные или подделки под них – казачок, чардаш, мазурка. Их содержание в том, что «он» гонится за «ней», а она ускользает. Если она и сдается, то только на мгновение: даст обвить себя рукой, покружится вприпрыжку и опять вырвется. Иными словами: тут вам показывают только предисловие романа, а не самый роман. Массовый человек, создававший эти танцы, был стыдлив. Доводил зрителя только до полога брачной опочивальни, а дальше не пускал. Потом (и, кажется, это совпало с зарей романтической школы в литературе, то есть с первым, еще не американским прорывом через забор) наступила вторая стадия: главный ее представитель – вальс. Погоня уже кончилась: он и она держат друг друга в объятиях – но еще на некотором расстоянии; и для того, чтобы расстояние не нарушалось, им еще полагается слегка припрыгивать. Не так высоко и задорно, как в первой стадии, но все же. Именно в качестве предупредительной меры – чтобы не слишком прижимались, чтобы соблюдался некий воздушный «забор». Это уже не предисловие, пред нами самый роман, но – только первая глава его. Полог слегка раздвинут, но не больше. А теперь – третья стадия. Американец сорвал полог, упразднил забор даже воздушный – танцуют так, как сказано в Библии: «жена да прилепится…» И при этом, конечно, отпадает прыжок. При таком слиянии двух в одно не распрыгаешься. Если надоедает окаменелость, разрешается посолить ее приправой «шимми», но скакать запрещено: не дай Бог, еще оторветесь на волосок друг от друга… Вот в чем философия американского танца; и заметьте, что она идет вровень с целым рядом других аналогичных явлений в той же сфере, только более важных явлений, бытовых и общественных. Короткие юбки. Отмена корсета. Декольте, которое в наши годы считалось бальным франтовством, введено в обиход каждого дня. Вообще повальное упрощение в бытовых отношениях между «ним» и «ней». Словом, рушатся последние заборы гарема и терема, психологические, костюмерные, бытовые, общественные, политические: и массовым уличным символом, и больше того – проводником их служит именно этот самый заморский танец, который сам по себе, без слов и лучше всяких слове, осязанием, а не сознанием, приучает нынешнюю молодежь с малолетства к тому, что забора и здесь нет. Ко благу или беде – наших детей и сегодня воспитывает Америка…
Неужели вам никогда не пришло в голову, что бывают часы, когда здоровый ребенок сам просится в кроватку, и что «тьма» тогда является первым условием хорошего сна, – и что сон такой есть не пытка, а блаженство.
Прочел я недавно в одном роман страницу, над которой, как ни странно, стоит остановиться и просвещенному вниманию. Это была картина человеческого общества после сплошного десятилетия войны в воздух. Десять лет подряд наука проявляла свою мощь во имя разрушения – и, любуясь на это совершенство, возненавидел человек самую идею «знания». Душой целого поколения овладело великое равнодушие. Фабрики стали, – тем немногим рабочим, которых не успели искалечить, просто не хочется ходить на работу. Свисли телеграфные проволоки с расшатанных столбов, потому что никто ни о чем не спрашивает и некому и не о чем сообщить. Ребятишки играют в мяч на ржавых рельсах; еще вчера это были важнейшие нервы торгашеской цивилизации, а сегодня и матери тех ребятишек забыли, что когда то такая забава могла кончиться плохо. И самим детям уже в голову не придет спросить старших, что это за рельсы, к чему проволоки, для чего высокие трубы; ибо самое любопытство угасло, и остатки человечества живут только двумя желаниями: утолить голод и спать.
Именно так, полторы тысячи лет тому назад, сошло на землю средневековье; и в этом вся разгадка его долговечности. Никакого тут не было меча пламенного, и никакой надобности в мече. Акрополь осыпался и форум исчез под кучей мусора не потому, что новые пастыри ненавидели все античное, а потому, что и пастырям и пастве было просто не до того. Не по чьему либо приказу начали римские золоторотцы вываливать содержимое своих тачек на Yla Sacra, а просто потому, что вот удобная канава, близко, и никому не нужна. Никакой нужды не было запрещать Фидия и Платона, как нет нужды сегодня запретить моду наших бабушек.
А отсюда, молодой человек, следует один вывод: самое счастливое время в истории человечества, прошлой и будущей, должно быть и есть это самое средневековье. Выбросьте вы из головы, раз навсегда, это невежественное представление о тех веках, как об эпохе непрерывного и активного угнетения, духовного или политического или общественного. Чего ради? Ведь не было тогда любопытствующего Галилея, которого пришлось бы сажать в тюрьму; не было и хронических эпидемий ереси, чтобы нужно было заводить инквизицию. Если и случались вспышки иноверия, то весь обхват их ограничивался одной какой-нибудь провинцией, по большей части далекой окраиной; да и то редко. Большинство населения не интересовалось богоисканием. Вообще не любопытствовало. Фанатизма не было – только неучи говорят о средних веках, как об эпохе фанатической. Фанатизм есть явление военного порядка: мобилизация энтузиазма, для защиты твердынь или ниспровержения твердынь. Когда всем в сущности все это безразлично, незачем мобилизовать ни охрану, ни крамолу. Вы принимаете за фанатизм нечто совсем иное: ту ребяческую радость, с которой они сбегались глядеть на пестрые процессии, или то ребяческое замирание под ложечкой, с которым они на исповеди шепотом изливали пред зевающим попом малосольные погрешности куцей своей жизни. Но ведь еще больше процессии они любили ярмарку; а трепет, охватывавший их перед исповедью, ничего общего не имел с религией. Так трепещет девица от первого поцелуя; во второй раз – гораздо меньше.
В политическом отношении были это, конечно, времена неспокойные; но и тут нельзя к ним применить вашу нынешнюю терминологию – свобода, гнет, восстание. Точно так же, как вся духовная активность той эпохи была монополией тесного круга людей, носивших рясы, так и политические бури средневековья были, в сущности, домашним делом двадцати семейств, члены которых носили шляпы с перьями. Это было для них то же самое, что для вашего поколения спорт. Разве ваше поколение занимается спортом? Блеф. Два здоровых дерутся, десять тысяч глядят и кричат, а называется это, что вся нация любит бокс. Это, поверьте мне, и есть рецепт, по которому составлялись тогда все конфликты между домом Монтекки и домом Капулетти, между Пизой и Генуей, отчасти даже между гвельфами и гибеллинами. Герцог, его родня, его челядь уходили в изгнание; но не только те, кого мы теперь именуем массой, а даже и среднее сословие – купец, ремесленник, костоправ и трактирщик – играло тут чаще всего роль зрителей вокруг платформы; заинтересованных зрителей, увлеченных зрителей, но без крупной ставки в игре. Вы скажете, что я преувеличиваю. Конечно. Я чудовищно преувеличиваю. Но когда-нибудь и вы поймете, молодой человек, что много есть приемов для изложения истинной правды, и далеко не худший из них называется «преувеличивать».
А уж в социальном смысле средневековье было раем. Осуществившейся утопией. Даже вы, сударь, даже вы во всеоружии вашей неосведомленности не можете не знать, что разница в технике быта между директором банка и его дактило в наши дни куда больше, чем была в те годы между бароном в замке и браконьером на опушке баронского леса. Если хотите постичь это совсем реально, вспомните харчевню. Харчевню на большой дороге. В наши дни, путешествующий набоб останавливается в отеле, подобном городу из слитых вместе двадцати дворцов, – бедняку редко приходится даже пройти по улице, где высится это чудо продажного зодчества. Но Шарлемань во всей славе своей ночевал на том же постоялом дворе, где жевал свой кус бродяга, и та же кухня угождала обоим. А это значит, не только то, что вкусы владыки были не так еще утончены, – видно, и запросы оборванца были не так уже скромны по тогдашнему времени.
Вообще, это предположение, будто крестьянство средних веков постоянно и регулярно голодало, дабы замок мог утопать в роскоши, – сущий вздор. Какая там роскошь, когда люди вряд ли еще имели понятие о коврах, картинах, бархате, даже о стекле, даже о мягком кресле? Попробуйте сами составить список предметов вашего личного мещанского уюта: начиная с крана горячей воды и до чашки кофе после обеда (уж не говоря о вашей «библиотеке», которая, боюсь, не заслуживает этого титула) – увидите, что ни о чем подобном не мог во дни оны мечтать и пфальцграф, один из семи избирателей кесаря. Конечно, и у них были свои излишества, классический каплун с начинкой, или бутылка, которую три месяца везли из Бургундии; но, в общем, очень это была дешевая аристократия.
Но главным залогом живучести этого рая было отсутствие худшей из социальных пыток: зависти. Зависть – это псевдоним любопытства; это – склонность к подглядыванию сквозь щели сословных заборов. Для века, чьим богом был Покой, этот интерес к быту высшего круга был так же чужд, как интерес к открытию северного полюса.
Я не отрицаю, что дворянство той эпохи пользовалось некоторыми привилегиями, на наш нынешний вкус нетерпимыми. Но вопрос ведь в том, были ли эти права столь же обидными и на вкус самих вассалов. В наше время взрослого человека нельзя даже и оштрафовать без сложных обрядов судоговорения; но учитель может посадить мальчика в карцер, не прибегая ни к какому ритуалу. Это не потому, что правосудие бывает разное, а лишь потому, что сам ребенок не обижается за упрощенное производство; или не настолько обижается, чтобы вызвать серьезный отклик в общественной совести. Чтобы судить о порядках эпохи, надо понять ее психологию.
Мы с вами возмутились бы против порядка, при котором феодальному помещику принадлежало бы право de basse et haute jusnice над нами и нашими семьями; но тысячу лет назад, если бы мужику в Тюрингии предложили на выбор – или судиться у своего же барона, или тащиться на суд к судьям той же эпохи, за сто миль и дальше, ясно, что бы он предпочел.
По этому поводу, когда-нибудь, я расскажу вам историю из XIV-го века, историю графа Альбера и трех крестьянок, над которыми он надругался: надругался так обидно, так страшно, так феодально, что этот позор остался навсегда единственным приличным воспоминанием всей их скотской мужичьей жизни; и, когда разразилась Жакерия, и восставшие поселяне хотели убить графа Альбера, – спасли его, ценою собственной гибели, эти три женщины. И, по-моему, были совершенно правы.
1930
L'Amerique a un metre
Недавно пришли ко мне в гости два человека, один из Америки, другой никогда там не был. Этот второй сказал:
– Хотелось бы съездить в Соединенные Штаты, посмотреть, чем там люди живут.
– Не стоит – ответил первый. – Америка здесь перед вашим носом, вы ею окружены, вы ею дышите; и не только теперь, а с самого детства.
Я вмешался и спросил:
– Это вы про куковских туристов?
– Нет, – сказал он, – не про них, а про настоящую суть Америки, про то, «чем там люди живут», как приятель наш выразился. Эта американская квинтэссенция буквально заполняет у вас в Европе каждую щель; странно, что вы все еще этого не заметили. Изо всех духовных влияний, какими живет и жила Европа, за память нашего поколения, самое сильное – американское.
– Что за парадокс! – отозвался второй гость. – Я тоже принадлежу к вашему поколению и вырос там же, где и вы, – в России. Кто на нас влиял? Одно время французские декаденты; одно время немецкая социал-демократия; одно время – норвежские романы. Америка – никогда. А теперь здесь, в Западной Европе, да кажется и во всех Европах, главная тема духовных исканий и пререканий – тоже не Америка, а советская Россия.
– Ошибаетесь. Начнем с нашего детства. Что мы читали? Русских книжек для детей тогда почти не было, – Кот Мурлыка да Желнховская, и обчелся. А читали мы запоем. На десять книг, что мы брали в библиотеке, девять было переводных. А из этих девяти восемь было американских: Майне Рид, Купер, Брет Гарт, все сюжеты Густава Эмара, добрая половина сюжетов Жюля Верна…
– Нельзя же ссылаться на такие пустяки, – возразил небывший в Америке. – Еще до Эмара мы зачитывались сказками – разве следует отсюда, что мы духовно стали гражданами тридевятого государства?
– Это вряд ли можно сравнивать – заступился я (но только из хозяйской вежливости, так как и сам считал, что американец преувеличивает). – Сказка – небывальщина; даже детям это известно; а похождения Меткой Пули и Габриеля Конроя, как-никак, притязали на жизненную правдоподобность; и нельзя отрицать, что это чтение воспитывало в нас вкусе, скажем, к сильным переживаниям.
– Верно – сказал американец, – только я внесу одну поправку. Не просто к сильным переживаниям, а к одному их разряду. «Американские» похождения, о которых мы читали, почти всегда разыгрывались на одном и том же поприще: на поприще пионерства. Это почти всегда были приключения людей, вышедших за межу благоустроенной населенности, в пространства, где еще в ту минуту нет ни сохи, ни суда. Запомните, во-первых, это: зачитывались мы тогда не просто увлекательной авантюристикой, а авантюристикой пионерской. А во-вторых – вспомните ее героев. Очень редко был это господин с печатью гения на челе, то, что теперь называют прирожденным вождем. Чаще всего был это просто бродяга, человек среднего ума, на людях застенчивый и неловкий – в сущности рядовой обыватель, только такой, который почему то не удержался по ею сторону забора, отделяющего благоустройство от пустоши. Иными словами, один из тех сотен тысяч «безымянных солдат», которые действительно и раздвинули Америку от узкой полосы на Атлантическом берегу до прерии, потом до Скалистых гор, потом и до Тихого океана. Это и будет то «во-вторых», которое я попрошу вас запомнить. Первое было – не просто искатель приключений, а пионер, человек, вставший на цыпочки и заглянувший через забор. Второе – не просто пионер, а пионер массовый, демократический. Запомните это, потому что в этом – вся Америка. Вся суть ее особаго духа – в идее массового пионерства.
– Милый друг – сказал второй гость, отмахиваясь, – если это и верно, то не забудьте, что с четырнадцати лет мы всю эту романтику бросили и отдали свои души Бодлеру, Верлену и их русским ученикам.
– Конечно. Больше того скажу: по прямой линии подошли к Бодлеру, в качестве законного и логического продолжения майне ридовщины. Только в другой области. Прежде нас один писатель учил заглядывать, что творится по ту сторону заборов благоустроенного общежития, а потом мы полюбили писателей, которые нам показали, что творится по ту сторону заборов благоустроенного духа. Что было «декадентство»? Прорыв за межу обыденной ортодоксальной психики, путешествие в ущелья духовных переживаний странных и неисследованных… Опять пионерство. И, главное, опять пионерство американского происхождения. Кто первый попытался уловить Демона Несуразности? Кто первый раздвинул пологи обычной «здоровой» души и заглянул в ту пещеру ведьм, которая где-то спрятана, вероятно, в каждом мозгу человеческом – только мы про нее раньше не знали? Бодлер чуть ли не начал с перевода сочинений американского Эдгара По. А значит это вот что: в 1849 году на дороге между Балтиморой и Ричмондом умер под забором пьяный бродяга, поэт и рассказчик; умер «под забором», но, если простите этот выпад в область символизма, раньше пробуравил в этом самом «заборе» просвет во мглу потустороннего сознания. И, хотя Америка его забыла, но Европа послала к этому забору десятки самых пытливых, самых беспокойных своих умов, и они все прильнули глазами к просвету, открытому гражданином штата Виргиния; и отсюда возникло одно из самых сильных духовных течений в новой цивилизации.
Второй гость даже возмутился.
– Символизм? Декадентство? «Одно из самых сильных течений»? Совершенно несообразное преувеличение. То была литературная мода, никак не отразившаяся на действительности; была и прошла.
– Сэр, у вас короткая память. Вы забыли слово «fin de siecle» и весь тот громадный всеобъемлющий радужник настроений и порывов, который под ним понимался. Было десятилетие, когда слово это жило на устах каждого грамотного человека, когда книга Нордау «Вырождение», боровшаяся главным образом против явлений круга к «fin de siecle», чуть ли не разделила весь мыслящий мир на два лагеря. Если это и была «литературная мода», то мода редкой мощности, такая же волнующая и зажигательная, как в свое время романтизм. И уж совсем неправильно думать, будто есть литературные моды, которые «никак не отражаются на действительности». Конечно, действительность – зеркало своеобразное, и оно отражает литературу по своему. И романтическая школа не в том смысле «отразилась», чтобы народы стали культивировать домовых по «Леноре» и пить человечью кровь из бутылочки по Бюге Жаргалю. Но то отвращение к благоустроенной обыденщине, которое создало и суть романтизма, и даже его чепуху, сказалось на испанских пронунсиаменто, на революциях 1830 го и особенно 1848 го года, на чартизме, на эпопеях Гарибальди и Кошута. «Fin de siecle» отразился на жизни еще сильнее: я уверен, что будущий историк это признает. Этот призыв к пересмотру всего нашего духовного содержания, к уничтожению границ между нормой и анормальностью, к прыжку в обрыв – он только начался в области психологии, но перебросился в область этики, и кончился там, где кончаются все большие «литературные моды» – на баррикадах. Кто был во дни нашей молодости учителем и пророком всех поджигателей, по вине которых (или заслуге) пылают теперь заборы всего света? Звали его Ницше. А он был типичнейшей фигурой «fin de siecle».
Нордау прямо зачислил его в декаденты, и это – одна из немногих вполне справедливых оценок, какие были в его книге. Ницше – родной брат Эдгара По, только применивший ту же систему в другой отрасли, – переступивший межу не в полосе сознания и переживания, а в полосе нравственности, долга, добра и зла. Начало всех этих начал (я теперь не спорю, хороши они или плохи) – под тем забором на шоссе из Балтиморы в Ричмонд. Все это пионерство – то есть американщина.
– Может быть, – сказал ему я, – но все это было и быльем поросло. Даже дети, говорят, читают не те книжки. Взрослым вообще некогда читать. Декаденты забыты, включая и По и Ницше. Молодежь ходит в кинематограф или в танцульку.
– Верно, – подхватил он. – Я согласен: главное «духовное» влияние нашего времени – это экран и танцкласс. Опять-таки не буду сейчас разбираться, полезно ли это или вредно. Важно установить две вещи: во первых – оба эти влияния чрезвычайно сильны, количественно, пожалуй, сильнее всех прошлых. Во-вторых, на экранах царит американский фильм, а в танцульке – музыка и пляска американских негров.
Второй гость даже зевнул от такого падения с умственных высот до джаза; он сказал насмешливо:
– Любой американский патриот на вас обидится, если при нем упомянете эти два достижения в смысл некоего духовного представительства Америки в Европе.
– Мало ли за что может обидеться близорукий человек, – ответил первый. – А я вам говорю, что американский фильм, музыка кухонной кастрюли и танец чернокожего прямо и явно продолжают традицию «Меткой Пули», полета в ядре на луну и «Гибели Ушерова дома».
– Экран – пожалуй, – заметил я примирительно, опять вступая на путь хозяйской добродетели, – Дуглас Фербенксе, Том Микс, ковбои – все это, конечно, опять Майн Рид…
– Я совсем не это имел в виду, – ответил американец, – хотя, конечно, и это не мелочь. Даже мы в детстве, зачитываясь книгами об американских авантюристах, не получали этой пищи в таких дозах и в таких осязательных наглядных формах, какие глотает каждый вечер теперешнее отрочество; не говоря уже о томе, что нас, читателей, считали тысячами, а у экрана зрителей миллионы. Уж по одному этому вы неправы, когда утверждаете, будто Густав Эмар скончался. Он, под другим именем, царит теперь над детскими душами, как никогда в былые годы не царил. Каждый средний подросток, по крайней мере раз в неделю, любуется теперь на то, как надо перескакивать через заборы. Но я не эту категорию лент имел, главным образом, в виду. Гораздо важнее – и еще популярные у массы – фильмы революционного содержания; а его пока умеют делать по настоящему только в Америке.
Тут и второй гость и я развели руками: революционный фильм? из Америки? где, когда?
– Вы, – сказал американец, – плохо понимаете, что такое «революционный». Революционно не то, что прямо говорит о перевороте, а то, что подстрекает к перевороту. Фильмы, где нам показывают нищету, гнет и прочее – это не революция, это просто (почти всегда) нравоучительная скука, и массовый посетитель их не любит. Зато обожает он сцены роскоши, дворцы, наряды, собственный автомобиль, собственный парк. Это – как раз то, что в Америке делают охотно и изумительно. Никогда еще в истории не показывали бедняку так ярко, подробно и аппетитно, что такое богатство и чего он лишен. До кинематографа не только рабочий, но и мы с вами, люди средние, понятия не имели, как живут князья и миллионеры. Что-то слыхали, что-то видали на улице, но не изнутри, не интимно. Теперь нас впустили в их пиршественный чертог и в терема их женщин. Даже нам с вами завидно. А на галерке, в дешевых местах, сидит простонародье и впивает в себя подавляющее осязание (не просто сознание, а осязание) классовых различий. В забор между графом и нищим пробита щель – и какая!
– Зависть, – сказал второй гость, пожимая плечами, – это еще не революция.
– Ошибаетесь. Зависть – первый из факторов революции; вернее, единственный. Больше того: зависть – это вообще главный из двигателей прогресса. Если бы всем было плохо, если бы не было исключений, никто бы ни к чему не стремился. Если бы случайно не попалась одному из троглодитов пещера поудобнее, с мягким песчаным полом, когда у остальных «полы» были каменные, не было бы сейчас центрального отопления.
– Любопытно, все-таки, – сказал я, – как вы распространите это славословие и на джаз?
– Я не музыкален и мало знаю о музыке, – ответил он, – но извольте. Было время, сто лет тому назад, когда теория музыки начиналась с того, что есть шумы «музыкальные» и «немузыкальные». Первая категория носила характер чрезвычайно аристократически, отборный и замкнутый: даже аккорды допускались не все, а только по особому паспорту благозвучия. Словом, забор, и внутри забора очень тесный кружок строго процеженных звуковых сочетаний. Первую брешь попытался пробить Вагнер: выдал паспорт на музыкальность некоторым диссонансам. Но только некоторым; и, хотя в свое время это произвело впечатление революции, теперь мы все видим, что реформа Вагнера была, в сущности, очень невинным и умеренным шагом, вроде как бы – в области избирательного права – понижение имущественного ценза со ста рублей годового налога до девяноста. А потом встал американец, прислушался к гвалту негритянского квартала – и просто обвалил все заборы. Отменил не только разницу между аккордом и диссонансом, но даже и самое понятие «музыкального» шума. Заявил – и доказал – что музыка приемлет вообще все виды шума, стука, треска, гама, гвалта, писка, визга, рева, свиста, вплоть до отрыжки. Все можно. Это и называется джаз. Новый прорыв «пионерства». Опять раздвижение границ.
– Маринетти, – сказал я, – заявлял о музыкальности уличного грохота еще задолго до того, как мы услышали первую гнусавую ноту саксофона.
– О Маринетти, – отрезал он, – слыхали считанные сотни, и из них половина точно не знала, что он собственно проповедует. А джазом упиваются миллионы. Я ведь вам сказал, что американский дух – не просто пионерство, а пионерство массовое. – А теперь о танцах…
– Не стоит, – отмахнулся второй гость. – Уже и так понятно: вот, мол, прежде люди верили, что есть движения тела «изящные» и есть «неизящные». Пришел американец, санкционировал пляску св. Вита и назвал ее чарльстоном, и т. д. Очень упрощенная философия культуры.
– Ошибаетесь. Это все не так просто и гораздо глубже. Именно философия – философия танца. Причем для «американского» танца характерен не чарльстон и не блак-боттом (да я в них и не вижу никакого новаторства – в смысле эмансипации от «изящества» оба они, право, ушли не дальше простого русского казачка) – для американского духа типичны танцы дочарльстоновского периода – фокстрот, уанстэп и другие, имена же их Ты, Господи, веси…
– Ведь уж совсем не «авантюристские» танцы, – возразил второй гость. – Помилуйте: ни одного прыжка, нога не отрывается от паркета – делопроизводство какое то, а не пляска. Дедушка с бабушкой могут это танцевать, не утруждая старых костей и не роняя достоинства серебряных седин.
– Верно. И в том то и дело. Ибо что есть философия пляски? Танец – это воспроизведете любви. В его развитии, глядя с птичьего полета на суть, а не на мелочи, можно отметить три стадии. Для первой типичны (простоты ради, я буду говорить только о танцах парой) пляски народные или подделки под них – казачок, чардаш, мазурка. Их содержание в том, что «он» гонится за «ней», а она ускользает. Если она и сдается, то только на мгновение: даст обвить себя рукой, покружится вприпрыжку и опять вырвется. Иными словами: тут вам показывают только предисловие романа, а не самый роман. Массовый человек, создававший эти танцы, был стыдлив. Доводил зрителя только до полога брачной опочивальни, а дальше не пускал. Потом (и, кажется, это совпало с зарей романтической школы в литературе, то есть с первым, еще не американским прорывом через забор) наступила вторая стадия: главный ее представитель – вальс. Погоня уже кончилась: он и она держат друг друга в объятиях – но еще на некотором расстоянии; и для того, чтобы расстояние не нарушалось, им еще полагается слегка припрыгивать. Не так высоко и задорно, как в первой стадии, но все же. Именно в качестве предупредительной меры – чтобы не слишком прижимались, чтобы соблюдался некий воздушный «забор». Это уже не предисловие, пред нами самый роман, но – только первая глава его. Полог слегка раздвинут, но не больше. А теперь – третья стадия. Американец сорвал полог, упразднил забор даже воздушный – танцуют так, как сказано в Библии: «жена да прилепится…» И при этом, конечно, отпадает прыжок. При таком слиянии двух в одно не распрыгаешься. Если надоедает окаменелость, разрешается посолить ее приправой «шимми», но скакать запрещено: не дай Бог, еще оторветесь на волосок друг от друга… Вот в чем философия американского танца; и заметьте, что она идет вровень с целым рядом других аналогичных явлений в той же сфере, только более важных явлений, бытовых и общественных. Короткие юбки. Отмена корсета. Декольте, которое в наши годы считалось бальным франтовством, введено в обиход каждого дня. Вообще повальное упрощение в бытовых отношениях между «ним» и «ней». Словом, рушатся последние заборы гарема и терема, психологические, костюмерные, бытовые, общественные, политические: и массовым уличным символом, и больше того – проводником их служит именно этот самый заморский танец, который сам по себе, без слов и лучше всяких слове, осязанием, а не сознанием, приучает нынешнюю молодежь с малолетства к тому, что забора и здесь нет. Ко благу или беде – наших детей и сегодня воспитывает Америка…