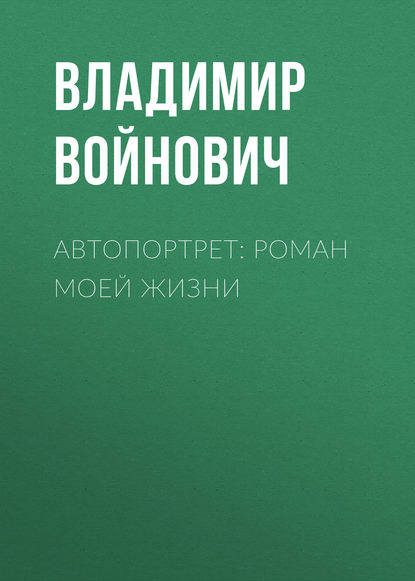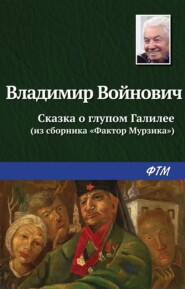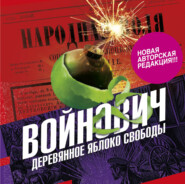По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Автопортрет: Роман моей жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шутки были однообразны, но проходили всегда: меня ни разу не обыскали.
Заключенные были разные. Часто попадались личности колоритные. Вор-рецидивист по фамилии Пшеничный сидел в лагере столько лет, сколько я жил. С упоением рассказывал о своих воровских подвигах, как, например, воровал на вокзалах у растяп чемоданы. Для этого у него был собственный чемодан специальной конструкции – без дна. Пшеничный подходил к зазевавшемуся пассажиру, своим чемоданом накрывал чужой чемодан и уносил. Операция не всегда оканчивалась успешно. Его ловили, сажали, увеличивали срок заключения, на воле долго побыть не удавалось. Но он не унывал. Привык к лагерной жизни, а воли боялся, как зверь, выросший в зоопарке. Все время привычно отлынивал от работы. Мы строили дом, и в одной из будущих комнат стояла самодельная печка, сделанная из железной бочки. Это устройство называлось «ташкент». Пшеничный садился, протягивал к огню руки и говорил: «Эх, люблю лагерь. Всю жизнь у костра».
Время от времени приходил бригадир, выгонял его на работу, но он вскоре снова оказывался у «ташкента». Он держал в памяти огромное количество блатных и лагерных песен, принимал заказы от вольных и переписывал песни по рублю за штуку.
Как многолетний сиделец, Пшеничный знал многих, и его знали многие. Годы спустя я рассказал о нем своему другу Камилу Икрамову. Он сидел за своего отца, «врага народа», прошел через многие лагеря и там тоже встречал Пшеничного.
С одним из заключенных в нашей зоне я подружился особенно. Виктор Евсиков был бригадиром («бугром»), а до заключения – боевым летчиком. Свои восемь лет получил он, по его словам, за хранение пистолета. Мы с ним много говорили о полетах и самолетах. Я знал все советские современные самолеты, почти любой мог определить по звуку мотора, но и машины времен войны и довоенные тоже знал хорошо, по крайней мере, отличал. А если даже видел незнакомый самолет, то по рисунку крыла или киля мог угадать: это «Лавочкин», это «Яковлев», это «Ильюшин». Виктор был такой же фанатик авиации, как я, поэтому мы с ним без конца могли говорить о полетах и самолетах.
Однажды мне (и ему) сильно повезло. Хотя я был планеристом, некоторым фигурам пилотажа нас учили на самолете. Собственно фигур было четыре: крутой вираж, боевой разворот, петля, раньше называвшаяся мертвой, а в пору борьбы с космополитизмом переименованная в петлю Нестерова, и штопор. Строго говоря, штопор не фигура, а неуправляемое падение самолета с вращением вокруг вертикальной и продольной осей. Настоящие фигуры выполняются осознанными действиями летчика, но свалиться в штопор самолет может в результате ошибок пилотирования, что порой случается даже с достаточно опытными пилотами. Штопор штука очень опасная (примерно как занос автомобиля на обледенелой дороге). Чтобы намеренно ввести в штопор самолет, надо грубо нарушить правила управления, а выйти из него можно, только действуя хладнокровно, умело и точно. Умению вводить самолет в штопор и выводить из него учат всех начинающих летчиков, и нас тоже учили, но не на планере, а на самолете «По-2». На самолете же мы осваивали ночные полеты и ходили по маршруту. А маршрут пролегал как раз над тем местом, где я работал. Я узнал заранее и сообщил Виктору, когда именно буду пролетать над зоной. В означенное время пролетел и над зоной покачал крыльями.
Инструктор Дудник, сидевший в задней кабине и, похоже, дремавший, встрепенулся:
– Ты что делаешь?!
– Мы над моим домом летим. Я маме привет послал.
– А, молодец! – одобрил мои действия Дудник.
Конец сезона
В начале августа летный сезон в аэроклубе закончился, и в моей жизни наступила пустота. Я ощущал себя так, словно расстался с любимым человеком. Правда, расставание было временное: прошедших пилотскую подготовку ожидало летное училище, а нас, планеристов, военная планерная школа – была такая, единственная, где-то на Алтае. До поступления в аэроклуб я и не слышал о военных планерах, а в аэроклубе узнал, что есть большие десантные аппараты, которые могут доставлять к месту назначения до двухсот человек и больше. Используются они для заброса, например, в тыл врага партизанских отрядов. Их преимущество перед самолетами – бесшумность (они могли незаметно пересечь линию фронта) и малая посадочная скорость, способность приземлиться на небольшой площадке.
Конечно, будь у меня выбор, я бы предпочел училище, и желательно истребительное. Но с моими семью классами об училище нечего было и мечтать. Я надеялся в армии доучиться и стать в конце концов летчиком-истребителем. Вскоре прошел медкомиссию. Правда, у меня было небольшое искривление носовой перегородки, о чем я сам сказал отоларингологу. Он это дело тут же исправил: раскаленным электродом расширил дырку в носу (при этом сильно пахло горелым мясом), вслед за чем я был признан годным к летному делу.
Мечты о небе и форме
Вместе со мной готовился к поступлению в планерную школу мой друг по аэроклубу Васька Онищенко. Он, как и я, надеялся, что школа станет ступенью в настоящую авиацию. Воскресные вечера мы проводили вместе: гуляли по улице Ленина, заигрывали с девушками, но больше заглядывались на офицеров-летчиков. Их только-только одели по-новому – сменили сапоги на ботинки и кители на пиджаки гражданского покроя, но защитного цвета, с голубыми петличками и золотыми погонами. И на фуражках у них были не маленькие кокардочки, как у пехотинцев или артиллеристов, а крупные «крабы», как у моряков. А видя висевшие на парчовых поясах кортики, можно было вообще умереть от зависти! Как только в поле нашего зрения попадал такой красавец, Васька толкал меня локтем в бок и шептал:
– Пройдет года четыре, и мы такими же будем!
Надеясь, что будем такими же, мы, правду сказать, о беззаветном служении Родине не мечтали. У Васьки главной была мечта о красивой форме. Мне эта форма тоже нравилась, но у меня на первом месте было желание просто летать. Форма – на втором месте, Родина – на третьем. Этим мы отличались друг от друга. Может, поэтому я летал лучше.
Васька был смешной парень, хороший друг, немного авантюрист и жулик. Как-то мы увидели афишу фильма о летчиках «Пятый океан». И захотели на него пойти, хотя раньше этот фильм оба видели. Но оказалось, что ни у Васьки, ни у меня нет денег на билеты.
– Ладно, – сказал Васька, – сейчас достанем. Ты пить хочешь?
– Хочу.
– Ну, пойдем, попьем газировки.
Васька направился к тележке с газированной водой, и я с ним.
– Так у нас же денег нет, – сказал я.
– Не бойся, я угощаю. – И газировщице: – Два стакана с сиропом.
Выпили. Васька поставил стакан и смотрит на газировщицу. Она смотрит на него. Ждет, когда он заплатит.
– А сдачу? – спрашивает он.
– Какую сдачу? – не понимает газировщица.
– Как какую? Я же вам только что дал десять рублей.
– Вы? Десять рублей?
Она смотрит на Ваську с сомнением. Открывает металлический ящик с деньгами. Там, конечно, лежат и десятирублевки.
– Да вот же моя десятка! – тычет Васька в одну из купюр.
Газировщица смутилась и с извинениями отсчитала сдачу.
– Ну вот, – отойдя от газировщицы, говорит Васька, – теперь пойдем в кино…
Несостоявшийся взлет
…Однажды во время очередного взлета на планере случилась со мной неприятность. На стадии разгона я, как обычно, тащился за самолетом-буксировщиком и уже оторвался от земли метра на полтора, как вдруг замок, державший буксировочный трос, раскрылся – и самолет взлетел без меня.
Этот случай стал символичным: взлет в моей летной карьере не состоялся. Что, впрочем, увеличило мой шанс стать писателем.
Пятый океан и пятый пункт
Мой друг Бенедикт Сарнов, еврей по маме и по папе, утверждает, что государственного антисемитизма на себе не испытал. Ни при поступлении в литературный институт, ни при приеме на работу. Может быть, потому, что его фамилия с окончанием на «ов» звучит для нечуткого уха как русская. А я был по паспорту русским, и фамилия у меня, хоть с окончанием на «ич», но славянская, однако антисемитизм не раз являлся причиной того, что стоило мне чуть-чуть воспарить, как вмешивались силы, опускавшие меня на землю.
В группе людей, обучаемых летному делу, всегда попадаются один-два тупицы, начисто лишенных способности определять при посадке расстояние до земли тем природным инструментом, на который указывал Иван Андреевич Лобода. Таким был некто Ходус, который летал плохо, очень плохо, хуже даже Гали Макаровой. В конце концов его из аэроклуба отчислили, но раньше Дудник сказал мне между делом, что, по его мнению, Ходус еврей, чем объясняется его неспособность летать. Услышав это, я промолчал. Я никогда не скрывал, что у меня мама еврейка, и тут, возможно, мне надо было открыть глаза Дуднику, но я смутился – и не открыл.
Шило в мешке таилось недолго. Однажды, придя домой, я застал там Дудника, которого мама поила чаем. Оказалось, он пришел пригласить меня к участию в тех самых областных соревнованиях, на которых я так неудачно выступил. Моя мама говорила с очевидным еврейским акцентом, и Дудник не мог этого не заметить. Не знаю, разочаровало ли Дудника его открытие. Но, приехав на соревнования, я почувствовал, что между нами установилась молчаливая напряженность.
Думаю, Дудник поделился своим открытием с Лободой, который тоже переменил ко мне отношение. Сразу этого я заметить не мог, потому что мое клубное учение закончилось, и мы несколько лет не виделись. Но, служа в армии, я узнал из газет, что Лобода стал чемпионом СССР по планерному спорту, и написал ему письмо с поздравлением. Он не ответил. Прошло десять лет. Я отслужил армию, стал писателем и автором песни, которая нравилась не только космонавтам, но всем летающим людям. Помимо других замыслов, у меня был и тот, который отразился в повести «Два товарища» – о молодом летчике. Я взял в «Новом мире» командировку и отправился в Запорожье в надежде побывать в аэроклубе, поездить вместе с курсантами на аэродром и очень рассчитывая, что мне позволят полетать. Но Лобода, который, несмотря на чемпионство, карьеры не сделал, встретил меня холодно и подняться в воздух не разрешил. Представляясь ему, я ничего не сказал про песню о космонавтах, которую он наверняка знал (может быть, он тогда отнесся бы ко мне иначе), но предъявил ему свое командировочное удостоверение. Уже на пути с аэродрома Лобода спросил меня: «Так ты кем работаешь?» Я сказал, что журналистом, после чего он снова спросил с кривой ухмылкой: «И как тебе удалось туда пролезть?» Я понял, что, по его представлению, «пролезать» куда-то способны только представители той национальности, к которой он относил и меня, и, наверное, исключал для меня возможность достичь чего-то в жизни непролазным способом.
С неба на землю
Я считался если не самым лучшим, то одним из трех лучших в нашем аэроклубе. В другом отряде лучшими считались братья-близнецы Черкашины, о нас троих была даже небольшая статья в областной газете. Я не сомневался в том, что в школу планеристов после медкомиссии прохожу первым номером. И вдруг…
Не помню уже, какую должность занимал тот подполковник в городском военкомате, но его самого помню: высокий, худой, со впалыми щеками и бесцветными рыбьими глазами навыкате. Он мне сказал, что в школу планеристов я не поеду, потому что не прошел медицинскую комиссию.
– Как же не прошел, когда вот здесь написано: «Годен к летной работе»?
– А вот здесь написано, что у вас искривление носовой перегородки.
– Но здесь же написано, что искривление устранено.
– Но оно было, значит, оно может опять появиться.
– Да с чего же оно появится? Оно у меня было, потому что я в детстве с машины упал. Я не собираюсь опять падать с машины.
Подполковник начал играть желваками.
Другие электронные книги автора Владимир Николаевич Войнович
Другие аудиокниги автора Владимир Николаевич Войнович
Шапка




 0
0