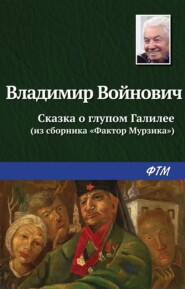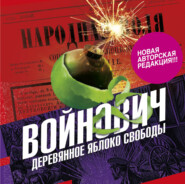По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Портрет на фоне мифа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Портрет на фоне мифа
Владимир Николаевич Войнович
«…Когда некоторых моих читателей достиг слух, что я пишу эту книгу, они стали спрашивать: что, опять о Солженицыне? Я с досадой отвечал, что не опять о Солженицыне, а впервые о Солженицыне. Как же, – недоумевали спрашивавшие, – а «Москва 2042»? «Москва 2042», отвечал я в тысячный раз, не об Александре Исаевиче Солженицыне, а о Сим Симыче Карнавалове, выдуманном мною, как сказал бы Зощенко, из головы. С чем яростные мои оппоненты никак не могли согласиться. Многие из них еще недавно пытались меня уличить, что я, оклеветав великого современника, выкручиваюсь, хитрю, юлю, виляю и заметаю следы, утверждая, что написал не о нем. Вздорные утверждения сопровождались догадками совсем уж фантастического свойства об истоках моего замысла. Должен признаться, что эти предположения меня иногда глубоко задевали и в конце концов привели к идее, ставшей, можно сказать, навязчивой, что я должен написать прямо о Солженицыне и даже не могу не написать о нем таком, каков он есть или каким он мне представляется...»
Владимир Войнович
Портрет на фоне мифа
Когда некоторых моих читателей достиг слух, что я пишу эту книгу,
они стали спрашивать: что, опять о Солженицыне? Я с досадой отвечал, что не опять о Солженицыне, а впервые о Солженицыне. Как же, – недоумевали спрашивавшие, – а «Москва 2042»? «Москва 2042», – отвечал я в тысячный раз, не об Александре Исаевиче Солженицыне, а о Сим Симыче Карнавалове, выдуманном мною, как сказал бы Зощенко, из головы. С чем яростные мои оппоненты никак не могли согласиться. Многие из них еще недавно пытались меня уличить, что я, оклеветав великого современника, выкручиваюсь, хитрю, юлю, виляю и заметаю следы, утверждая, что написал не о нем. Вздорные утверждения сопровождались догадками совсем уж фантастического свойства об истоках моего замысла. Должен признаться, что эти предположения меня иногда глубоко задевали и в конце концов привели к идее, ставшей, можно сказать, навязчивой, что я должен написать прямо о Солженицыне и даже не могу не написать о нем таком, каков он есть или каким он мне представляется. И о мифе, обозначенном этим именем. Созданный коллективным воображением поклонников Солженицына его мифический образ, кажется, еще дальше находится от реального прототипа, чем вымышленный мною Сим Симыч Карнавалов, вот почему, наверное, сочинители мифа на меня так сильно сердились.
Однако, приступим к делу и начнем издалека.
Игорь Александрович Сац
почитал многих писателей, но больше других Щедрина, Зощенко и Платонова, которых постоянно к месту и не к месту цитировал. Был, однако, еще один автор, стоявший выше всех перечисленных, он был Сацем любим особенно и мне настоятельно рекомендован.
– Читайте Ленина, – говорил мне Сац, – и вы все поймете. Прочтите для начала «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». Или «Материализм и эмпириокритицизм». Или «Государство и революция». Или – еще лучше – потратьте время, прочтите внимательно полное собрание его сочинений, и вы увидите, что у него написано все про все.
Был вечер декабря 1961 года.
Мы с Сацем сидели у него в его отдельной двухкомнатной квартире без туалета. Туалет общий находился в конце длинного коридора. Но отдельная квартира даже без уборной – роскошь, по тем временам неслыханная. К тому же столь удобное расположение – на углу Арбата и Смоленской площади. Тут же тебе метро и один из самых больших в Москве гастрономов.
Мы пили водку, закусывали жареной картошкой с ливерной колбасой и разговаривали.
Любовь к подобному препровождению времени была у нас общей, несмотря на разницу в летах – мне 29, а ему вдвое больше.
Фамилия Сац дала России целый букет самых разных талантов. Известный в свое время композитор Илья Сац приходился Игорю Александровичу дядей. Дочь дяди Наталья Ильинична, смолоду угодившая в лагеря, была потом известна как драматург, режиссер и многолетний руководитель детского театра. Сестра Игоря Наталья Александровна Сац-Розенель прибавила себе третью фамилию, выйдя замуж за ленинского наркома просвещения Анатолия Луначарского. Другая сестра – Татьяна Александровна – была хореографом, руководителем балета на льду и тренером многих известных фигуристов. Сын Саша стал потом известным пианистом. Сам Игорь Александрович тоже начинал как пианист и, как я слышал не от него, подавал очень большие надежды. Но после ранения в руку еще в Первую мировую войну был вынужден эти надежды оставить. Стал литературным критиком и редактором. Владел несколькими европейскими языками, знал многих знаменитых людей своего времени: у Николая Щорса был адъютантом, у Анатолия Луначарского – литературным секретарем, дружил с Андреем Платоновым, Михаилом Зощенко, Александром Твардовским и… со мной.
Осенью 1960 года, когда моя повесть «Мы здесь живем» была принята к печати журналом «Новый мир», Игоря Александровича дали мне в редакторы, на чем мы с ним и сошлись. К моменту нашего знакомства он был уже совершенно сед (волосы густые, белые с желтизной) и беззуб. Что-то с ним случилось такое, что дантист предложил ему вытащить все зубы, и он согласился. Зубы удалялись четыре дня подряд (по нескольку штук за один раз). Жена Саца Раиса Исаевна выдавала мужу скромную сумму, чтобы после каждого удаления он мог ехать домой на такси. Он, прикрывая окровавленный рот рукой, добирался на общественном транспорте, а проездные деньги тратил на четвертинку. Выпить он любил, но подчеркивал, что он не алкоголик, а пьяница, потому что пьет только по вечерам и в компании. В описываемое время его вечерней компанией часто бывал я.
Меня удивляло, что любую пищу и даже хлебные корки он ухитряется пережевывать одними деснами. Но понимать смысл им произносимого было непросто. Из-за беззубости он шамкал, при этом говорил так тихо, что я не все слова разбирал, сколько ни напрягался, а кроме того, свою речь он часто прерывал долгим, громким, заливистым смехом и при этом заглядывал мне в глаза, принуждая и меня смеяться вместе с ним, что я и делал из вежливости и через силу. Поводом для смеха были остроумные, как ему казалось, цитаты, приводимые им в доказательство его мысли из любимых авторов: все тех же Щедрина, Зощенко и того же Ленина, который, по мнению Саца, тоже был очень большой сатирик.
В тот вечер мы на Ленина потом неизбежно соскочили, а сначала темой нашей было только что произошедшее событие: Твардовский прочел мой новый рассказ «Расстояние в полкилометра», пригласил меня к себе, очень хвалил, наговорил мне таких слов, какие, по уверению Саца, редко кому приходилось слышать.
Сац был этому тоже искренне рад. Он считал меня своим открытием. С этим справедливо не согласна была Анна Самойловна Берзер – она меня прочла и оценила первая. Но и Сац следом за ней отнесся ко мне хорошо. Мнение Твардовского подтверждало, что Игорь Александрович во мне не ошибся.
– Есть писательские способности двух категорий: от учителей, которые можно выработать, и от родителей, с которыми надо родиться. Ваши – от родителей, – говорил мне Сац и сам был высказанной мыслью доволен.
Конечно, я слушал это, развесив уши.
Он мне много рассказывал о Луначарском, который был, по его мнению, высокообразованным человеком и талантливым драматургом. Автором пьесы «Бархат и лохмотья» и героем эпиграммы, звучавшей так: «Нарком сшибает рублики, стреляя точно в цель. Лохмотья дарит публике, а бархат – Розенель». Был и анекдот о наркоме и двух его дамах – Сац (фамилия) и Рут (имя). Когда привратника спрашивали, где его хозяин, тот (по анекдоту, а может, так и было) отвечал: «Да бог их знает. Они то с Сац, то с Рут».
Луначарского Игорь Александрович почитал, но Ленин… Ленин…
А я как раз был под впечатлением от другой личности. Я только что прочел какое-то сочинение о бактериологе Владимире Хавкине. Он вырос в России, жил в Бомбее и там разработал вакцину против чумы и холеры. Я сказал Сацу:
– Что ваш Ленин по сравнению с Хавкиным, который спас миллионы людей от чумы?
– Как вы смеете так говорить! – закричал на меня Сац. – Сравнивать Ленина с каким-то Хавкиным просто смешно. Ленин спас от чумы все человечество.
– По-моему, наоборот, Ленин не спас человечество, а заразил чумой.
Так сказал я и на всякий случай отодвинулся, потому что Сац, когда у него не хватало аргументов, начинал ребром ладони сильно бить меня по колену, а я ему ввиду разницы в возрасте ответить тем же не мог.
В это время раздался звонок, и в нашей комнате в сопровождении Раисы Исаевны объявился поздний гость —
Александр Трифонович Твардовский,
о котором мы говорили вначале.
Он был уже сильно навеселе во всех смыслах, то есть и пьяноват, и весел. Где-то по дороге он прислонился к стене, правый рукав его ратинового пальто от локтя до плеча был в мелу. Снявши пальто и лохматую кепку, пригладив пятерней редкие седоватые волосы, он сказал:
– Налейте мне рюмку водки, а я вам за это кое-что почитаю.
Рюмка, естественно, была налита.
Поставив на колени толстый портфель, Твардовский достал из него оранжевую папку с надписью на ней тиснеными буквами «К докладу», развязал коричневые тесемки. Я увидел серую бумагу и плотную машинопись, без интервалов и почти без полей. А.Т. чуть-чуть отпил из рюмки, надел очки, осмотрел слушателей, и уже тут возникло предощущение чуда.
«В пять часов утра, – начал Твардовский негромко, со слабым белорусским акцентом, – как всегда, пробило подъем – молотком об рельс штабного барака. Прерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать…»
Таких начал даже в большой литературе немного. Их волшебство в самой что ни на есть обыкновенности слов, в простоте, банальности описания, к таким я отношу, например, строки: «В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирной аул Махкет». Или (другая поэтика) в чеховской «Скрипке Ротшильда»: «Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно». Или вот в «Школе» Аркадия Гайдара (что бы ни говорили теперь, талантливый был писатель): «Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах…»
Такие начала, как камертон, дающий сразу верную ноту. Они завораживают читателя, влекут и почти никогда не обманывают.
Твардовский читал, и чем дальше, тем яснее становилось, что произошло событие, которое многими уже предвкушалось: в нашу литературу явился большой, крупный, может быть, даже великий писатель.
Десятилетие с середины пятидесятых
до середины шестидесятых годов, названное впоследствии «оттепелью», было для литературы весьма урожайно. В поэзии и, с некоторым отставанием, в прозе одно за другим возникали новые имена молодых авторов, которые писали откровеннее и талантливее большинства своих предшественников советского времени. В «Юности», в «Новом мире», в альманахах «Литературная Москва», «Тарусские страницы» появлялись рассказы и повести дотоле неизвестных Юрия Казакова, Бориса Балтера, Василия Аксенова, Анатолия Гладилина, Георгия Владимова, Владимира Максимова, и что ни вещь, то сенсация и разговоры на каждом шагу: «Как? Неужели вы не читали «До свидания, мальчики»?» «А Юрий Домбровский вам не попадался? Вы должны это немедленно найти и прочесть». «Да что вы с вашим Семеновым? Вот Казаков! Это же чистый Бунин!» Толпа талантов высыпала на литературное поле, поражая воображение читающей публики. Таланты писали замечательно, но чего-то в их сочинениях все-таки не хватало. Один писал почти как Бунин, другой подражал Сэлинджеру, третий был ближе к Ремарку, четвертый работал «под Хемингуэя». Но было предощущение, что должен явиться кто-то, не похожий ни на кого, и затмить сразу всех.
И вот в «Новом мире», ведущем журнале своего времени, обнаружилась повесть под странным, подходящим больше подводной лодке названием «Щ-854» неизвестного автора с незатейливым псевдонимом «А. Рязанский» и трудно запоминаемой собственной фамилией. У меня потом вертелось в голове: Солнежицын или Соленжицын. Твардовский тоже запомнил не сразу и записал в дневнике: Солонжицын. (Двадцать лет спустя я встретил американца, который, хвастаясь своим упорством, сказал мне, что несколько лет потратил, но все-таки научился произносить правильно фамилию Солзеницкин.)
У Твардовского была не очень свойственная советскому литератору черта – он редко, но искренне и независтливо радовался открытым им новым талантам. Влюблялся в автора. Правда, любви его хватало ненадолго. Всех без исключения потом разлюблял. Солженицына тоже. Но в тот вечер он был счастлив, как молодой человек, и влюбившийся, и ответно любимый. Он даже особо не пил, а только пригубливал водку и читал. Читал, останавливался, какие-то куски перечитывал, отдельные выражения повторял. Часто смеялся удачному словцу или фразе. Делая передышку, чтоб слегка закусить, с особым удовольствием обращался к хозяйке: «А подайте-ка мне маслица-хуяслица». Это из повести – употребляемые персонажами выражения, с которыми потом сам же Твардовский боролся. Вообще, надо сказать, он часто боролся с тем, что ему больше всего нравилось. Виктор Некрасов рассказывал, как Твардовский, будучи большим любителем выпить, вычеркивал у него всякие упоминания об этом занятии или смягчал картину: бутылку водки заменял ста граммами, а сто граммов – кружкой пива. В случае с Солженицыным редакция потом настаивала, и автор сравнительно легко согласился заменить «х» на «ф», и стало маслице-фуяслице, фуимется-подымется, но слово «смехуечки» Солженицын долго отстаивал, утверждая, что оно приличное, литературное, образовано корнем «смех» и суффиксом «ечк». Название он тоже долго отстаивал, а потом уступил, и компромисс пошел делу на пользу – «Один день Ивана Денисовича» звучит гораздо лучше и привлекательнее, чем то, что было.
Другой вечер Твардовский, насколько мне известно, провел у литераторов Лили и Семена Лунгиных (их квартира была известным в литературной Москве салоном), у них он читал то же самое вслух, и именно там слушал его Некрасов (в своих воспоминаниях Виктор Платонович ошибочно утверждает, что это было у Саца).
Сильно за полночь я отвез Твардовского на такси на Котельническую набережную. Пока ловили машину, он говорил мне (и потом многим другим), что повесть будет трудно напечатать, но зато, если удастся (а он на это надеялся, считая, что хороших вещей, которые нельзя напечатать, не бывает), потом все будет хорошо.
– Хотите прогноз? – сказал я. – Повесть вы напечатаете, но потом общая ситуация изменится к худшему.
Я никогда не выдавал себя за пророка и отвергал попытки (немалочисленные) моих почитателей приписать мне дар ясновидения (в других ясновидцев тоже не верю ни в одного, включая Иоанна Богослова и Нострадамуса, не говоря о ныне живущих). Но, наверное, я все-таки умел думать, видеть и понимать реальные тенденции и возможное направление их развития. Поэтому кое-что иногда предугадывал.
В описываемое время я видел, что события (как и раньше в российской истории) развиваются по законам маятника. Сталинский террор был одной стороной амплитуды, хрущевская оттепель приближалась к другой. Преемники Сталина, устав пребывать в постоянном страхе за собственную жизнь и видя все-таки, что страна гниет, согласились на ограниченную либерализацию режима, но вскоре заметили, что удержать ее в рамках трудно, она стремится к завоеванию все новых позиций и дошла уже до пределов, за которыми неизбежно изменение самой сути режима. А они в режиме жить боялись, а вне его не умели. Режим мог держаться на вере и страхе. Теперь не было ни веры, ни страха. Народ распустился. И в первую очередь писатели и художники, которые имеют обыкновение распускаться прежде других. Пишут и говорят что хотят. Уже критикуют не только Сталина, но и всю советскую систему. И Ленина. Пренебрегают методом соцреализма, свои какие-то «измы» придумывают. Надо, пока не поздно, дать по рукам. Для себя сталинские строгости отменить, для других вернуть в полной мере. Ропот партийных ортодоксов усиливался.
Со временем у нас появится много умников, которые с презрением будут относиться к «оттепели», не захотят отличать этот период от предыдущего. Но на самом деле это был колоссальный сдвиг в душах людей, похожий на тот, что произошел за сотню лет до того – после смерти Николая Первого. Может быть, если прибегать к аналогиям, во время «оттепели» людям ослабили путы на руках и ногах, но это ослабление было воспринято обществом эмоциональнее и отразилось на искусстве благотворнее, чем крушение советского режима в девяностых годах.
Литература «оттепельных» времен явила впечатляющие результаты, а полная свобода, пришедшая с крахом советского режима, по существу, не дала ничего, что бы явно бросалось в глаза.
Владимир Николаевич Войнович
«…Когда некоторых моих читателей достиг слух, что я пишу эту книгу, они стали спрашивать: что, опять о Солженицыне? Я с досадой отвечал, что не опять о Солженицыне, а впервые о Солженицыне. Как же, – недоумевали спрашивавшие, – а «Москва 2042»? «Москва 2042», отвечал я в тысячный раз, не об Александре Исаевиче Солженицыне, а о Сим Симыче Карнавалове, выдуманном мною, как сказал бы Зощенко, из головы. С чем яростные мои оппоненты никак не могли согласиться. Многие из них еще недавно пытались меня уличить, что я, оклеветав великого современника, выкручиваюсь, хитрю, юлю, виляю и заметаю следы, утверждая, что написал не о нем. Вздорные утверждения сопровождались догадками совсем уж фантастического свойства об истоках моего замысла. Должен признаться, что эти предположения меня иногда глубоко задевали и в конце концов привели к идее, ставшей, можно сказать, навязчивой, что я должен написать прямо о Солженицыне и даже не могу не написать о нем таком, каков он есть или каким он мне представляется...»
Владимир Войнович
Портрет на фоне мифа
Когда некоторых моих читателей достиг слух, что я пишу эту книгу,
они стали спрашивать: что, опять о Солженицыне? Я с досадой отвечал, что не опять о Солженицыне, а впервые о Солженицыне. Как же, – недоумевали спрашивавшие, – а «Москва 2042»? «Москва 2042», – отвечал я в тысячный раз, не об Александре Исаевиче Солженицыне, а о Сим Симыче Карнавалове, выдуманном мною, как сказал бы Зощенко, из головы. С чем яростные мои оппоненты никак не могли согласиться. Многие из них еще недавно пытались меня уличить, что я, оклеветав великого современника, выкручиваюсь, хитрю, юлю, виляю и заметаю следы, утверждая, что написал не о нем. Вздорные утверждения сопровождались догадками совсем уж фантастического свойства об истоках моего замысла. Должен признаться, что эти предположения меня иногда глубоко задевали и в конце концов привели к идее, ставшей, можно сказать, навязчивой, что я должен написать прямо о Солженицыне и даже не могу не написать о нем таком, каков он есть или каким он мне представляется. И о мифе, обозначенном этим именем. Созданный коллективным воображением поклонников Солженицына его мифический образ, кажется, еще дальше находится от реального прототипа, чем вымышленный мною Сим Симыч Карнавалов, вот почему, наверное, сочинители мифа на меня так сильно сердились.
Однако, приступим к делу и начнем издалека.
Игорь Александрович Сац
почитал многих писателей, но больше других Щедрина, Зощенко и Платонова, которых постоянно к месту и не к месту цитировал. Был, однако, еще один автор, стоявший выше всех перечисленных, он был Сацем любим особенно и мне настоятельно рекомендован.
– Читайте Ленина, – говорил мне Сац, – и вы все поймете. Прочтите для начала «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». Или «Материализм и эмпириокритицизм». Или «Государство и революция». Или – еще лучше – потратьте время, прочтите внимательно полное собрание его сочинений, и вы увидите, что у него написано все про все.
Был вечер декабря 1961 года.
Мы с Сацем сидели у него в его отдельной двухкомнатной квартире без туалета. Туалет общий находился в конце длинного коридора. Но отдельная квартира даже без уборной – роскошь, по тем временам неслыханная. К тому же столь удобное расположение – на углу Арбата и Смоленской площади. Тут же тебе метро и один из самых больших в Москве гастрономов.
Мы пили водку, закусывали жареной картошкой с ливерной колбасой и разговаривали.
Любовь к подобному препровождению времени была у нас общей, несмотря на разницу в летах – мне 29, а ему вдвое больше.
Фамилия Сац дала России целый букет самых разных талантов. Известный в свое время композитор Илья Сац приходился Игорю Александровичу дядей. Дочь дяди Наталья Ильинична, смолоду угодившая в лагеря, была потом известна как драматург, режиссер и многолетний руководитель детского театра. Сестра Игоря Наталья Александровна Сац-Розенель прибавила себе третью фамилию, выйдя замуж за ленинского наркома просвещения Анатолия Луначарского. Другая сестра – Татьяна Александровна – была хореографом, руководителем балета на льду и тренером многих известных фигуристов. Сын Саша стал потом известным пианистом. Сам Игорь Александрович тоже начинал как пианист и, как я слышал не от него, подавал очень большие надежды. Но после ранения в руку еще в Первую мировую войну был вынужден эти надежды оставить. Стал литературным критиком и редактором. Владел несколькими европейскими языками, знал многих знаменитых людей своего времени: у Николая Щорса был адъютантом, у Анатолия Луначарского – литературным секретарем, дружил с Андреем Платоновым, Михаилом Зощенко, Александром Твардовским и… со мной.
Осенью 1960 года, когда моя повесть «Мы здесь живем» была принята к печати журналом «Новый мир», Игоря Александровича дали мне в редакторы, на чем мы с ним и сошлись. К моменту нашего знакомства он был уже совершенно сед (волосы густые, белые с желтизной) и беззуб. Что-то с ним случилось такое, что дантист предложил ему вытащить все зубы, и он согласился. Зубы удалялись четыре дня подряд (по нескольку штук за один раз). Жена Саца Раиса Исаевна выдавала мужу скромную сумму, чтобы после каждого удаления он мог ехать домой на такси. Он, прикрывая окровавленный рот рукой, добирался на общественном транспорте, а проездные деньги тратил на четвертинку. Выпить он любил, но подчеркивал, что он не алкоголик, а пьяница, потому что пьет только по вечерам и в компании. В описываемое время его вечерней компанией часто бывал я.
Меня удивляло, что любую пищу и даже хлебные корки он ухитряется пережевывать одними деснами. Но понимать смысл им произносимого было непросто. Из-за беззубости он шамкал, при этом говорил так тихо, что я не все слова разбирал, сколько ни напрягался, а кроме того, свою речь он часто прерывал долгим, громким, заливистым смехом и при этом заглядывал мне в глаза, принуждая и меня смеяться вместе с ним, что я и делал из вежливости и через силу. Поводом для смеха были остроумные, как ему казалось, цитаты, приводимые им в доказательство его мысли из любимых авторов: все тех же Щедрина, Зощенко и того же Ленина, который, по мнению Саца, тоже был очень большой сатирик.
В тот вечер мы на Ленина потом неизбежно соскочили, а сначала темой нашей было только что произошедшее событие: Твардовский прочел мой новый рассказ «Расстояние в полкилометра», пригласил меня к себе, очень хвалил, наговорил мне таких слов, какие, по уверению Саца, редко кому приходилось слышать.
Сац был этому тоже искренне рад. Он считал меня своим открытием. С этим справедливо не согласна была Анна Самойловна Берзер – она меня прочла и оценила первая. Но и Сац следом за ней отнесся ко мне хорошо. Мнение Твардовского подтверждало, что Игорь Александрович во мне не ошибся.
– Есть писательские способности двух категорий: от учителей, которые можно выработать, и от родителей, с которыми надо родиться. Ваши – от родителей, – говорил мне Сац и сам был высказанной мыслью доволен.
Конечно, я слушал это, развесив уши.
Он мне много рассказывал о Луначарском, который был, по его мнению, высокообразованным человеком и талантливым драматургом. Автором пьесы «Бархат и лохмотья» и героем эпиграммы, звучавшей так: «Нарком сшибает рублики, стреляя точно в цель. Лохмотья дарит публике, а бархат – Розенель». Был и анекдот о наркоме и двух его дамах – Сац (фамилия) и Рут (имя). Когда привратника спрашивали, где его хозяин, тот (по анекдоту, а может, так и было) отвечал: «Да бог их знает. Они то с Сац, то с Рут».
Луначарского Игорь Александрович почитал, но Ленин… Ленин…
А я как раз был под впечатлением от другой личности. Я только что прочел какое-то сочинение о бактериологе Владимире Хавкине. Он вырос в России, жил в Бомбее и там разработал вакцину против чумы и холеры. Я сказал Сацу:
– Что ваш Ленин по сравнению с Хавкиным, который спас миллионы людей от чумы?
– Как вы смеете так говорить! – закричал на меня Сац. – Сравнивать Ленина с каким-то Хавкиным просто смешно. Ленин спас от чумы все человечество.
– По-моему, наоборот, Ленин не спас человечество, а заразил чумой.
Так сказал я и на всякий случай отодвинулся, потому что Сац, когда у него не хватало аргументов, начинал ребром ладони сильно бить меня по колену, а я ему ввиду разницы в возрасте ответить тем же не мог.
В это время раздался звонок, и в нашей комнате в сопровождении Раисы Исаевны объявился поздний гость —
Александр Трифонович Твардовский,
о котором мы говорили вначале.
Он был уже сильно навеселе во всех смыслах, то есть и пьяноват, и весел. Где-то по дороге он прислонился к стене, правый рукав его ратинового пальто от локтя до плеча был в мелу. Снявши пальто и лохматую кепку, пригладив пятерней редкие седоватые волосы, он сказал:
– Налейте мне рюмку водки, а я вам за это кое-что почитаю.
Рюмка, естественно, была налита.
Поставив на колени толстый портфель, Твардовский достал из него оранжевую папку с надписью на ней тиснеными буквами «К докладу», развязал коричневые тесемки. Я увидел серую бумагу и плотную машинопись, без интервалов и почти без полей. А.Т. чуть-чуть отпил из рюмки, надел очки, осмотрел слушателей, и уже тут возникло предощущение чуда.
«В пять часов утра, – начал Твардовский негромко, со слабым белорусским акцентом, – как всегда, пробило подъем – молотком об рельс штабного барака. Прерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать…»
Таких начал даже в большой литературе немного. Их волшебство в самой что ни на есть обыкновенности слов, в простоте, банальности описания, к таким я отношу, например, строки: «В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирной аул Махкет». Или (другая поэтика) в чеховской «Скрипке Ротшильда»: «Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно». Или вот в «Школе» Аркадия Гайдара (что бы ни говорили теперь, талантливый был писатель): «Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах…»
Такие начала, как камертон, дающий сразу верную ноту. Они завораживают читателя, влекут и почти никогда не обманывают.
Твардовский читал, и чем дальше, тем яснее становилось, что произошло событие, которое многими уже предвкушалось: в нашу литературу явился большой, крупный, может быть, даже великий писатель.
Десятилетие с середины пятидесятых
до середины шестидесятых годов, названное впоследствии «оттепелью», было для литературы весьма урожайно. В поэзии и, с некоторым отставанием, в прозе одно за другим возникали новые имена молодых авторов, которые писали откровеннее и талантливее большинства своих предшественников советского времени. В «Юности», в «Новом мире», в альманахах «Литературная Москва», «Тарусские страницы» появлялись рассказы и повести дотоле неизвестных Юрия Казакова, Бориса Балтера, Василия Аксенова, Анатолия Гладилина, Георгия Владимова, Владимира Максимова, и что ни вещь, то сенсация и разговоры на каждом шагу: «Как? Неужели вы не читали «До свидания, мальчики»?» «А Юрий Домбровский вам не попадался? Вы должны это немедленно найти и прочесть». «Да что вы с вашим Семеновым? Вот Казаков! Это же чистый Бунин!» Толпа талантов высыпала на литературное поле, поражая воображение читающей публики. Таланты писали замечательно, но чего-то в их сочинениях все-таки не хватало. Один писал почти как Бунин, другой подражал Сэлинджеру, третий был ближе к Ремарку, четвертый работал «под Хемингуэя». Но было предощущение, что должен явиться кто-то, не похожий ни на кого, и затмить сразу всех.
И вот в «Новом мире», ведущем журнале своего времени, обнаружилась повесть под странным, подходящим больше подводной лодке названием «Щ-854» неизвестного автора с незатейливым псевдонимом «А. Рязанский» и трудно запоминаемой собственной фамилией. У меня потом вертелось в голове: Солнежицын или Соленжицын. Твардовский тоже запомнил не сразу и записал в дневнике: Солонжицын. (Двадцать лет спустя я встретил американца, который, хвастаясь своим упорством, сказал мне, что несколько лет потратил, но все-таки научился произносить правильно фамилию Солзеницкин.)
У Твардовского была не очень свойственная советскому литератору черта – он редко, но искренне и независтливо радовался открытым им новым талантам. Влюблялся в автора. Правда, любви его хватало ненадолго. Всех без исключения потом разлюблял. Солженицына тоже. Но в тот вечер он был счастлив, как молодой человек, и влюбившийся, и ответно любимый. Он даже особо не пил, а только пригубливал водку и читал. Читал, останавливался, какие-то куски перечитывал, отдельные выражения повторял. Часто смеялся удачному словцу или фразе. Делая передышку, чтоб слегка закусить, с особым удовольствием обращался к хозяйке: «А подайте-ка мне маслица-хуяслица». Это из повести – употребляемые персонажами выражения, с которыми потом сам же Твардовский боролся. Вообще, надо сказать, он часто боролся с тем, что ему больше всего нравилось. Виктор Некрасов рассказывал, как Твардовский, будучи большим любителем выпить, вычеркивал у него всякие упоминания об этом занятии или смягчал картину: бутылку водки заменял ста граммами, а сто граммов – кружкой пива. В случае с Солженицыным редакция потом настаивала, и автор сравнительно легко согласился заменить «х» на «ф», и стало маслице-фуяслице, фуимется-подымется, но слово «смехуечки» Солженицын долго отстаивал, утверждая, что оно приличное, литературное, образовано корнем «смех» и суффиксом «ечк». Название он тоже долго отстаивал, а потом уступил, и компромисс пошел делу на пользу – «Один день Ивана Денисовича» звучит гораздо лучше и привлекательнее, чем то, что было.
Другой вечер Твардовский, насколько мне известно, провел у литераторов Лили и Семена Лунгиных (их квартира была известным в литературной Москве салоном), у них он читал то же самое вслух, и именно там слушал его Некрасов (в своих воспоминаниях Виктор Платонович ошибочно утверждает, что это было у Саца).
Сильно за полночь я отвез Твардовского на такси на Котельническую набережную. Пока ловили машину, он говорил мне (и потом многим другим), что повесть будет трудно напечатать, но зато, если удастся (а он на это надеялся, считая, что хороших вещей, которые нельзя напечатать, не бывает), потом все будет хорошо.
– Хотите прогноз? – сказал я. – Повесть вы напечатаете, но потом общая ситуация изменится к худшему.
Я никогда не выдавал себя за пророка и отвергал попытки (немалочисленные) моих почитателей приписать мне дар ясновидения (в других ясновидцев тоже не верю ни в одного, включая Иоанна Богослова и Нострадамуса, не говоря о ныне живущих). Но, наверное, я все-таки умел думать, видеть и понимать реальные тенденции и возможное направление их развития. Поэтому кое-что иногда предугадывал.
В описываемое время я видел, что события (как и раньше в российской истории) развиваются по законам маятника. Сталинский террор был одной стороной амплитуды, хрущевская оттепель приближалась к другой. Преемники Сталина, устав пребывать в постоянном страхе за собственную жизнь и видя все-таки, что страна гниет, согласились на ограниченную либерализацию режима, но вскоре заметили, что удержать ее в рамках трудно, она стремится к завоеванию все новых позиций и дошла уже до пределов, за которыми неизбежно изменение самой сути режима. А они в режиме жить боялись, а вне его не умели. Режим мог держаться на вере и страхе. Теперь не было ни веры, ни страха. Народ распустился. И в первую очередь писатели и художники, которые имеют обыкновение распускаться прежде других. Пишут и говорят что хотят. Уже критикуют не только Сталина, но и всю советскую систему. И Ленина. Пренебрегают методом соцреализма, свои какие-то «измы» придумывают. Надо, пока не поздно, дать по рукам. Для себя сталинские строгости отменить, для других вернуть в полной мере. Ропот партийных ортодоксов усиливался.
Со временем у нас появится много умников, которые с презрением будут относиться к «оттепели», не захотят отличать этот период от предыдущего. Но на самом деле это был колоссальный сдвиг в душах людей, похожий на тот, что произошел за сотню лет до того – после смерти Николая Первого. Может быть, если прибегать к аналогиям, во время «оттепели» людям ослабили путы на руках и ногах, но это ослабление было воспринято обществом эмоциональнее и отразилось на искусстве благотворнее, чем крушение советского режима в девяностых годах.
Литература «оттепельных» времен явила впечатляющие результаты, а полная свобода, пришедшая с крахом советского режима, по существу, не дала ничего, что бы явно бросалось в глаза.
Другие электронные книги автора Владимир Николаевич Войнович
Другие аудиокниги автора Владимир Николаевич Войнович
Шапка




 0
0