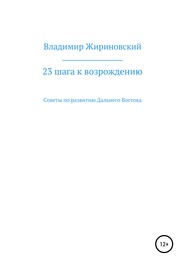По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Станичники
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Казачество бурлило вольной силушкой. Там-то выпороли мелкого воришку, там-то приговорили выпороть клеветника-журналиста.
Казаки наводили порядок на базарах, боролись со спекуляцией и порнухой. Устанавливали свои таможни, чтобы при перестроечных пустых прилавках продукты и товары не уплывали неведомо куда. Восстанавливали памятники казачьим героям, храмы Божьи. Несли в Дивеево мощи св. Серафима Саровского.
Патрулировали улицы, пресекая разгулявшуюся преступность. Возникали первые казачьи заставы в Вооруженных Силах, и туда торжественно отправляли призывников, веря, что это только начало.
А на Тереке казакам уже приходилось защищаться. Уже был убит атаман Сунженского отдела А.И. Подкол- зин, лилась кровь и горели дома в погромленной ингушами Троицкой. Да и в Казахстане националисты сорвали празднование 400-летия уральского войска. Но трудности казались преодолимыми. Возродились же, значит, со всем справимся.
Казаки спасли Приднестровье, ринувшись по зову сердца на выручку русским людям. Участник тех событий пишет: «Первыми в России на помощь республике приехали казаки, целые ватаги, быстро окрепло и своё черноморское войско. Воевали крепко, часто бесшабашно. Отсюда потери. Казак – всегда патриот, но не всегда организован».
Не молдаване атаковали – кадровые румынские части и спецназ. Но дали им по зубам, остановили и отбросили. Прибывшие из разных концов страны казачьи отряды соединялись с местными добровольцами. Приднестровье ведь тоже казачий край, здесь в разные времена селились некра- совцы, черноморское войско – ушедшее на Кубань, части бугского, екатеринославского, дунайского войск.
Вот и вспомнили приднестровцы, что и они казаки. Впрочем, кто там и кого спрашивал о происхождении? Взял оружие, пошёл в бой, значит, казак. И по памяти прежнего черноморского войска было создано новое, которое также назвали черноморским. Полторы тысячи казаков разных войск были награждены крестом «За оборону Приднестровья», более 70 – посмертно.
Храбро воевали казаки и в Абхазии. Из воспоминаний сотника Сергея Малькова: «На поминки собираются казаки разных сотен – вот сидят неунывающие кубанцы, там расположились молодцеватые казаки-уральцы, вот волжане и сибиряки. Смерть витает над всеми ними, и не всем суждено вернуться домой. Чеченцы уважают казаков, ибо казаки остаются на позициях даже тогда, когда отходят чеченцы».
Казаки изгнали бесчинствующих грузин, помогли отстоять республику. Из местных казаков и тех, кто решил остаться здесь, был образован Сухумский особый отдел кубанского войска. Казаки-добровольцы сражались в Боснии, участвовали в обороне Северной Осетии от ингушей, а Южной – от грузин.
И, как всегда, власть нанесла казакам удар в спину. При Ельцине было издано 76 законов, постановлений правительства и указов президента, поддерживающих казачество. Но всё это было лишь на бумаге. В реальности же власть равнодушно смотрела даже на то, как казаков вырезали на Кавказе.
На то, что творилось в Чечне, где русских насиловали, грабили, держали в рабстве, истязали и убивали, власть, конечно, реагировала, но уж больно своевременно и своеобразно.
Когда у казаков вскипало негодование, круги и советы атаманов принимали заявления – если, мол, государство не способно нас защитить, будем защищаться сами, когда на Дону и Кубани начинался набор добровольцев, президент тут же вводил «чрезвычайные положения». На дорогах появлялись войска и милиция, получавшие приказ не допускать конфликтов, тем самым прикрывая чеченских карателей от казачьего гнева.
Потом «положения» отменялись, и средства массовой информации дружно заверяли народ, что ситуация нормализуется. Словом, разрушители России тоже учли уроки Приднестровья и Абхазии и постарались впредь этого не допускать.
А тем временем из городов и станиц Чечни нарастал поток беженцев. Те, кто ушёл первыми, могли считать себя счастливыми – устроились в колхозах Ставрополья, Кубани. Следующим было труднее. Многие просто мыкались по вокзалам. И об этих беженцах ни правозащитники, ни телевидение даже не заикнулись, благоустроенных лагерей и гуманитарных раздач для них не было.
Об использовании казачества заговорили, когда началась война. Но был сформирован только один 694-й казачий батальон им. Ермолова. Его короткая история – смесь высочайшего героизма и гнуснейшего предательства. Казаков бросили в самое пекло, в Заводской район Грозного, где батальон сразу попал в засаду, понёс урон, но дрался храбро и бой всё же выиграл.
О ряде, мягко говоря, «странных» случаев казаки рассказали в замечательном видеофильме «Живи и веруй». Например: «Наш батальон взял Орехово. А по телевизору объявляют, что посёлок взят МВД без потерь, на самом деле мы потеряли 20 человек убитыми и 45 ранеными, из них 10 тяжело раненных. После этого нас перевели в район Шали, в это осиное гнездо, где находятся крупные бандформирования, где находится большое количество наших пленных, и мы получаем приказ не применять огня, вести себя лояльно, не останавливать проезжающие машины, хотя через действующие блок-посты проезжают и Масхадов, и полевые командиры. Когда мы действовали в Заводском районе, и когда на огонь, ведущийся с нефтяного завода, ответили массированным огнём, взвыла администрация, взвыло командование. Как потом выяснилось, акционерами этого завода являлись наши чиновники и бандиты».
Восемьсот казаков побеждали там, где не справлялись кадровые части. Дрались за Самашки, Старый Ачхой, Бамут. Десятки казаков отдали свои жизни, 140 получили ранения.
Станичники молились на батальон. Старушки просили: «Казаки, только не уходите!» «Не бросайте нас!» «Сынки, не оставляйте нас, чеченцы обещали нашей кровью руки мыть.»
А они не могли не уходить – их снова перебрасывали то туда, то сюда. В терском войске надеялись, что батальон будет развернут в полк. И знамя изготовили – 1-го Терского казачьего полка им. Ермолова (до революции его имя носил 1-й Кизляро-Гребенской полк).
Но, как говорил терский войсковой атаман Шевцов, «некоторые должностные лица правительства и президента делали всё возможное, чтобы знамя это не вручать». Его всё же вручили. Однако вскоре ермоловцев вывели из Чечни и расформировали. Без объявления причин. А атамана Шевцова сместили.
А в это же самое время средства массовой информации целенаправленно охаивали и оплевывали казаков! Выходили передачи, статьи, книги о кавказской войне, где казаки представлялись хищниками и грабителями, захватившими земли у несчастных мирных горцев.
Словом, ату их! Ну а верховная власть организовала хасавюртовское предательство. И отдала все оставшееся в Чечне русское население на расправу «победителям» – 30 тысяч человек было вырезано, 300 тысяч стали беженцами.
Летом 1999 года зверски замучен последний русский житель станицы Шелковской: 90-летнего старика молодые «дипломированные» специалисты из учебных лагерей после долгих пыток зарезали ножницами для стрижки овец, видно, хотели растянуть удовольствие.
На Тереке шёл этот кошмар – а власть в Москве продолжала «игры» с казаками. И в 1995 году вышел указ «О государственном реестре казачьих обществ», где пояснялось, что по прошлым законам и указам казакам положены всякие блага. Но мало ли кто к казачеству примазался? Вот и надо выделить «настоящих». И закрутился новый виток. Казачьи организации отрабатывали и утверждали уставы, чтобы попасть в реестр. Казаки заполняли декларации как госслужащие – и уже числили себя на службе.
Из общего количества около 5 млн казаков в реестр попало 647 тысяч (с членами семей). Пошла вторая волна постановлений и указов о целевом земельном фонде, финансировании, о казачьей форме и чинах – но теперь уже только для реестровых.
Однако единственным реальным итогом стал ещё один раскол казаков: на «реестровых» и «общественных». А из всех правовых актов в отношении казачества не был выполнен ни один! Оно не получило ничегошеньки. За отсутствием «механизма реализации».
И службы казаки тоже не получили. О «казачьих» частях много писали, восторгались, что там нет дедовщины и других пороков. Но потом как-то замолчали.
И количество таких частей, казачьих по названию и составу части призывников, стало исподволь сокращаться. Очень удачным был и эксперимент по невойсковой охране границы.
Например, после отделения Казахстана граница с ним стала «дырой», через которую хлынули наркотики, шайки грабителей, воровавшие всё подряд, даже пилившие на металлолом вышки высоковольтных линий. Прикрыть всю степь пограничниками было невозможно. В 1997 году привлекли казаков, 1780 человек.
Предоставили им только «гражданское оружие для самообороны», финансирование копеечное, по 500 рублей на человека в год. Но за 5 месяцев эксперимента было задержано 230 нарушителей, изъято контрабанды на 2 млрд рублей, 500 кг наркотиков, предотвращен угон крупных партий скота.
Уполномоченный по казачеству Правительства Москвы И.В. Ченцов сообщает: «Казаки встали поперёк этого грабежа до такой степени, что президент Казахстана Н. Назарбаев при встрече с Б.Ельциным ставит вопрос – отвести казаков от охраны границы. Кончился эксперимент, отчитались, попросили деньги на следующий – говорят: «Да хватит уже. Пусть воруют, лишь бы отношения не портились».
В результате перестроек и демократизаций казачество фактически потеряло целое поколение молодёжи – то поколение, которое росло под лозунги пропаганды «западных ценностей». Но примерно с 2005 года молодёжь снова потянулась в казачьи ряды.
Это наблюдается повсеместно, потому что подросло следующее поколение, в меньшей степени наглотавшееся идеологической отравы, но прекрасно видящее её результаты.
И если такие молодые люди, даже и совершенно не казачьего происхождения, обращаются с вопросом: «А можно ли стать казаками?» – настоящие казаки их не оттолкнут и не прогонят. Примут в организацию, будут обучать вместе со своими казачатами и малолетками – ведь в наше время казачьи дети и внуки тоже очень редко получают достаточную подготовку от отцов и дедов.
Словом, выработалась та же самая система, которая существовала у казаков до XVIII века, а у запорожцев, кубанцев и терцев до XIX: родовое казачество является костяком, носителем духа и традиций, а обрастать этот костяк может как за счёт потомственных казаков, так и внешнего притока.
Особенные нападки со стороны «прогрессивной общественности» вызывают такие элементы казачьих традиций, как чины и форма. Кстати, в центре Москвы сейчас каких только экзотических нарядов не увидишь, это давно уже никого не шокирует.
Но вот казачья форма почему-то оказывается жутким раздражителем. Тут же появляются ярлыки «ряженые», в средствах массовой информации раздаются вопли о том, что казаки напяливают мундиры несуществующей армии, навешивают сами себе несуществующие генеральские и офицерские звания…
Чем занимаются казачьи структуры? В разных войсках ситуация различается. В Приднестровье черноморское войско стало составной частью вооруженных сил республики. На Украине государственная власть декларирует поддержку казачества, старается вести с ним совместную работу.
Но и без государственной поддержки очень активно действует Крымский казачий союз, он стал, по сути, оплотом русского населения Крыма, успешно противостоит и татарскому экстремизму, и украинскому национализму, борется с присутствием войск НАТО.
В России государственная служба казаков сведена к обычной службе призывников и контрактников. Но ведь казак, по самому своему званию, служит всю жизнь. Его призывает Господь и отставку дает Господь. А уж в наши дни понятие казачьей службы стало куда шире, чем только «государственная». Точно так же, как её понимали наши предки, это служба вере православной, народу, земле, казачьему братству.
Разве не была казачьей службой, например, работа атамана Грозненского отдела терского войска Г.Н. Галкина, пытавшегося защитить русское население в Чечне, отдавшего свои силы на эвакуацию и устройство беженцев?
Разве не на казачьей службе безвременно оборвалась жизнь помощника кубанского атамана И.П. Пузикова, спасшего из чеченского рабства 42 человека, боровшегося с рыбной мафией и чиновниками, распродающими Азовское побережье?
Разве не были напряжённейшей казачьей службой творчество, политическая и общественная деятельность народного художника России В.М. Клыкова?
Если старик, забыв про недуги, идёт передавать молодежи опыт и традиции, это его служба. Если казак-предприниматель на свои средства создаёт музей, реставрирует памятник, если принимает и устраивает на своём предприятии казаков-беженцев, безработных, разве это не служба?
Если казаки владеют крупным рынком, а на вырученные средства создают и содержат великолепный учебный центр для подготовки призывников в погранвойска, это что, не служба?
А работа по самой организации, поддержанию и развитию казачьих структур? Создаются казачьи земледельческие и скотоводческие хозяйства – без всякой государственной поддержки, наоборот, преодолевая массу препятствий, на собственном упорстве и энтузиазме.
Они носят «очаговый» характер, но успешно функционируют в различных регионах. В городах действуют казачьи фирмы и предприятия.
Издаются казачьи газеты и журналы – за свой счёт, безвозмездным трудом редакторов, фотографов, корреспондентов. Во многих местах заслужили прекрасную репутацию казачьи кадетские корпуса, кадетские классы. И родители считают удачей пристроить детей в такие учебные заведения.
Если в целом попытка превратить казаков во вневедомственную охрану и дружинников не состоялась, то в определённых случаях и это оказывается нужным. Существуют структуры, взявшие на себя охрану храмов Божьих, монастырей. Есть организации, занявшиеся природоохранной деятельностью, создавшие казачью егерскую службу.
В Оренбуржье, Сибири, где из-за развала промышленности люди стараются выжить подсобными хозяйствами, огородами и дачами, не знают, как благодарить казаков, занявшихся охраной этих хозяйств от наплыва воров и грабителей.