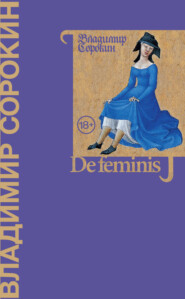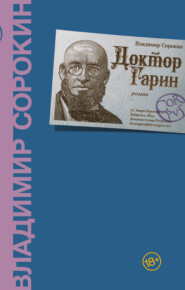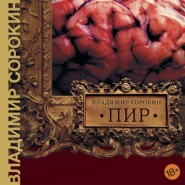По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Норма. Тридцатая любовь Марины. Голубое сало. День опричника. Сахарный Кремль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А это что?
– Сухари.
– Ну что ж. Чудесно.
– Возьмёшь?
– Ещё бы! Жизнь армейца не балует, что ты там ни говори… Только ты знаешь, я б хотел и поцелуи захватить, как сухари.
Лида улыбнулась, положила чайник с сухарями на стол.
Серёжа развязал вещмешок, стал запихивать в него чайник и Пушкина:
– Может, Лид, очень заскучаю, так вот было бы в пути и приятно вместо чаю губы тёплые найти.
– Неужели приятно?
– Лидка! Если свалит смерть под дубом, всё равно приятно, чтоб отогрели эти губы холодеющий мой лоб.
Он подошёл к ней, обнял:
– Подари… авось случайно пощадят ещё в бою. Я тогда тебе и чайник и любовь верну свою!
Лида вздохнула, пошла в спальню.
Кровать была не прибрана. На тумбочке стояла порожняя бутылка портвейна с двумя стаканами.
Лида открыла платяной шкаф, заглянула внутрь.
Поцелуи лежали на третьей полке под стопкой белья между двумя ночными рубашками.
– Сколько тебе, Серёж? – крикнула Лида.
– Да не знаю… сколько не жалко…
Она отсчитала дюжину и в пригоршнях вынесла Серёже:
– Держи.
– Во, нормально.
Он развязал мешочек с сухарями, высыпал туда поцелуи:
– Спасибо, милая.
Лейтенант СМЕРШа Горностаев, лично расстрелявший рядового Сергея Ивашова по приговору военного трибунала за распространение пораженческих слухов, лично же и распределял его вещи.
Жестяной чайник достался сержанту Сапунову, запасные сапоги – старшине Черемных, флягу со спиртом лейтенант отдал майору Крупенко.
Вечером, когда усталые офицеры СМЕРШа пили чай в землянке, Горностаев вспомнил про оставшиеся ивашовские сухари, достал мешочек и потряс над грубым столом.
Сухари вперемешку с поцелуями посыпались на свежеструганые доски.
– Что это такое? – Крупенко взял поцелуй.
– А чёрт его знает, товарищ майор, – пожал плечами Горностаев.
– Что, прямо вместе с сухарями и лежало?
– Так точно.
Крупенко понюхал поцелуй, откусил, прожевал и выплюнул:
– Хуйня какая-то…
Капитан Воронцов тоже откусил:
– Жвачка, наверно. Американцы, наверно.
– Та ну её к бису, эту живачку! Поотравимсь ещё… – Крупенко выбрал поцелуи из сухарей, протянул лейтенанту Огурееву:
– Ну-ка, Сашок, кинь у печурку…
Огуреев отворил дверцу печки и швырнул поцелуи в огонь. Затрещало, запахло чем-то приторным.
Огуреев закрыл дверцу, снял с печки чайник, понёс к столу.
Горностаев подвинул ему томик Пушкина, Огуреев поставил на него чайник.
– О це добре… – Крупенко протянул Огурееву кружку: – Плесни-ка.
Огуреев стал наливать кипяток.
Шторм
Пять вымпелов кильватерной колонной держали курс в открытый океан. Над кораблями ветер просоленный чернел, перерастая в ураган. Всю ночь прошли в переплетенье молний. То свет слепил, то мрак вставал стеной. И освещенные грозою волны в форштевень бились белой головой, по клотики эскадру зарывали в густую пену оголтелых вод, и, как в чугун закованные дали, качали ослеплённый небосвод. На баке гнуло леерные стойки и мяло у орудий волнорез. И обмывая брызгами надстройки, корабль то под гору, то в гору лез. Утрело. Флаг метался на флагштоке, летел, как птица, белый с голубым. И проясняясь, небо на востоке рассачивало тучи, словно дым. Пять вымпелов у рей – пять красных молний! Да соль у командира на плечах. А корабли из шторма шли на полном, покачиваясь грозно на волнах.
Чайки кружили над эскадрой, одна из них села на локатор головного корабля. Адмирал вышел из рубки, снял фуражку, подставил под ветер крепкую седую голову.
– Подходим к Севастополю, товарищ адмирал! – донеслось из рубки.
Адмирал улыбнулся, наклонился, глядя на палубу с выстроившимся экипажем.
Плотная серебристая корка соли, покрывающая адмираловы плечи, треснула.
Сверкнули золотые звёзды на погонах.
Впереди в розоватой дымке показался Севастополь.
– Сухари.
– Ну что ж. Чудесно.
– Возьмёшь?
– Ещё бы! Жизнь армейца не балует, что ты там ни говори… Только ты знаешь, я б хотел и поцелуи захватить, как сухари.
Лида улыбнулась, положила чайник с сухарями на стол.
Серёжа развязал вещмешок, стал запихивать в него чайник и Пушкина:
– Может, Лид, очень заскучаю, так вот было бы в пути и приятно вместо чаю губы тёплые найти.
– Неужели приятно?
– Лидка! Если свалит смерть под дубом, всё равно приятно, чтоб отогрели эти губы холодеющий мой лоб.
Он подошёл к ней, обнял:
– Подари… авось случайно пощадят ещё в бою. Я тогда тебе и чайник и любовь верну свою!
Лида вздохнула, пошла в спальню.
Кровать была не прибрана. На тумбочке стояла порожняя бутылка портвейна с двумя стаканами.
Лида открыла платяной шкаф, заглянула внутрь.
Поцелуи лежали на третьей полке под стопкой белья между двумя ночными рубашками.
– Сколько тебе, Серёж? – крикнула Лида.
– Да не знаю… сколько не жалко…
Она отсчитала дюжину и в пригоршнях вынесла Серёже:
– Держи.
– Во, нормально.
Он развязал мешочек с сухарями, высыпал туда поцелуи:
– Спасибо, милая.
Лейтенант СМЕРШа Горностаев, лично расстрелявший рядового Сергея Ивашова по приговору военного трибунала за распространение пораженческих слухов, лично же и распределял его вещи.
Жестяной чайник достался сержанту Сапунову, запасные сапоги – старшине Черемных, флягу со спиртом лейтенант отдал майору Крупенко.
Вечером, когда усталые офицеры СМЕРШа пили чай в землянке, Горностаев вспомнил про оставшиеся ивашовские сухари, достал мешочек и потряс над грубым столом.
Сухари вперемешку с поцелуями посыпались на свежеструганые доски.
– Что это такое? – Крупенко взял поцелуй.
– А чёрт его знает, товарищ майор, – пожал плечами Горностаев.
– Что, прямо вместе с сухарями и лежало?
– Так точно.
Крупенко понюхал поцелуй, откусил, прожевал и выплюнул:
– Хуйня какая-то…
Капитан Воронцов тоже откусил:
– Жвачка, наверно. Американцы, наверно.
– Та ну её к бису, эту живачку! Поотравимсь ещё… – Крупенко выбрал поцелуи из сухарей, протянул лейтенанту Огурееву:
– Ну-ка, Сашок, кинь у печурку…
Огуреев отворил дверцу печки и швырнул поцелуи в огонь. Затрещало, запахло чем-то приторным.
Огуреев закрыл дверцу, снял с печки чайник, понёс к столу.
Горностаев подвинул ему томик Пушкина, Огуреев поставил на него чайник.
– О це добре… – Крупенко протянул Огурееву кружку: – Плесни-ка.
Огуреев стал наливать кипяток.
Шторм
Пять вымпелов кильватерной колонной держали курс в открытый океан. Над кораблями ветер просоленный чернел, перерастая в ураган. Всю ночь прошли в переплетенье молний. То свет слепил, то мрак вставал стеной. И освещенные грозою волны в форштевень бились белой головой, по клотики эскадру зарывали в густую пену оголтелых вод, и, как в чугун закованные дали, качали ослеплённый небосвод. На баке гнуло леерные стойки и мяло у орудий волнорез. И обмывая брызгами надстройки, корабль то под гору, то в гору лез. Утрело. Флаг метался на флагштоке, летел, как птица, белый с голубым. И проясняясь, небо на востоке рассачивало тучи, словно дым. Пять вымпелов у рей – пять красных молний! Да соль у командира на плечах. А корабли из шторма шли на полном, покачиваясь грозно на волнах.
Чайки кружили над эскадрой, одна из них села на локатор головного корабля. Адмирал вышел из рубки, снял фуражку, подставил под ветер крепкую седую голову.
– Подходим к Севастополю, товарищ адмирал! – донеслось из рубки.
Адмирал улыбнулся, наклонился, глядя на палубу с выстроившимся экипажем.
Плотная серебристая корка соли, покрывающая адмираловы плечи, треснула.
Сверкнули золотые звёзды на погонах.
Впереди в розоватой дымке показался Севастополь.