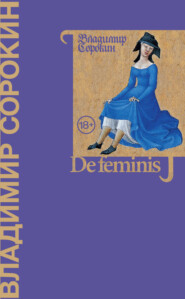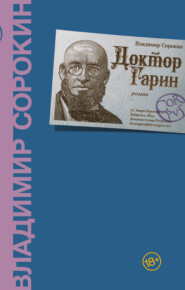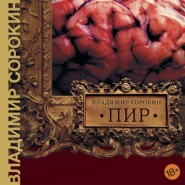По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Норма. Тридцатая любовь Марины. Голубое сало. День опричника. Сахарный Кремль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ГРУЗИНСКИЙ ЧАЙ НОРМА АРОМАТЕН
ГРУЗИНСКИЙ ЧАЙ НОРМА ВКУСЕН
ГРУЗИНСКИЙ ЧАЙ НОРМА ПРИЯТЕН
ГРУЗИНСКИЙ ЧАЙ НОРМА ПОПУЛЯРЕН
СТАКАН – СЕРЁГИНА НОРМА
ЧЕКУШКА – ВАСЬКИНА НОРМА
ПОЛЛИТРА – НЮРКИНА НОРМА
ЛИТР – ДИМКИНА НОРМА
ГОРОД НОРМА РАСТЁТ И СТРОИТСЯ
СПОРТКОМПЛЕКС НОРМА РАСТЁТ И СТРОИТСЯ
ПОСЁЛОК НОРМА РАСТЁТ И СТРОИТСЯ
ЗАВОД НОРМА РАСТЁТ И СТРОИТСЯ
Часть седьмая
Стенограмма речи главного обвинителя:
(продолжение)
…закончил его с красным дипломом отличника. Что ж, природа не обделила этого человека ни талантом, ни трудоспособностью. Действительно, работая впоследствии в Институте изящных искусств, он проявил себя в качестве эрудированного, добросовестного учёного, снискав тем самым уважение руководства и коллег. Его доклады и сообщения на факультетских и институтских заседаниях Учёного совета свидетельствовали о высоком творческом потенциале подсудимого. Ещё будучи на должности младшего научного сотрудника, он сумел за два с половиной года опубликовать восемнадцать монографий, девять реферативных статей, отредактировать и подготовить к печати четыре сборника из серии «Панорама искусств». Кроме того, он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Дадаизм и Тибет», что позволило ему занять должность старшего научного сотрудника. По настоянию руководства ИИИ, реферат диссертации подсудимого был издан отдельной книгой в издательстве «Наука», а через полтора года, то есть в апреле 1948 году, книга «Дадаизм и Тибет» вышла ещё в двух отечественных издательствах – в «Мире» и в «Скорпионе». Одновременно она была переведена на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский и китайский языки. В январе 1948 года подсудимый получил приглашение от Института семиотики и семантики прочитать курс лекций по семиотике даосских символов, который он и прочёл, совмещая в течение восьми месяцев научную и преподавательскую деятельность. После этого он был включён в Научный совет ИСС и оставался его полноправным членом вплоть до первого ареста. Это произошло в июне 1949 года, по возвращении подсудимого из канадского города Торонто, где он участвовал в Международном конгрессе дюшанистов, то есть специалистов по творчеству Марселя Дюшана. Июнь тогда выдался тёплым, я бы даже сказал – жарким. Утро 16 июня было ясным и солнечным. Позавтракав, как обычно, в восемь пятнадцать, подсудимый снял с себя махровый халат и, напевая вполголоса траурный марш из оперы Вагнера «Гибель богов», принялся одеваться перед большим старинным зеркалом, перешедшим к нему по наследству от его бабушки – вдовы полковника континентальных войск. В дверь постучали. Подсудимый быстрым движением затянул узел тёмно-синего галстука и пошёл открывать. Ну и взяли молодца. Пришли с ордером на арест и на обыск. И попотрошили за милую душу, так, что пух из подушек пропоротых летел в распахнутые окна, плыл в жарком воздухе, смешиваясь с тополиным. А подсудимый сидел на стуле и торчал как хуй. Затем он был доставлен в Лефортовский следственный изолятор, где содержался вплоть до вынесения приговора. Осуждённый к двадцати семи годам лишения свободы, подсудимый этапировался в исправительно-трудовой лагерь «Верба», находящийся в Таджикской ССР. По дороге в лагерь на пересыльном пункте в г. Гурьеве подсудимый имел ряд инцидентов с соседями по камере, а именно с Бортниковым Ильёй Сергеевичем, по кличке Сохатый, и Муравьёвым Василием Кузьмичем, по кличке Ноги. В результате вышеназванных инцидентов подсудимый потерял три фикса, шкары и корочки. Да и бациллы с него смыли все, а заодно и выхарили пару раз, чтоб не срал громко. По прибытии в лагерь он был распределён в бригаду поливальщиков крыш, в которой и проработал вплоть до освобождения. Выйдя из лагеря в 1984 году, эта сволочь опять засела за книги. Он читал новое, перечитывал старое, смотрел слайды, репродукции, прослушивал пластинки и кассеты. Перечитав Томаса Манна, Пруста, Джойса, Достоевского, Ницше, Толстого, Чехова, Мейеринка, Кафку, Борхеса, Платонова, Шестова, Бердяева, Добычина, Штейнера, Юнга, Фрейда, Ортега-и-Гассет, Набокова, Кьеркьегора, Хайдеггера, Сведенборга, Хаксли, Орвелла, Гессе, Во, Хемингуэя, он перешёл к изобразительным искусствам. Его морщинистая, задубевшая от южного солнца и ветра рука смахнула пыль с альбомов и монографий дадаистов, он сутками разглядывал, перелистывая пожелтевшие страницы, купил, падла, проектор, обзавёлся слайдами, проецировал их на простыню послевоенного пошива. Подтаяло, отнялось сердце, когда поползли по ней автоматические рисунки Арпа, Пикабии, Миро, когда сверкнула, перемежаясь, живопись Шагала, Кирико, Пикассо, Эрнста, Тойбер, Кандинского, Клее, Ван Дусбурга, Мондриана, Жанко, когда распластался на простыне, свербя душу неземными переливами, «Великий мастурбатор» Сальвадора Дали, ставший за эти десятилетия ещё лучше, когда качнулись аморфные конструкции Ива Танги, когда пошла, пошла, пошла абстрактная живопись пятидесятых, когда безумно-гениальный Клайн потащил по холсту измазанных краской натурщиц, когда Матье стрелял краской в холст, а Поллак приплясывал над картиной со струёй краски, свернулась кровь в венах у подсудимого, когда попёр поп-арт, этот витамизированный внучок дады, когда засияли томатные супы Энди Уорхола, засмеялись комиксовые бэби Лихтенштайна, распахнулись карты и мишени Джонса, обрушилась чертовщина Раушенберга, взгромоздились автомобильные дверцы Чемберлена. Всё это, всё это, всё это. Это было ново и не ново, и он потел, блядский потрох, дешёвка недоёбаная, крутил ручки, менял слайды, шелестел бумагой. А после полезло вообще невообразимое – Кошут, Джадд, Опенгейм, Джильберт и Джордж, Кристо, Бойс. Концептуализм ошарашил его простотой своей идеи, после концептуализма он вспомнил про музыку, про поэзию, и вот уже драл горло шёнберговский Лунный Пьеро и тёк по нервам огненный коктейль Мандельштама. И подсудимый лёг на плюшевый диван, и закинул руки, и закрыл глаза, вспоминая дадаистские поэмы Тристана Тзары, сонаты Берга, строчки Элиота, и всё это сочилось сквозь него, текло, переполняя, и он оживал, как рассохшийся инструмент оживает на весенней помойке, он обретал звук и цвет, ясность мысли и остроту чувств, память и речь. И в нём колыхнулись древние века, проступили даосы, Лао-цзы, Конфуций, Будда, Экклезиаст, Сократ, Христос, Гораций, Гомер, Плиний, Софокл, Аристотель, Тацит, Овидий, а там толкнулись и Средние века, Нибелунги, Парсифаль, Тристан и Изольда, горбоносый Данте, волосатый Томас Мелори, замахал мечом Беовульф, натянул тетиву Сид, и пошло-поехало к Возрождению: заговорил диалогами Эразм, рассыпался бисером по мрамору Бокаччио, смешал краски Рафаэль, задумался над полётом голубя Леонардо, настроил скрипку Скарлатти, и дальше, дальше, бля, через Баха-Генделя, Моцарта-Бетховена, Монтеня-Шеллинга к новым временам, в его /подсудимого/ любимый двадцатый век. Растянувшись на диване, внешне он ничем не отличался от себя самого, – лежит себе плюгавый старичок с пепельным лицом и коричневыми губами и, закрыв глаза, теребит загрубевшими пальцами край одеяла. Но внутренне, внутренне, граждане судьи, он напоминал не больше не меньше раструб, или точнее – воронку. Все культурные, с позволения сказать, испражнения всех времён перемешивались, уплотнялись, ползли к горлышку воронки, стягивались, стягивались, и – вот уже он и приподнялся на сухих локтях, и щёки серые покраснели, а морщинистые веки тронулись влагой: воронка прорвалась его божеством по имени Марсель Дюшан. Да, граждане судьи и вы, плоскомордые разъебаи, чинно сидящие в зале. Именно Марсель Дюшан являлся для подсудимого высшим феноменом человеческой культуры всех эпох. Почему? Не могу ответить вразумительно. Ведь были же и другие имена, и не хуже: Шекспир, к примеру, тот же Леонардо, на худой случай – Гёте. Или Платон. Тоже ведь не хуй собачий. Но для подсудимого – Дюшан, и хоть ты заебись берёзовой палкой! Вот какая сука своевольная. Приподнявшись на локтях, он радостно улыбался. Ну как же, вспомнил, проказник, вспомнил своего кумира, о «Большом стекле» которого он делал доклад на конгрессе дюшанистов. Да. Было дело, нечего сказать. Есть что вспомнить: Штаты, потом Канада, долларов в кармане до хуя, меняли тогда сколько хочешь, доклад гениальный, английский доступен, как и русский, зал слушает, Эрнст слушает, Леви-Стросс слушает и… о, боже! Вооон ОН, сидит с краешку, щурясь на докладчика, а докладчик всё про Нью-Йоркский период, да про запыление «Большого стекла», да про Розу Селяви, да про унификацию идеи реди-мейд… Как во сне. А после – аплодисманы, кофиёк в кулуарах. Представили. Лично. Невысокий, подвижный, очаровательный. «Люблю дышать больше, чем работать». Что ж, оригинально. Доклад понравился. Большая осведомлённость, поразительная осведомлённость! Уай? Уотс дэ айрон кёртн? О, хуйня, мсье Дюшан, поверьте на слово! Вот. А потом – партия в шахматы, да, да, не отказывайтесь, я играю со всеми. Надо сказать, граждане судьи, подсудимый был весьма способен к шахматной игре. В начале своей речи я упомянул о том весёлом инциденте с пляжным шахматистом, как нельзя лучше иллюстрировавшим врождённые способности подсудимого. Дядя, съешь лошадку. Хе, хе… мда. И вот, стало быть – партия. Испанская партия, подсудимый – белые, Дюшан – чёрные, и центр уже вскрыт по линии с, разменены пешки, пара лошадок, ладьи, ферзевый эндшпиль с некоторым преимуществом подсудимого-докладчика, долгое маневрирование грозными ферзями, кофе давно остыл, пора ехать в гостиницу, проходную стопорит конь. Ничья. Что ж, неплохо, неплохо играете. Правда? Совсем не занимаетесь? А, всё-таки иногда… Нет, я тоже. Так, под настроение, но серьёзно – только в молодости, во Франции. Да. Да. Нет, чемпионом никогда. С Алёхиным? Нет, не доводилось. Сейчас? Отдыхаю. Вот, граждане судьи. Дюшан продолжал отдыхать, подсудимый вернулся «и попал, как крыса, с корабля на бал». Д.А. Пригов, между прочим. Но если серьёзно, почему именно Дюшана ставил и, судя по выражению лица, ставит подсудимый выше всех? Выше Моцарта, Леонардо, Шекспира? Мне кажется, что прежде всего этому способствует стойкое убеждение подсудимого в непреходящем значении XX века как «осевого времени» /К. Ясперс/ цивилизации, а следовательно, и культуры. Наука впервые за всю историю человечества оттеснила философию, претендуя на её роль. Однако полностью сыграть эту роль ей не удалось из-за жёсткости, ограниченности научных методов и языка. Зато рождавшееся в муках авангардное искусство XX века смогло полноправно занять место одряхлевшей, никому не нужной философии. Да всё это, грубо говоря, описано в известной статье Кошута «Искусство после философии», хули я перед вами плешью по паркету стучу… Так вот, а Марсель Дюшан, по мнению гражданина подсудимого, первый из двуногих отделил искусство от ремесла своими гениальными работами. Подсудимый сидел на диване, и слёзы ползли по его щекам. Он вспоминал «Фонтан», самую гениальную, по его мнению, работу XX века, этот чистенький писсуар из общественной уборной. Он сверкал в его сознании, поворачиваясь, он разрастался, заполняя пространство своими белыми формами, являя собой Венеру Милосскую XX века. Да. Двадцатого века, двадцааатогоооо вееекаааа… бля, заебался уже. Да. Но вы спросите – что было потом?
А потом-то, господа присяжные заседатели, случилось пренеприятнейшее. В один прекрасный красный вечер господин подсудимый, вспомнив исторический разговор между Дюшаном и Дали о продаже говна одним поп-артистом, срезал на своём теле все родинки безопасным лезвием «Нева». Припудрив ранки квасцами, он сел за машинку и печатал, как дятел и как курва слепая стучал, мне мозги все распятил, пищеблоком своим докучал, пренатальный ребёнок, дзен-буддист, шизофреник, дурак, образован с пелёнок, но по сути – полнейший мудак, всё писал, всё печатал, всё как курва слепая стучал, обнажал свой початок, пищеблоком своим докучал, пил, смеялся, дрочился, срал на койку и смачно пердел, в скрипку долго мочился, между тем безнадёжно седел, между тем – завирался и дрожал, и глотал молофью, с кошкой сочно ебался и свистел, подражал соловью, плющил пальцы тисками, Джойса рвал и глотал с молоком, резал шторы кусками, пятки нежно лизал языком, мазал кремом залупу и показывал в форточку всем, хуй разглядывал в лупу, говоря: я ебусь, когда ем, мебель резал ножовкой, керосином цветы поливал, сам питался перловкой, телефон раскрошил и сожрал, письма слал космонавтам, Саваофу молиться просил, не простил аргонавтам, бюст Гомера с балкона спустил, стал играть Куперена, грыз пюпитр и надсадно орал, причитал: о, святая Елена, у себя всё что можно украл, посылал телеграммы и печатал, печатал, печа… Мы его потом арестовали и заставили плясать ча-ча-ча. Вот этим всё и кончилось. Короче говоря, граждане судьи, комната подсудимого к тому времени представляла жуткое зрелище. Посудите сами – всё загажено, везде валяются куски разбитой мебели, испорченных продуктов, клочья бумаги. Подсудимый – весь в коросте, появившейся на почве глубочайшего шизофренического шуба /приступа/, сидит за машинкой и печатает, печатает, печатает. Успел написать он немного, но тем не менее эти два десятка листков, на мой взгляд, представляют для суда чрезвычайный интерес. Я предлагаю гражданам судьям и всем присутствующим в зале ознакомиться с этим так называемым творчеством подсудимого. После ознакомления мы продолжим.
В дороге
Лоб, к стеклу прижатый, леденеет, но не оторваться от окна.
– Еду, еду по своей стране я, в новые места и времена! – рассмеялся Груздев, помешивая чай в трясущемся стакане. Либерзон чистил яйца, аккуратно складывая скорлупу в кучку:
– Да, Виктор Лукич. Чем-нибудь грозны и знамениты каждый город, каждое село. Здесь руда вольфрамова открыта, здесь зерно на камне проросло…
– Здесь живут художники в долинах, – покосился в окно Груздев. – Вон, вся в узорах крыша с петушком.
– Здесь родился комендант Берлина и на речку бегал босиком.
Либерзон разрезал яйцо вдоль, положил половинку перед Груздевым:
– Здесь прошла дорога наступленья. И пусть, Виктор Лукич, нам было очень тяжело. Счастлив я, что наше поколенье вовремя, как надо, подросло.
– Конечно, Михаил Абрамыч, конечно. Я, понимаете, объездил, кажется, полсвета. Бомбами изрытый шар земной. Но как будто новая планета, Родина сегодня предо мной.
Либерзон сунул свою половинку в рот:
– Вот… ммм… Россия в серебре туманов, вопреки всем недругам жива.
– Домны – словно сестры великанов.
– Эстакад стальные кружева…
– Смотрите… вновь стога. И сёла за стогами. И в снегу мохнатом провода.
– Тихо спят, спелёнуты снегами, новорожденные города…
В ночь, когда появился на свет Комсомольск-на-Амуре, роды принимала Двадцать Шестая Краснознамённая мотострелковая дивизия Забайкальского военного округа.
Роды были сложными. Комсомольск-на-Амуре шёл ногами вперёд, пришлось при помощи полевой артиллерии сделать кесарево сечение. Пупок обмотался было вокруг шеи новорожденного, но сапёрный батальон вовремя ликвидировал это отклонение. Младенца обмыли из 416 брандспойтов и умело спеленали снегами. Отслоившуюся плаценту сохранить не удалось – ввиду своей питательности она была растащена местными жителями.
Искупление
– С нами рядом бежал человек, – задумчиво проговорил капитан СМЕРШа, снимая портупею с уставших плеч. – Нам казалось: отстанет – могила. Он, понимаешь, упал у траншеи на снег. Малодушье его повалило.
Лейтенант СМЕРШа понимающе кивнул, поставил котелок на прокопчённую, монотонно гудящую печку:
– Как же. Помню. Помню, как он перед строем смотрел в тишину. Каждый думал – он должен в сраженье искупить своей кровью вину перед павшим вторым отделеньем.
Капитан повесил портупею на гвоздь, вбитый в чёрные брёвна землянки:
– А помнишь, политрук ещё говорил: «Силой взглядов друзей боевых в безысходном его разуверьте. Он обязан, – говорит, – остаться в живых, если верит в бессилие смерти».
– Помню, товарищ капитан. Потом ещё в «Солдатском листке» поэт писал: «Что таишь в себе, зимняя мгла? Проломись сквозь погибель и вызнай!»
– Точно. А в передовице: «Он идёт. И ползя сквозь снега, не своею, а кровью врага искупает вину пред Отчизной».
Лейтенант снова кивнул, помешал ложкой в котелке:
– Наш солдат, товарищ капитан, продираясь сквозь ад, твёрдо верит, в бою умирая, что и в дрогнувшем сердце солдата есть какая-то сила вторая.
– Ну, – капитан пожал плечами, провёл рукой по измученному бессонницей лицу, – это – думы о доме родном. Это – тяжкого долга веленье…
– Я думаю, товарищ капитан, это – всё, что в порыве одном обещает судьбе искупленье. Садитесь кушать, пожалуйста. Закипело уже.
Лейтенант обхватил котелок ремнём и перенёс на врытый в землю стол.
Капитан сел на широкую колоду, отломил хлеба, придвинул к себе котелок:
– Я, брат, похлебаю малость, тебе оставлю…
– Ешьте, ешьте на здоровье. – Лейтенант сел напротив.
ГРУЗИНСКИЙ ЧАЙ НОРМА ВКУСЕН
ГРУЗИНСКИЙ ЧАЙ НОРМА ПРИЯТЕН
ГРУЗИНСКИЙ ЧАЙ НОРМА ПОПУЛЯРЕН
СТАКАН – СЕРЁГИНА НОРМА
ЧЕКУШКА – ВАСЬКИНА НОРМА
ПОЛЛИТРА – НЮРКИНА НОРМА
ЛИТР – ДИМКИНА НОРМА
ГОРОД НОРМА РАСТЁТ И СТРОИТСЯ
СПОРТКОМПЛЕКС НОРМА РАСТЁТ И СТРОИТСЯ
ПОСЁЛОК НОРМА РАСТЁТ И СТРОИТСЯ
ЗАВОД НОРМА РАСТЁТ И СТРОИТСЯ
Часть седьмая
Стенограмма речи главного обвинителя:
(продолжение)
…закончил его с красным дипломом отличника. Что ж, природа не обделила этого человека ни талантом, ни трудоспособностью. Действительно, работая впоследствии в Институте изящных искусств, он проявил себя в качестве эрудированного, добросовестного учёного, снискав тем самым уважение руководства и коллег. Его доклады и сообщения на факультетских и институтских заседаниях Учёного совета свидетельствовали о высоком творческом потенциале подсудимого. Ещё будучи на должности младшего научного сотрудника, он сумел за два с половиной года опубликовать восемнадцать монографий, девять реферативных статей, отредактировать и подготовить к печати четыре сборника из серии «Панорама искусств». Кроме того, он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Дадаизм и Тибет», что позволило ему занять должность старшего научного сотрудника. По настоянию руководства ИИИ, реферат диссертации подсудимого был издан отдельной книгой в издательстве «Наука», а через полтора года, то есть в апреле 1948 году, книга «Дадаизм и Тибет» вышла ещё в двух отечественных издательствах – в «Мире» и в «Скорпионе». Одновременно она была переведена на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский и китайский языки. В январе 1948 года подсудимый получил приглашение от Института семиотики и семантики прочитать курс лекций по семиотике даосских символов, который он и прочёл, совмещая в течение восьми месяцев научную и преподавательскую деятельность. После этого он был включён в Научный совет ИСС и оставался его полноправным членом вплоть до первого ареста. Это произошло в июне 1949 года, по возвращении подсудимого из канадского города Торонто, где он участвовал в Международном конгрессе дюшанистов, то есть специалистов по творчеству Марселя Дюшана. Июнь тогда выдался тёплым, я бы даже сказал – жарким. Утро 16 июня было ясным и солнечным. Позавтракав, как обычно, в восемь пятнадцать, подсудимый снял с себя махровый халат и, напевая вполголоса траурный марш из оперы Вагнера «Гибель богов», принялся одеваться перед большим старинным зеркалом, перешедшим к нему по наследству от его бабушки – вдовы полковника континентальных войск. В дверь постучали. Подсудимый быстрым движением затянул узел тёмно-синего галстука и пошёл открывать. Ну и взяли молодца. Пришли с ордером на арест и на обыск. И попотрошили за милую душу, так, что пух из подушек пропоротых летел в распахнутые окна, плыл в жарком воздухе, смешиваясь с тополиным. А подсудимый сидел на стуле и торчал как хуй. Затем он был доставлен в Лефортовский следственный изолятор, где содержался вплоть до вынесения приговора. Осуждённый к двадцати семи годам лишения свободы, подсудимый этапировался в исправительно-трудовой лагерь «Верба», находящийся в Таджикской ССР. По дороге в лагерь на пересыльном пункте в г. Гурьеве подсудимый имел ряд инцидентов с соседями по камере, а именно с Бортниковым Ильёй Сергеевичем, по кличке Сохатый, и Муравьёвым Василием Кузьмичем, по кличке Ноги. В результате вышеназванных инцидентов подсудимый потерял три фикса, шкары и корочки. Да и бациллы с него смыли все, а заодно и выхарили пару раз, чтоб не срал громко. По прибытии в лагерь он был распределён в бригаду поливальщиков крыш, в которой и проработал вплоть до освобождения. Выйдя из лагеря в 1984 году, эта сволочь опять засела за книги. Он читал новое, перечитывал старое, смотрел слайды, репродукции, прослушивал пластинки и кассеты. Перечитав Томаса Манна, Пруста, Джойса, Достоевского, Ницше, Толстого, Чехова, Мейеринка, Кафку, Борхеса, Платонова, Шестова, Бердяева, Добычина, Штейнера, Юнга, Фрейда, Ортега-и-Гассет, Набокова, Кьеркьегора, Хайдеггера, Сведенборга, Хаксли, Орвелла, Гессе, Во, Хемингуэя, он перешёл к изобразительным искусствам. Его морщинистая, задубевшая от южного солнца и ветра рука смахнула пыль с альбомов и монографий дадаистов, он сутками разглядывал, перелистывая пожелтевшие страницы, купил, падла, проектор, обзавёлся слайдами, проецировал их на простыню послевоенного пошива. Подтаяло, отнялось сердце, когда поползли по ней автоматические рисунки Арпа, Пикабии, Миро, когда сверкнула, перемежаясь, живопись Шагала, Кирико, Пикассо, Эрнста, Тойбер, Кандинского, Клее, Ван Дусбурга, Мондриана, Жанко, когда распластался на простыне, свербя душу неземными переливами, «Великий мастурбатор» Сальвадора Дали, ставший за эти десятилетия ещё лучше, когда качнулись аморфные конструкции Ива Танги, когда пошла, пошла, пошла абстрактная живопись пятидесятых, когда безумно-гениальный Клайн потащил по холсту измазанных краской натурщиц, когда Матье стрелял краской в холст, а Поллак приплясывал над картиной со струёй краски, свернулась кровь в венах у подсудимого, когда попёр поп-арт, этот витамизированный внучок дады, когда засияли томатные супы Энди Уорхола, засмеялись комиксовые бэби Лихтенштайна, распахнулись карты и мишени Джонса, обрушилась чертовщина Раушенберга, взгромоздились автомобильные дверцы Чемберлена. Всё это, всё это, всё это. Это было ново и не ново, и он потел, блядский потрох, дешёвка недоёбаная, крутил ручки, менял слайды, шелестел бумагой. А после полезло вообще невообразимое – Кошут, Джадд, Опенгейм, Джильберт и Джордж, Кристо, Бойс. Концептуализм ошарашил его простотой своей идеи, после концептуализма он вспомнил про музыку, про поэзию, и вот уже драл горло шёнберговский Лунный Пьеро и тёк по нервам огненный коктейль Мандельштама. И подсудимый лёг на плюшевый диван, и закинул руки, и закрыл глаза, вспоминая дадаистские поэмы Тристана Тзары, сонаты Берга, строчки Элиота, и всё это сочилось сквозь него, текло, переполняя, и он оживал, как рассохшийся инструмент оживает на весенней помойке, он обретал звук и цвет, ясность мысли и остроту чувств, память и речь. И в нём колыхнулись древние века, проступили даосы, Лао-цзы, Конфуций, Будда, Экклезиаст, Сократ, Христос, Гораций, Гомер, Плиний, Софокл, Аристотель, Тацит, Овидий, а там толкнулись и Средние века, Нибелунги, Парсифаль, Тристан и Изольда, горбоносый Данте, волосатый Томас Мелори, замахал мечом Беовульф, натянул тетиву Сид, и пошло-поехало к Возрождению: заговорил диалогами Эразм, рассыпался бисером по мрамору Бокаччио, смешал краски Рафаэль, задумался над полётом голубя Леонардо, настроил скрипку Скарлатти, и дальше, дальше, бля, через Баха-Генделя, Моцарта-Бетховена, Монтеня-Шеллинга к новым временам, в его /подсудимого/ любимый двадцатый век. Растянувшись на диване, внешне он ничем не отличался от себя самого, – лежит себе плюгавый старичок с пепельным лицом и коричневыми губами и, закрыв глаза, теребит загрубевшими пальцами край одеяла. Но внутренне, внутренне, граждане судьи, он напоминал не больше не меньше раструб, или точнее – воронку. Все культурные, с позволения сказать, испражнения всех времён перемешивались, уплотнялись, ползли к горлышку воронки, стягивались, стягивались, и – вот уже он и приподнялся на сухих локтях, и щёки серые покраснели, а морщинистые веки тронулись влагой: воронка прорвалась его божеством по имени Марсель Дюшан. Да, граждане судьи и вы, плоскомордые разъебаи, чинно сидящие в зале. Именно Марсель Дюшан являлся для подсудимого высшим феноменом человеческой культуры всех эпох. Почему? Не могу ответить вразумительно. Ведь были же и другие имена, и не хуже: Шекспир, к примеру, тот же Леонардо, на худой случай – Гёте. Или Платон. Тоже ведь не хуй собачий. Но для подсудимого – Дюшан, и хоть ты заебись берёзовой палкой! Вот какая сука своевольная. Приподнявшись на локтях, он радостно улыбался. Ну как же, вспомнил, проказник, вспомнил своего кумира, о «Большом стекле» которого он делал доклад на конгрессе дюшанистов. Да. Было дело, нечего сказать. Есть что вспомнить: Штаты, потом Канада, долларов в кармане до хуя, меняли тогда сколько хочешь, доклад гениальный, английский доступен, как и русский, зал слушает, Эрнст слушает, Леви-Стросс слушает и… о, боже! Вооон ОН, сидит с краешку, щурясь на докладчика, а докладчик всё про Нью-Йоркский период, да про запыление «Большого стекла», да про Розу Селяви, да про унификацию идеи реди-мейд… Как во сне. А после – аплодисманы, кофиёк в кулуарах. Представили. Лично. Невысокий, подвижный, очаровательный. «Люблю дышать больше, чем работать». Что ж, оригинально. Доклад понравился. Большая осведомлённость, поразительная осведомлённость! Уай? Уотс дэ айрон кёртн? О, хуйня, мсье Дюшан, поверьте на слово! Вот. А потом – партия в шахматы, да, да, не отказывайтесь, я играю со всеми. Надо сказать, граждане судьи, подсудимый был весьма способен к шахматной игре. В начале своей речи я упомянул о том весёлом инциденте с пляжным шахматистом, как нельзя лучше иллюстрировавшим врождённые способности подсудимого. Дядя, съешь лошадку. Хе, хе… мда. И вот, стало быть – партия. Испанская партия, подсудимый – белые, Дюшан – чёрные, и центр уже вскрыт по линии с, разменены пешки, пара лошадок, ладьи, ферзевый эндшпиль с некоторым преимуществом подсудимого-докладчика, долгое маневрирование грозными ферзями, кофе давно остыл, пора ехать в гостиницу, проходную стопорит конь. Ничья. Что ж, неплохо, неплохо играете. Правда? Совсем не занимаетесь? А, всё-таки иногда… Нет, я тоже. Так, под настроение, но серьёзно – только в молодости, во Франции. Да. Да. Нет, чемпионом никогда. С Алёхиным? Нет, не доводилось. Сейчас? Отдыхаю. Вот, граждане судьи. Дюшан продолжал отдыхать, подсудимый вернулся «и попал, как крыса, с корабля на бал». Д.А. Пригов, между прочим. Но если серьёзно, почему именно Дюшана ставил и, судя по выражению лица, ставит подсудимый выше всех? Выше Моцарта, Леонардо, Шекспира? Мне кажется, что прежде всего этому способствует стойкое убеждение подсудимого в непреходящем значении XX века как «осевого времени» /К. Ясперс/ цивилизации, а следовательно, и культуры. Наука впервые за всю историю человечества оттеснила философию, претендуя на её роль. Однако полностью сыграть эту роль ей не удалось из-за жёсткости, ограниченности научных методов и языка. Зато рождавшееся в муках авангардное искусство XX века смогло полноправно занять место одряхлевшей, никому не нужной философии. Да всё это, грубо говоря, описано в известной статье Кошута «Искусство после философии», хули я перед вами плешью по паркету стучу… Так вот, а Марсель Дюшан, по мнению гражданина подсудимого, первый из двуногих отделил искусство от ремесла своими гениальными работами. Подсудимый сидел на диване, и слёзы ползли по его щекам. Он вспоминал «Фонтан», самую гениальную, по его мнению, работу XX века, этот чистенький писсуар из общественной уборной. Он сверкал в его сознании, поворачиваясь, он разрастался, заполняя пространство своими белыми формами, являя собой Венеру Милосскую XX века. Да. Двадцатого века, двадцааатогоооо вееекаааа… бля, заебался уже. Да. Но вы спросите – что было потом?
А потом-то, господа присяжные заседатели, случилось пренеприятнейшее. В один прекрасный красный вечер господин подсудимый, вспомнив исторический разговор между Дюшаном и Дали о продаже говна одним поп-артистом, срезал на своём теле все родинки безопасным лезвием «Нева». Припудрив ранки квасцами, он сел за машинку и печатал, как дятел и как курва слепая стучал, мне мозги все распятил, пищеблоком своим докучал, пренатальный ребёнок, дзен-буддист, шизофреник, дурак, образован с пелёнок, но по сути – полнейший мудак, всё писал, всё печатал, всё как курва слепая стучал, обнажал свой початок, пищеблоком своим докучал, пил, смеялся, дрочился, срал на койку и смачно пердел, в скрипку долго мочился, между тем безнадёжно седел, между тем – завирался и дрожал, и глотал молофью, с кошкой сочно ебался и свистел, подражал соловью, плющил пальцы тисками, Джойса рвал и глотал с молоком, резал шторы кусками, пятки нежно лизал языком, мазал кремом залупу и показывал в форточку всем, хуй разглядывал в лупу, говоря: я ебусь, когда ем, мебель резал ножовкой, керосином цветы поливал, сам питался перловкой, телефон раскрошил и сожрал, письма слал космонавтам, Саваофу молиться просил, не простил аргонавтам, бюст Гомера с балкона спустил, стал играть Куперена, грыз пюпитр и надсадно орал, причитал: о, святая Елена, у себя всё что можно украл, посылал телеграммы и печатал, печатал, печа… Мы его потом арестовали и заставили плясать ча-ча-ча. Вот этим всё и кончилось. Короче говоря, граждане судьи, комната подсудимого к тому времени представляла жуткое зрелище. Посудите сами – всё загажено, везде валяются куски разбитой мебели, испорченных продуктов, клочья бумаги. Подсудимый – весь в коросте, появившейся на почве глубочайшего шизофренического шуба /приступа/, сидит за машинкой и печатает, печатает, печатает. Успел написать он немного, но тем не менее эти два десятка листков, на мой взгляд, представляют для суда чрезвычайный интерес. Я предлагаю гражданам судьям и всем присутствующим в зале ознакомиться с этим так называемым творчеством подсудимого. После ознакомления мы продолжим.
В дороге
Лоб, к стеклу прижатый, леденеет, но не оторваться от окна.
– Еду, еду по своей стране я, в новые места и времена! – рассмеялся Груздев, помешивая чай в трясущемся стакане. Либерзон чистил яйца, аккуратно складывая скорлупу в кучку:
– Да, Виктор Лукич. Чем-нибудь грозны и знамениты каждый город, каждое село. Здесь руда вольфрамова открыта, здесь зерно на камне проросло…
– Здесь живут художники в долинах, – покосился в окно Груздев. – Вон, вся в узорах крыша с петушком.
– Здесь родился комендант Берлина и на речку бегал босиком.
Либерзон разрезал яйцо вдоль, положил половинку перед Груздевым:
– Здесь прошла дорога наступленья. И пусть, Виктор Лукич, нам было очень тяжело. Счастлив я, что наше поколенье вовремя, как надо, подросло.
– Конечно, Михаил Абрамыч, конечно. Я, понимаете, объездил, кажется, полсвета. Бомбами изрытый шар земной. Но как будто новая планета, Родина сегодня предо мной.
Либерзон сунул свою половинку в рот:
– Вот… ммм… Россия в серебре туманов, вопреки всем недругам жива.
– Домны – словно сестры великанов.
– Эстакад стальные кружева…
– Смотрите… вновь стога. И сёла за стогами. И в снегу мохнатом провода.
– Тихо спят, спелёнуты снегами, новорожденные города…
В ночь, когда появился на свет Комсомольск-на-Амуре, роды принимала Двадцать Шестая Краснознамённая мотострелковая дивизия Забайкальского военного округа.
Роды были сложными. Комсомольск-на-Амуре шёл ногами вперёд, пришлось при помощи полевой артиллерии сделать кесарево сечение. Пупок обмотался было вокруг шеи новорожденного, но сапёрный батальон вовремя ликвидировал это отклонение. Младенца обмыли из 416 брандспойтов и умело спеленали снегами. Отслоившуюся плаценту сохранить не удалось – ввиду своей питательности она была растащена местными жителями.
Искупление
– С нами рядом бежал человек, – задумчиво проговорил капитан СМЕРШа, снимая портупею с уставших плеч. – Нам казалось: отстанет – могила. Он, понимаешь, упал у траншеи на снег. Малодушье его повалило.
Лейтенант СМЕРШа понимающе кивнул, поставил котелок на прокопчённую, монотонно гудящую печку:
– Как же. Помню. Помню, как он перед строем смотрел в тишину. Каждый думал – он должен в сраженье искупить своей кровью вину перед павшим вторым отделеньем.
Капитан повесил портупею на гвоздь, вбитый в чёрные брёвна землянки:
– А помнишь, политрук ещё говорил: «Силой взглядов друзей боевых в безысходном его разуверьте. Он обязан, – говорит, – остаться в живых, если верит в бессилие смерти».
– Помню, товарищ капитан. Потом ещё в «Солдатском листке» поэт писал: «Что таишь в себе, зимняя мгла? Проломись сквозь погибель и вызнай!»
– Точно. А в передовице: «Он идёт. И ползя сквозь снега, не своею, а кровью врага искупает вину пред Отчизной».
Лейтенант снова кивнул, помешал ложкой в котелке:
– Наш солдат, товарищ капитан, продираясь сквозь ад, твёрдо верит, в бою умирая, что и в дрогнувшем сердце солдата есть какая-то сила вторая.
– Ну, – капитан пожал плечами, провёл рукой по измученному бессонницей лицу, – это – думы о доме родном. Это – тяжкого долга веленье…
– Я думаю, товарищ капитан, это – всё, что в порыве одном обещает судьбе искупленье. Садитесь кушать, пожалуйста. Закипело уже.
Лейтенант обхватил котелок ремнём и перенёс на врытый в землю стол.
Капитан сел на широкую колоду, отломил хлеба, придвинул к себе котелок:
– Я, брат, похлебаю малость, тебе оставлю…
– Ешьте, ешьте на здоровье. – Лейтенант сел напротив.