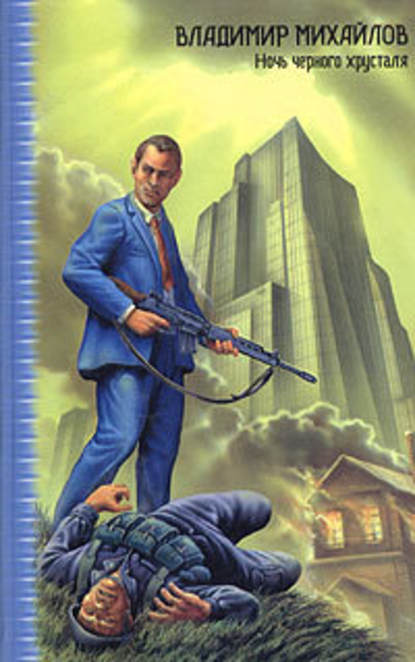По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ночь черного хрусталя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Спасибо, – серьезно сказал он. – И мне.
– Хочу, чтобы это повторилось.
– Обещаю, – так же серьезно ответил Милов.
– Господа, – просительно сказал Граве, – сделайте одолжение… Нет, я совершенно не собираюсь вмешиваться в ваши дела, но мы, намуры, относимся ко всем аспектам морали чрезвычайно серьезно… Мы – спокойный, уравновешенный народ, мы любим тишину и порядок во всем…
– Это заметно, – сказал Милов.
– Господин Милф, отдельные эпизоды, разумеется, не исключены, да, преступники есть и у нас, хотя это, как правило, фромы. И тем не менее я взываю к вашей порядочности…
– Извините, Граве, – сказала Ева. – Я не хотела вас шокировать, просто… Одним словом, идемте. Мне тоже не терпится принять ванну. Где ваш автобус?
– Придется идти вдоль реки, у самой воды, а уже близ моста поднимемся наверх, там как раз находится остановка. Можно подняться и здесь, но, несмотря на тишину, я теперь опасаюсь…
И в самом деле было тихо, и луч прожектора погас.
– Правильно опасаетесь, – сказал Милов. – Ну, теперь ведите вы.
Идти по влажному песку было легко. Все более светлело. Поселок вдалеке, видимо, уже догорал – зарево совсем ослабло, пламя не поднималось столбами, и река казалась теперь черной, как только что заасфальтированная дорога. Ветер иногда налетал слабыми порывами и, отразившись от высокого берега, чуть рябил воду. Почти ничто не нарушало тишины; впрочем, это, может быть, сюда, под обрыв, не доносились звуки: и Центр, и город были там, наверху. После очередного порыва ветерка Милов принюхался:
– Бензин? – предположил он вслух.
– Ну вот, пора подняться, – вместо ответа проговорил Граве. – Тут должна быть тропинка, попробуйте отыскать ее, господин Милф, – я плохо вижу в таком свете.
– Обождите, – Милов медленно прошел вперед. – Кажется, вот она. Да, похоже.
– Дан, – сказала Ева, – а тропинок на вашей карте не было?
– Таких – нет. Я поддержу вас, Ева, тут круто.
– Господа, – сказал Граве, – вы помните, я просил вас не позволять себе ничего нескромного…
– Не уговаривайте, – сказал Милов, – я все равно обязательно позволю. Но не при вас. Ну, полезли.
Они выбрались наверх и остановились. Наверху было чуть светлее.
– Тут осталось два шага, – сказал Граве.
– Идемте.
Через минуту-другую они действительно вышли на асфальтированную площадку рядом с дорогой. Автобуса там не оказалось.
– Придется, видимо, немного подождать, – сказал Граве. Он взглянул на часы. – Нет, не разберу… Однако я уверен, что автобус еще не проходил.
– И не пройдет, – ответил Милов невесело. – Глядите.
Если бы они все еще шли низом, то неизбежно наткнулись бы на него. Автобус валялся под откосом берега на боку, передняя часть его уходила в воду.
– Вот откуда бензином пахло, – сказал Милов.
– Что же нам делать? – растерянно проговорил Граве.
– Идти пешком.
– Смотрите, и столбы повалены, – сказала Ева тревожно.
– Похоже, это не только капуста, – проговорил Милов. – Ну, в путь. Жизнь становится чем дальше, тем интереснее.
И они двинулись быстрым шагом.
– Вы не могли бы помедленнее? – попросила Ева. Туфли свои она еще внизу то ли потеряла, то ли бросила, и снова шла теперь босиком; видимо, это было для нее непривычно. – Тут все колется, – объяснила она, – и мне надоело прыгать горной козочкой.
– Ничего удивительного… – проворчал Милов. – Картины одна другой краше.
– Я не узнаю Намурии… – проговорил Граве с искренним трагизмом в голосе.
И в самом деле, то, что они видели сейчас и среди чего, находились, не очень походило на то представление о Намурии, которое возникало по рассказам путешественников, туристским проспектам и рекламным плакатам, хотя все это, в общем, и соответствовало действительности – но только не сегодняшней, сиюминутной. В таких странах, как Намурия – да в любой, не только европейской или североамериканской даже – признаки машинной цивилизации давно уже проникли и в самые глухие уголки, так что лес порой мог удивить ровностью рядов, какими росли многолетние уже, дородные деревья, и в разных направлениях расходились от трансформаторов – в каменных будках или на деревянных и бетонных устоях располагались они – провода, толстые, силовые, а на столбах пониже держались телефонные и телеграфные, а если мачт с проводами не было, то в определенном ритме попадались таблички, предупреждающие, что под землей здесь проходит кабель; аккуратные павильончики автобусных остановок виднелись у дорог; и где-то в пределах видимости оказывался фермер на своем тракторе, оснащенном по сезону – плугом, сеялкой, косилкой, граблями; и уж, разумеется, не умолкало на дорогах, только среди ночи ослабевая, шуршание шин по асфальту, гудрону, бетону, легкое жужжание легковых и сердитое гудение грузовых моторов – немецких, французских, итальянских, американских, японских, реже – советских, чешских, румынских, к темноте сползавшихся к кемпингам и мотелям, а со светом вновь разлетавшихся во всех направлениях ради дела или прихоти.
Да, еще вчера так было. И, похоже, кончилось как-то сразу и по причинам, которые пока еще не понять было. Сейчас на дороге, по которой шли трое, ни машин не попадалось, не рокотали тракторы на аккуратных полях, по-прежнему занимавших все пространство, свободное от лесов и дорог; столбы с проводами были где повалены, где сильно наклонены; повалены были дорожные указатели и щиты с описанием предстоящих дорожных развязок; зато вдруг масса всякого мусора взялась откуда-то – мусора, в котором можно было угадать обломки и останки того, что вчера еще было нужными, полезными и желанными в жизни вещами: главным образом, электрическими и электронными приборами – от утюга до стереофонического двухкассетника или какой-то из приставок к персональному компьютеру, без какого не обходился уже давно ни один фермер. Словно бы кто-то сначала собрал и изуродовал как только сумел, а потом погрузил на многотонные трейлеры и, медленно двигаясь по дороге, неустанно расшвыривал по сторонам – и на дорогу, и в кюветы, по которым сейчас медленно текла вода, неизвестно откуда взявшаяся, потому что дождей давно уже не было. Кирпичная будка с черепом и костями в десятке метров от дороги стояла с распахнутой железной дверцей, и внутри ее, как все легче становилось различить, желто отсвечивали пряди медных проводов. Местами ровное темно-серое покрытие дороги было усеяно мелкими крошками разбитых автомобильных стекол; какие-то тряпки валялись, остатки одежды, клочья газет, яркие журнальные обложки. Вот на какую дорогу вышли и двинулись по ней Ева с двумя спутниками: что же удивительного в том, что нелегко было ей ступать босиком.
– Господи, Ева! – воскликнул Милов, прямо-таки ужаснувшись. – Нельзя же так! Где ваши туфли?
– Где прошлогодний снег, – она старалась еще шутить.
Милов снял свои туфли, носки.
– Немедленно обуйтесь. Не смущайтесь – носки я меняю дважды в день, старый предрассудок.
– Вот еще! – сказала она. – У меня двадцать три с половиной, а у вас…
– Двадцать пять, – сказал Милов, – и набейте в носы травы или вот вам тряпка…
– Я, к сожалению, не могу помочь, – сказал Граве, – у меня двадцать девятый номер. А как же вы теперь, господин Милф?
– Обойдусь. Да и, наверное, на этой дороге можно найти все, что угодно – и пару обуви в том числе. За меня не волнуйтесь, я считаю, что легко отделался: иначе мне пришлось бы нести Еву на руках – это было бы, конечно, приятней, но тогда я лишился бы маневренности.
– И почему я не отказалась наотрез? – усмехнулась Ева, но во взгляде, который она подняла на Милова, было странное какое-то выражение – словно она впервые его увидела; да так оно и было по сути дела: при свете – впервые. И тут она неудержимо звонко расхохоталась:
– О Дан, что это такое? Нет, я не могу, не выдержу! Прелестно, неподражаемо прелестно…
Она заливалась, будто не было страхов, пещер, грязной реки, заваленной дороги, стертых ног. Может быть, и было в ее смехе что-то от истерики, но все же главным оставалось веселье.
– Да в чем дело? – Милов уже готов был обидеться.
– Галстук, Дан, ваш галстук! Где вы ухитрились откопать такой шедевр?
Галстук у Милова, теперь уже хорошо видный в глубоком вырезе свитера, был и на самом деле выдающимся: шириной в лопату – таких давно уже никто не носил – он бросался в глаза еще и редкой до безвкусия расцветкой – громадными красными розами, зелеными листьями, а над ними – райской птицей всех цветов радуги…
– Хочу, чтобы это повторилось.
– Обещаю, – так же серьезно ответил Милов.
– Господа, – просительно сказал Граве, – сделайте одолжение… Нет, я совершенно не собираюсь вмешиваться в ваши дела, но мы, намуры, относимся ко всем аспектам морали чрезвычайно серьезно… Мы – спокойный, уравновешенный народ, мы любим тишину и порядок во всем…
– Это заметно, – сказал Милов.
– Господин Милф, отдельные эпизоды, разумеется, не исключены, да, преступники есть и у нас, хотя это, как правило, фромы. И тем не менее я взываю к вашей порядочности…
– Извините, Граве, – сказала Ева. – Я не хотела вас шокировать, просто… Одним словом, идемте. Мне тоже не терпится принять ванну. Где ваш автобус?
– Придется идти вдоль реки, у самой воды, а уже близ моста поднимемся наверх, там как раз находится остановка. Можно подняться и здесь, но, несмотря на тишину, я теперь опасаюсь…
И в самом деле было тихо, и луч прожектора погас.
– Правильно опасаетесь, – сказал Милов. – Ну, теперь ведите вы.
Идти по влажному песку было легко. Все более светлело. Поселок вдалеке, видимо, уже догорал – зарево совсем ослабло, пламя не поднималось столбами, и река казалась теперь черной, как только что заасфальтированная дорога. Ветер иногда налетал слабыми порывами и, отразившись от высокого берега, чуть рябил воду. Почти ничто не нарушало тишины; впрочем, это, может быть, сюда, под обрыв, не доносились звуки: и Центр, и город были там, наверху. После очередного порыва ветерка Милов принюхался:
– Бензин? – предположил он вслух.
– Ну вот, пора подняться, – вместо ответа проговорил Граве. – Тут должна быть тропинка, попробуйте отыскать ее, господин Милф, – я плохо вижу в таком свете.
– Обождите, – Милов медленно прошел вперед. – Кажется, вот она. Да, похоже.
– Дан, – сказала Ева, – а тропинок на вашей карте не было?
– Таких – нет. Я поддержу вас, Ева, тут круто.
– Господа, – сказал Граве, – вы помните, я просил вас не позволять себе ничего нескромного…
– Не уговаривайте, – сказал Милов, – я все равно обязательно позволю. Но не при вас. Ну, полезли.
Они выбрались наверх и остановились. Наверху было чуть светлее.
– Тут осталось два шага, – сказал Граве.
– Идемте.
Через минуту-другую они действительно вышли на асфальтированную площадку рядом с дорогой. Автобуса там не оказалось.
– Придется, видимо, немного подождать, – сказал Граве. Он взглянул на часы. – Нет, не разберу… Однако я уверен, что автобус еще не проходил.
– И не пройдет, – ответил Милов невесело. – Глядите.
Если бы они все еще шли низом, то неизбежно наткнулись бы на него. Автобус валялся под откосом берега на боку, передняя часть его уходила в воду.
– Вот откуда бензином пахло, – сказал Милов.
– Что же нам делать? – растерянно проговорил Граве.
– Идти пешком.
– Смотрите, и столбы повалены, – сказала Ева тревожно.
– Похоже, это не только капуста, – проговорил Милов. – Ну, в путь. Жизнь становится чем дальше, тем интереснее.
И они двинулись быстрым шагом.
– Вы не могли бы помедленнее? – попросила Ева. Туфли свои она еще внизу то ли потеряла, то ли бросила, и снова шла теперь босиком; видимо, это было для нее непривычно. – Тут все колется, – объяснила она, – и мне надоело прыгать горной козочкой.
– Ничего удивительного… – проворчал Милов. – Картины одна другой краше.
– Я не узнаю Намурии… – проговорил Граве с искренним трагизмом в голосе.
И в самом деле, то, что они видели сейчас и среди чего, находились, не очень походило на то представление о Намурии, которое возникало по рассказам путешественников, туристским проспектам и рекламным плакатам, хотя все это, в общем, и соответствовало действительности – но только не сегодняшней, сиюминутной. В таких странах, как Намурия – да в любой, не только европейской или североамериканской даже – признаки машинной цивилизации давно уже проникли и в самые глухие уголки, так что лес порой мог удивить ровностью рядов, какими росли многолетние уже, дородные деревья, и в разных направлениях расходились от трансформаторов – в каменных будках или на деревянных и бетонных устоях располагались они – провода, толстые, силовые, а на столбах пониже держались телефонные и телеграфные, а если мачт с проводами не было, то в определенном ритме попадались таблички, предупреждающие, что под землей здесь проходит кабель; аккуратные павильончики автобусных остановок виднелись у дорог; и где-то в пределах видимости оказывался фермер на своем тракторе, оснащенном по сезону – плугом, сеялкой, косилкой, граблями; и уж, разумеется, не умолкало на дорогах, только среди ночи ослабевая, шуршание шин по асфальту, гудрону, бетону, легкое жужжание легковых и сердитое гудение грузовых моторов – немецких, французских, итальянских, американских, японских, реже – советских, чешских, румынских, к темноте сползавшихся к кемпингам и мотелям, а со светом вновь разлетавшихся во всех направлениях ради дела или прихоти.
Да, еще вчера так было. И, похоже, кончилось как-то сразу и по причинам, которые пока еще не понять было. Сейчас на дороге, по которой шли трое, ни машин не попадалось, не рокотали тракторы на аккуратных полях, по-прежнему занимавших все пространство, свободное от лесов и дорог; столбы с проводами были где повалены, где сильно наклонены; повалены были дорожные указатели и щиты с описанием предстоящих дорожных развязок; зато вдруг масса всякого мусора взялась откуда-то – мусора, в котором можно было угадать обломки и останки того, что вчера еще было нужными, полезными и желанными в жизни вещами: главным образом, электрическими и электронными приборами – от утюга до стереофонического двухкассетника или какой-то из приставок к персональному компьютеру, без какого не обходился уже давно ни один фермер. Словно бы кто-то сначала собрал и изуродовал как только сумел, а потом погрузил на многотонные трейлеры и, медленно двигаясь по дороге, неустанно расшвыривал по сторонам – и на дорогу, и в кюветы, по которым сейчас медленно текла вода, неизвестно откуда взявшаяся, потому что дождей давно уже не было. Кирпичная будка с черепом и костями в десятке метров от дороги стояла с распахнутой железной дверцей, и внутри ее, как все легче становилось различить, желто отсвечивали пряди медных проводов. Местами ровное темно-серое покрытие дороги было усеяно мелкими крошками разбитых автомобильных стекол; какие-то тряпки валялись, остатки одежды, клочья газет, яркие журнальные обложки. Вот на какую дорогу вышли и двинулись по ней Ева с двумя спутниками: что же удивительного в том, что нелегко было ей ступать босиком.
– Господи, Ева! – воскликнул Милов, прямо-таки ужаснувшись. – Нельзя же так! Где ваши туфли?
– Где прошлогодний снег, – она старалась еще шутить.
Милов снял свои туфли, носки.
– Немедленно обуйтесь. Не смущайтесь – носки я меняю дважды в день, старый предрассудок.
– Вот еще! – сказала она. – У меня двадцать три с половиной, а у вас…
– Двадцать пять, – сказал Милов, – и набейте в носы травы или вот вам тряпка…
– Я, к сожалению, не могу помочь, – сказал Граве, – у меня двадцать девятый номер. А как же вы теперь, господин Милф?
– Обойдусь. Да и, наверное, на этой дороге можно найти все, что угодно – и пару обуви в том числе. За меня не волнуйтесь, я считаю, что легко отделался: иначе мне пришлось бы нести Еву на руках – это было бы, конечно, приятней, но тогда я лишился бы маневренности.
– И почему я не отказалась наотрез? – усмехнулась Ева, но во взгляде, который она подняла на Милова, было странное какое-то выражение – словно она впервые его увидела; да так оно и было по сути дела: при свете – впервые. И тут она неудержимо звонко расхохоталась:
– О Дан, что это такое? Нет, я не могу, не выдержу! Прелестно, неподражаемо прелестно…
Она заливалась, будто не было страхов, пещер, грязной реки, заваленной дороги, стертых ног. Может быть, и было в ее смехе что-то от истерики, но все же главным оставалось веселье.
– Да в чем дело? – Милов уже готов был обидеться.
– Галстук, Дан, ваш галстук! Где вы ухитрились откопать такой шедевр?
Галстук у Милова, теперь уже хорошо видный в глубоком вырезе свитера, был и на самом деле выдающимся: шириной в лопату – таких давно уже никто не носил – он бросался в глаза еще и редкой до безвкусия расцветкой – громадными красными розами, зелеными листьями, а над ними – райской птицей всех цветов радуги…