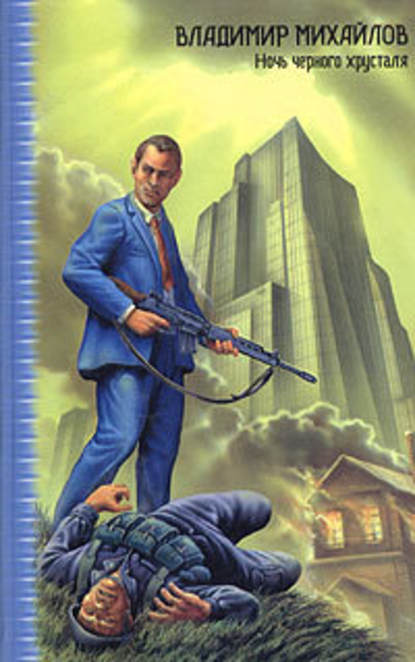По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ночь черного хрусталя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Чем это здесь пахнет? – спросила Ева. Милов невольно принюхался: и в самом деле, воздух здесь был немного другим, отдавал чем-то этаким – не бензином, не кислотой, но что-то было в нем постороннее.
– Да, – сказал Граве, – что-то такое есть на самом деле…
– Это запах вашей трусости, – сказала Ева.
Граве обиженно засопел, Милов усмехнулся: сказано было не по делу, но весьма определенно. Он беззвучно ступил.
– Нет, без меня вам не выбраться, господин Граве, – сказал он, – тут впереди лабиринт, и вы проплутаете в нем до конца жизни, а мне маршрут известен. Тут озерцо впереди, подземное – видимо, в него натекло всякой дряни – вот оно и пахнет. Ваш Центр, думаю, что-то сбрасывает не по адресу.
– Ох, Дан, – сказала Ева, – и он с непонятным удовольствием уловил в ее голосе радость. – Наконец-то, а то я уже испугалась.
– Спасибо, Ева, – сказал Милов. – Теперь поторопимся: похоже, что становится все более сыро, словно бы вода выступает снизу – не знаю, отчего. Готовы?
– Да, – ответила Ева, а он нашел в темноте ее руку и положил на свое плечо.
– Двинулись, – сказал он, и они пошли. Сзади было тихо. Под ногами уже ощутимо хлюпало, хотя уровень реки находился намного ниже, это Милов помнил.
«Сплошные загадки, – подумал он, идя с вытянутыми вперед руками – одна прямо, другая чуть выше головы, чтобы не налететь ни на что сослепу. – Ничего, выскользнем; но что все-таки тут творится? Очень невредно было бы понять…»
Выбраться удалось благополучно: три мягких всплеска, прозвучавших почти слитно, не нарушили черного безмолвия ночи ни окриком, ни выстрелом. Вода была не холодной, но какой-то скользкой, маслянистой, противной по ощущению, и пахла дурно. В этой реке уже пять лет не купались – наука и техника своего добились. Трое поплыли к противоположному, правому берегу не быстро и бесшумно, равняясь по женщине. Она плыла медленнее других, и Милов все время держался рядом – греб он одной рукой, другую, со своей и ее одеждой, держал над головой. Вода слегка обжигала, раздражала кожу. «Интересно, чего только ни сбрасывали в нее за последние годы, – думал Милов, – а ведь тут еще аккуратисты. Другие, выше по течению, и вовсе совесть потеряли…»
Добравшись до берега, трое вздохнули облегченно: пусть и бессознательно, в воде они каждую секунду ожидали выстрелов вдогонку, а здесь уже можно было как-то укрыться. Пригнувшись, пробежали в прибрежный кустарник. Граве на бегу закашлялся.
«Нет, все-таки в пещере воздух был чище», – подумал Милов. Среди кустов он, не одеваясь, стал рвать жухлую траву, обтираться ее пучками: кожа требовала, чтобы с нее сняли грязь – экскременты цивилизации. Глядя на Милова, стали вытираться и те двое, только Ева отошла чуть подальше, заслонилась кустом, Граве же просто повернулся спиной. Милов покосился туда, где двигалось тускло-белое, невольно сбивавшее с нужных сейчас мыслей женское тело. Вдруг вспомнилось, как они с Аллочкой вот так, среди ночи купались в Оке: сколько же это уже времени прошло? Он не стал подсчитывать, ни к чему было. Одевшись, все трое поднялись на пригорок и присели, чтобы оглядеться и собраться с мыслями. Ева же – еще и для того, чтобы растереть совершенно окоченевшие ступни; просить об этом мужчин ей сейчас почему-то не хотелось, хотя и естественно было бы.
Отсюда, с холмика, открывался хороший вид на Научный центр, и можно было залюбоваться гигантским, хорошо ограненным, сияющим огнями монолитом хрусталя: именно таким представлялся отсюда главный корпус. На Центр денег не пожалели, начиная уже с проекта, строили всем миром и собрали в него едва ли не все лучшее, что только существовало в современной науке – чтобы умерить национальные и державные амбиции и принести побольше пользы всем, а не сидеть по углам, общаясь через журналы. Время на Земле вроде бы спокойное, разоружались искренне, снова начали ощущать забытый было вкус к жизни, без сердечного сбоя поднимать глаза к небу, не опасаясь, что безоблачная глубина вдруг разразится дождем из тяжелых семян, из которых вырастают гигантские грибы, дышащие ветром пустынь. Из оружейной науки пошло в цивильную так много, как никогда еще: демонтировали ракеты и боеголовки, но технологии оставались, и оставались мозги: серое вещество требовало нагрузки. Международный штиль позволял людям из разных, порой очень различных стран общаться и работать без задних мыслей; не то, чтобы все противоречия в мире разрешились, этого придется – все понимали – ждать еще долго-долго – но все же человечество куда больше почувствовало себя чем-то единым, планету – неделимой территорией, где границы, оставаясь на своих местах, перестали быть стенами или занавесами – если и не для политиков, то уж для ученых – во всяком случае. Поэтому такие вот центры – и отдельных наук, и синтетические, и технические – возникали все чаще: ведь и с деньгами в государственных бюджетах стало полегче – демонтаж ракет обходился все-таки дешевле, чем их строительство и испытания. В науку и технику пришло немало и военного народа – правда, чаще администраторами, чем учеными, однако без хороших менеджеров в наше время науке не процвести – это давно стало понятным. Так что золотой век если и не наступил, то уже, по крайней мере, мерещился где-то не в самом далеке. В общем, много уже было сделано полезного, и даже такое многотрудное дело, как нахождение взаимоприемлемого компромисса между цивилизацией и природой, начинало казаться в конечном итоге осуществимым – но не сразу, не сразу конечно.
«Оттого-то и бывало так приятно, – думала Ева, яростно растирая ступни и лодыжки, совсем уже потерявшие было чувствительность, – приходить сюда вечерами по изящному мосту, прекрасно вписанному в пейзаж, и смотреть – не с этого дикого пригорка, но с другого холма, повыше, куда и лестницы удобные вели, и вершина была выровнена и забетонирована, имелось, на чем посидеть, и напитки, и легкие закуски продавались в изобилии».
Но и отсюда, где сейчас переводили дыхание трое мокрых и далеких от спокойствия людей, приятно было любоваться сияющим хрустальным монолитом, привычно узнавая и административный этаж, и ярусы ресторана и увеселительных заведений, а выше – технические службы, а еще выше – этажи математиков, теорфизиков, экономистов, правоведов, философов, теологов, наконец. Клиника, как и полагается, находилась не в Кристалле, а в собственном здании, на отшибе, как и многие другие институты; однако лабораторию ОДА разместили, когда стало необходимым ее создать, именно в монолите, потеснив историков и филологов, специалистов по мертвым языкам: жизнь предстоящая как бы вытесняла память о былом, но это лишь казалось, потому что чистый воздух, которого требовали пациенты лаборатории, был намного древнее и мертвых языков, и старейших мифов – не говоря уже о каких угодно письменных свидетельствах. Такое решение было понятным: клиника, с ее постоянной угрозой переноса инфекций, для младенцев никак не подходила, а свой собственный корпус, не с десятком термобоксов, а с сотнями, должны были заложить лишь в конце года, чтобы открыть его весной.
Да, и Кристаллом можно было любоваться, и многими другими сооружениями, среди которых даже самые прозаические по назначению выглядели маленькими шедеврами архитектуры и инженерии, – да такими, собственно, и были, хотя поражали не столько красотой своей, сколько неожиданностью. Жизнь цвела и двигалась и во всех этих строениях, и в переходах, воздушных и подземных, и на автомобильных аллеях и стоянках, и на вертолетной площадке на самом верху Кристалла – одним словом, везде. Кроме разве парка: так называлось пространство вокруг небольшого пруда (официально его предпочитали называть озером), упорно зараставшего всякой дрянью, – эта часть территории была засажена деревьями, еще не так давно совершенно здоровыми, а теперь несколько привядшими, как и везде. Газоны разграфлены аллеями: предполагалось, что там будут в свободные часы прогуливаться корифеи наук, а поучающиеся станут с жадностью подхватывать их глубокие мысли и безумные идеи. Ученые, однако, эту рощу невзлюбили, потому что от пруда несло откровенной тухлятиной научно-технического происхождения – зато ночами там собиралось множество кошек.
Да, все это было видно отсюда, как и некоторые из множества тяготевших к реке от химических, биологических и всяких других заведений трубопроводов, снабженных, разумеется, очистными устройствами. Дорогие и убедительные, они, видимо, все же не до конца оправдывали надежды, отчего прекрасно вымощенная плиткой и ярко освещенная набережная, как и парк, почти совершенно пустовала. Окрестное население, – такое было, – уже не раз и не два выражало неудовольствие самим существованием Центра, от которого якобы передохла рыба, и хорошо еще, если только рыбой дело ограничится. Жители даже, наняв адвоката, составили однажды петицию, в которой требовали перенести науку куда-нибудь, хоть в центр Антарктиды, а их, туземцев, оставить в покое в презренном невежестве. До суда, однако, не дошло, потому что истцам резонно ответили: во-первых, что если не Центр, то тут воздвигли бы что-нибудь еще погромче, погрязнее, подымнее и поядовитее; прогресс нельзя остановить, и всякое место, на котором можно что-то построить, никак не имеет права оставаться в первозданной запущенности; и во-вторых, в Европе полно продовольствия, куда же фермеры станут девать продукты своего труда, если Центр вдруг исчезнет с лица земли? Даже и русский рынок ведь не бесконечен. Обитатели окрестных ферм и деревень смирились, по крайней мере внешне, а к тем, кто все еще ворчал, – привыкли. Как-никак, Центр платил хорошо и хорошими деньгами, настоящими. Так что и днем, и ночью научно-технический прогресс являл здесь миру свой лик – несколько надменный и самоуверенный, но исполненный выражением заботы о всяческом расширении Знания – на благо людей, разумеется, кого же еще.
И сейчас, ночью, взгляду с пригорка, поросшего травой, что начинала сохнуть, едва успев проклюнуться, и болезненным, тоже как бы расхотевшим расти кустарником, лик этот казался настолько внушительным, успокаивающим, обнадеживающим, а элегантные линии строений – такими неизменно-вечными, что уже не верилось, что вот еще только минуты тому назад людям приходилось спасаться в узких пещерных ходах и убивать других, чтобы не быть убитыми этими другими – по причинам, пока еще совершенно непостижимым. Успокоение внушало и несильное зарево, поднимающееся далеко отсюда, за лесом, над небольшой и очень надежной АЭС, делавшей и Центр, и поселок ученых совершенно независимым от всей остальной Намурии. Когда ставили Центр, энергии в стране не хватало, большая гидростанция только еще строилась, и Центру удалось получить разрешение намурийского правительства, что обошлось, правда, недешево. Теперь ГЭС уже давала ток, обширное водохранилище заполнилось до проектной отметки, затопив, правда, с десяток селений – естественно, без человеческих жертв, остальное же, с точки зрения прогресса, сожаления не заслуживало. Когда гидростанцию пустили, возникли разговоры о переводе Центра на общее энергоснабжение и о закрытии АЭС Центра; однако переговоры обещали затянуться надолго, как это обычно и бывает.
Да, красиво все это было и внушительно. Но стреляли-то почему и зачем?
– Так что же все-таки там у вас стряслось? – поинтересовался Милов.
Уже почти совсем оправившись после неожиданных приключений, волнений, страха и вынужденного купания, они все еще сидели, чувствуя себя в относительной безопасности и как бы оттягивая мгновение, когда придется встать и, очень возможно, снова подвергнуть себя каким-то угрозам. Было тихо, только Граве временами громко и каждый раз неожиданно икал – верно, никак еще не мог согреться.
– Да перестаньте, – сказала Ева, – уймите свои страхи и не нарушайте торжественной тишины.
– Я не боюсь, – возразил Граве, – просто я так реагирую на охлаждение. Вы спрашиваете, что стряслось, господин Милф? Нечто такое, что не укладывается в моем сознании. Нечто небывалое, скажу я вам. Вот именно. Поселок жил своей нормальной вечерней жизнью, поселок, в котором живут ученые и кое-кто из служб Центра. Ну, вы представляете, как в таких поселках проходят вечера…
«Черта с два я представляю, – подумал Милов. – Никогда не жил в таких поселках, да и с учеными что у меня общего? С этими – одно, пожалуй: я тоже представляю здесь ООН – только в другой области деятельности. У каждого свои проблемы…»
– Ну, разумеется, могу себе представить, – ответил он вслух.
– И вот в этот спокойный, совершенно благопристойный, могу вас заверить, поселок внезапно врываются какие-то… Не знаю даже, как их назвать…
– Психи, – сказала Ева.
– Во всяком случае, какие-то совершенно неприличные люди, хулиганье. Вооруженные пистолетами, охотничьими ружьями, не знаю, чем… Врываются в коттеджи. И начинают, вы не поверите, избивать людей, крушить все вокруг себя – мебель, посуду, лампы, книги, бить окна… Я как раз занимался терминалом в доме профессора Ляйхта – они разбили весь компьютер, это акт вандализма, нет другого слова… Меня сильно ударили в спину, я вынужден был покинуть дом. Я хотел сесть в машину и уехать, но на стоянке было множество таких же головорезов – боюсь, что машина может пострадать… Тогда я побежал ко входу в пещеры. В этом направлении бежали и другие, за нами гнались, но мне удалось ускользнуть – мне и вот доктору Рикс… Это было ужасно, ужасно – они избивали людей, стреляли – я надеюсь, что в воздух, но выстрелы раздавались совершенно отчетливо…
– Интересно, – пробормотал Милов. – Откуда же они взялись?
– О, на этот вопрос я, к сожалению, могу ответить совершенно точно: это были местные жители, фермеры, сельскохозяйственные рабочие… Да, как ни постыдно, это были намуры. А ведь мы испокон веку отличались спокойным, уравновешенным характером. Если бы это совершили фромы, я, откровенно говоря, не очень удивился бы; поверьте, мне чужда всякая национальная ограниченность, я ни в коем случае не расист, но фромы есть фромы, это вам скажет кто угодно… Но это были намуры, господин Милф…
– Так что судьба остальных жителей вам неизвестна?
Ответила Ева:
– Люди бежали, как я заметила, главным образом к Центру; а куда еще можно было деваться? Надеюсь, им удалось добежать. В пещере, кроме нас двоих, никого, кажется, не оказалось, и туда за нами никто не погнался.
– Поселок далеко от Центра?
Ева встала, вытянула руку:
– Примерно там… Обычно его легко опознать: над ним тоже как бы световой купол, особенно когда в небе облака. А сейчас совершенно темно…
Граве снова икнул. Ева подошла к нему, села рядом, обняла, сказала:
– Грейтесь, а то мне даже жарко стало от таких воспоминаний. А вообще, когда вы в последний раз были у психоаналитика? – Граве не ответил. Налетел ветер, принес удушливо-тошнотворный запах. Ева фыркнула, Граве закашлялся, потом пробормотал:
– Это снова органики что-то такое выплеснули.
– Какая разница? – отозвалась Ева.
– Да нет, я просто так.
Милов краем уха слушал их разговор, думал же о другом. Нет, это все к нему отношения не имело. «У меня другая задача, – думал он. – Главное – оказаться в нужное время в нужном месте, не то груз опять уйдет – и канет неизвестно куда, как и в прошлый раз. Нет, чую, цепочка не зря ведет через этот самый Центр. Но если там сейчас беспорядки… Ну, все равно, его-то я разыщу…»
– Простите? – спохватился он, поняв, что обращаются к нему.
– Я говорю: скорее всего, это месть фермеров. Центру не следовало отказываться от закупок. Это было так неожиданно и для фермеров столь болезненно… Нет, я не оправдываю их, не поймите превратно, но ведь они на это рассчитывали, и вдруг…
– Вовсе не вдруг, – не согласилась Ева. – Мы их уже не раз предупреждали: содержание нитратов в овощах выше всяких допустимых пределов. У Центра достаточно денег, чтобы получать за них доброкачественную пищу.
– Простите меня, доктор, но это эгоизм, – сказал Граве обиженно. – Конечно, вы иностранка, но мне, намуру, не все равно, как будут жить наши фермеры. Поверьте, им не так-то легко, и в какой-то степени их можно – нет, не оправдать, разумеется, но во всяком случае понять логику их мышления…
– Понятно, – сказал Милов, хотя рассуждения Граве его совсем не убедили. Впрочем, чего не случается на свете… – Значит, поселок они разгромили? – Он встал, с удовольствием потянулся. – Ну, кажется, мы достаточно отдохнули… Глядите-ка, а ведь там уже не так темно, как было только что!
И в самом деле, облака над местом, где находился поселок, словно бы посветлели.
– Ну, слава Богу, – сказала Ева. – Значит, все кончилось, люди вернулись. Может быть, и мне?.. – подумала она вслух. Милов смотрел на облака, они становились все ярче.
– Да, – сказал Граве, – что-то такое есть на самом деле…
– Это запах вашей трусости, – сказала Ева.
Граве обиженно засопел, Милов усмехнулся: сказано было не по делу, но весьма определенно. Он беззвучно ступил.
– Нет, без меня вам не выбраться, господин Граве, – сказал он, – тут впереди лабиринт, и вы проплутаете в нем до конца жизни, а мне маршрут известен. Тут озерцо впереди, подземное – видимо, в него натекло всякой дряни – вот оно и пахнет. Ваш Центр, думаю, что-то сбрасывает не по адресу.
– Ох, Дан, – сказала Ева, – и он с непонятным удовольствием уловил в ее голосе радость. – Наконец-то, а то я уже испугалась.
– Спасибо, Ева, – сказал Милов. – Теперь поторопимся: похоже, что становится все более сыро, словно бы вода выступает снизу – не знаю, отчего. Готовы?
– Да, – ответила Ева, а он нашел в темноте ее руку и положил на свое плечо.
– Двинулись, – сказал он, и они пошли. Сзади было тихо. Под ногами уже ощутимо хлюпало, хотя уровень реки находился намного ниже, это Милов помнил.
«Сплошные загадки, – подумал он, идя с вытянутыми вперед руками – одна прямо, другая чуть выше головы, чтобы не налететь ни на что сослепу. – Ничего, выскользнем; но что все-таки тут творится? Очень невредно было бы понять…»
Выбраться удалось благополучно: три мягких всплеска, прозвучавших почти слитно, не нарушили черного безмолвия ночи ни окриком, ни выстрелом. Вода была не холодной, но какой-то скользкой, маслянистой, противной по ощущению, и пахла дурно. В этой реке уже пять лет не купались – наука и техника своего добились. Трое поплыли к противоположному, правому берегу не быстро и бесшумно, равняясь по женщине. Она плыла медленнее других, и Милов все время держался рядом – греб он одной рукой, другую, со своей и ее одеждой, держал над головой. Вода слегка обжигала, раздражала кожу. «Интересно, чего только ни сбрасывали в нее за последние годы, – думал Милов, – а ведь тут еще аккуратисты. Другие, выше по течению, и вовсе совесть потеряли…»
Добравшись до берега, трое вздохнули облегченно: пусть и бессознательно, в воде они каждую секунду ожидали выстрелов вдогонку, а здесь уже можно было как-то укрыться. Пригнувшись, пробежали в прибрежный кустарник. Граве на бегу закашлялся.
«Нет, все-таки в пещере воздух был чище», – подумал Милов. Среди кустов он, не одеваясь, стал рвать жухлую траву, обтираться ее пучками: кожа требовала, чтобы с нее сняли грязь – экскременты цивилизации. Глядя на Милова, стали вытираться и те двое, только Ева отошла чуть подальше, заслонилась кустом, Граве же просто повернулся спиной. Милов покосился туда, где двигалось тускло-белое, невольно сбивавшее с нужных сейчас мыслей женское тело. Вдруг вспомнилось, как они с Аллочкой вот так, среди ночи купались в Оке: сколько же это уже времени прошло? Он не стал подсчитывать, ни к чему было. Одевшись, все трое поднялись на пригорок и присели, чтобы оглядеться и собраться с мыслями. Ева же – еще и для того, чтобы растереть совершенно окоченевшие ступни; просить об этом мужчин ей сейчас почему-то не хотелось, хотя и естественно было бы.
Отсюда, с холмика, открывался хороший вид на Научный центр, и можно было залюбоваться гигантским, хорошо ограненным, сияющим огнями монолитом хрусталя: именно таким представлялся отсюда главный корпус. На Центр денег не пожалели, начиная уже с проекта, строили всем миром и собрали в него едва ли не все лучшее, что только существовало в современной науке – чтобы умерить национальные и державные амбиции и принести побольше пользы всем, а не сидеть по углам, общаясь через журналы. Время на Земле вроде бы спокойное, разоружались искренне, снова начали ощущать забытый было вкус к жизни, без сердечного сбоя поднимать глаза к небу, не опасаясь, что безоблачная глубина вдруг разразится дождем из тяжелых семян, из которых вырастают гигантские грибы, дышащие ветром пустынь. Из оружейной науки пошло в цивильную так много, как никогда еще: демонтировали ракеты и боеголовки, но технологии оставались, и оставались мозги: серое вещество требовало нагрузки. Международный штиль позволял людям из разных, порой очень различных стран общаться и работать без задних мыслей; не то, чтобы все противоречия в мире разрешились, этого придется – все понимали – ждать еще долго-долго – но все же человечество куда больше почувствовало себя чем-то единым, планету – неделимой территорией, где границы, оставаясь на своих местах, перестали быть стенами или занавесами – если и не для политиков, то уж для ученых – во всяком случае. Поэтому такие вот центры – и отдельных наук, и синтетические, и технические – возникали все чаще: ведь и с деньгами в государственных бюджетах стало полегче – демонтаж ракет обходился все-таки дешевле, чем их строительство и испытания. В науку и технику пришло немало и военного народа – правда, чаще администраторами, чем учеными, однако без хороших менеджеров в наше время науке не процвести – это давно стало понятным. Так что золотой век если и не наступил, то уже, по крайней мере, мерещился где-то не в самом далеке. В общем, много уже было сделано полезного, и даже такое многотрудное дело, как нахождение взаимоприемлемого компромисса между цивилизацией и природой, начинало казаться в конечном итоге осуществимым – но не сразу, не сразу конечно.
«Оттого-то и бывало так приятно, – думала Ева, яростно растирая ступни и лодыжки, совсем уже потерявшие было чувствительность, – приходить сюда вечерами по изящному мосту, прекрасно вписанному в пейзаж, и смотреть – не с этого дикого пригорка, но с другого холма, повыше, куда и лестницы удобные вели, и вершина была выровнена и забетонирована, имелось, на чем посидеть, и напитки, и легкие закуски продавались в изобилии».
Но и отсюда, где сейчас переводили дыхание трое мокрых и далеких от спокойствия людей, приятно было любоваться сияющим хрустальным монолитом, привычно узнавая и административный этаж, и ярусы ресторана и увеселительных заведений, а выше – технические службы, а еще выше – этажи математиков, теорфизиков, экономистов, правоведов, философов, теологов, наконец. Клиника, как и полагается, находилась не в Кристалле, а в собственном здании, на отшибе, как и многие другие институты; однако лабораторию ОДА разместили, когда стало необходимым ее создать, именно в монолите, потеснив историков и филологов, специалистов по мертвым языкам: жизнь предстоящая как бы вытесняла память о былом, но это лишь казалось, потому что чистый воздух, которого требовали пациенты лаборатории, был намного древнее и мертвых языков, и старейших мифов – не говоря уже о каких угодно письменных свидетельствах. Такое решение было понятным: клиника, с ее постоянной угрозой переноса инфекций, для младенцев никак не подходила, а свой собственный корпус, не с десятком термобоксов, а с сотнями, должны были заложить лишь в конце года, чтобы открыть его весной.
Да, и Кристаллом можно было любоваться, и многими другими сооружениями, среди которых даже самые прозаические по назначению выглядели маленькими шедеврами архитектуры и инженерии, – да такими, собственно, и были, хотя поражали не столько красотой своей, сколько неожиданностью. Жизнь цвела и двигалась и во всех этих строениях, и в переходах, воздушных и подземных, и на автомобильных аллеях и стоянках, и на вертолетной площадке на самом верху Кристалла – одним словом, везде. Кроме разве парка: так называлось пространство вокруг небольшого пруда (официально его предпочитали называть озером), упорно зараставшего всякой дрянью, – эта часть территории была засажена деревьями, еще не так давно совершенно здоровыми, а теперь несколько привядшими, как и везде. Газоны разграфлены аллеями: предполагалось, что там будут в свободные часы прогуливаться корифеи наук, а поучающиеся станут с жадностью подхватывать их глубокие мысли и безумные идеи. Ученые, однако, эту рощу невзлюбили, потому что от пруда несло откровенной тухлятиной научно-технического происхождения – зато ночами там собиралось множество кошек.
Да, все это было видно отсюда, как и некоторые из множества тяготевших к реке от химических, биологических и всяких других заведений трубопроводов, снабженных, разумеется, очистными устройствами. Дорогие и убедительные, они, видимо, все же не до конца оправдывали надежды, отчего прекрасно вымощенная плиткой и ярко освещенная набережная, как и парк, почти совершенно пустовала. Окрестное население, – такое было, – уже не раз и не два выражало неудовольствие самим существованием Центра, от которого якобы передохла рыба, и хорошо еще, если только рыбой дело ограничится. Жители даже, наняв адвоката, составили однажды петицию, в которой требовали перенести науку куда-нибудь, хоть в центр Антарктиды, а их, туземцев, оставить в покое в презренном невежестве. До суда, однако, не дошло, потому что истцам резонно ответили: во-первых, что если не Центр, то тут воздвигли бы что-нибудь еще погромче, погрязнее, подымнее и поядовитее; прогресс нельзя остановить, и всякое место, на котором можно что-то построить, никак не имеет права оставаться в первозданной запущенности; и во-вторых, в Европе полно продовольствия, куда же фермеры станут девать продукты своего труда, если Центр вдруг исчезнет с лица земли? Даже и русский рынок ведь не бесконечен. Обитатели окрестных ферм и деревень смирились, по крайней мере внешне, а к тем, кто все еще ворчал, – привыкли. Как-никак, Центр платил хорошо и хорошими деньгами, настоящими. Так что и днем, и ночью научно-технический прогресс являл здесь миру свой лик – несколько надменный и самоуверенный, но исполненный выражением заботы о всяческом расширении Знания – на благо людей, разумеется, кого же еще.
И сейчас, ночью, взгляду с пригорка, поросшего травой, что начинала сохнуть, едва успев проклюнуться, и болезненным, тоже как бы расхотевшим расти кустарником, лик этот казался настолько внушительным, успокаивающим, обнадеживающим, а элегантные линии строений – такими неизменно-вечными, что уже не верилось, что вот еще только минуты тому назад людям приходилось спасаться в узких пещерных ходах и убивать других, чтобы не быть убитыми этими другими – по причинам, пока еще совершенно непостижимым. Успокоение внушало и несильное зарево, поднимающееся далеко отсюда, за лесом, над небольшой и очень надежной АЭС, делавшей и Центр, и поселок ученых совершенно независимым от всей остальной Намурии. Когда ставили Центр, энергии в стране не хватало, большая гидростанция только еще строилась, и Центру удалось получить разрешение намурийского правительства, что обошлось, правда, недешево. Теперь ГЭС уже давала ток, обширное водохранилище заполнилось до проектной отметки, затопив, правда, с десяток селений – естественно, без человеческих жертв, остальное же, с точки зрения прогресса, сожаления не заслуживало. Когда гидростанцию пустили, возникли разговоры о переводе Центра на общее энергоснабжение и о закрытии АЭС Центра; однако переговоры обещали затянуться надолго, как это обычно и бывает.
Да, красиво все это было и внушительно. Но стреляли-то почему и зачем?
– Так что же все-таки там у вас стряслось? – поинтересовался Милов.
Уже почти совсем оправившись после неожиданных приключений, волнений, страха и вынужденного купания, они все еще сидели, чувствуя себя в относительной безопасности и как бы оттягивая мгновение, когда придется встать и, очень возможно, снова подвергнуть себя каким-то угрозам. Было тихо, только Граве временами громко и каждый раз неожиданно икал – верно, никак еще не мог согреться.
– Да перестаньте, – сказала Ева, – уймите свои страхи и не нарушайте торжественной тишины.
– Я не боюсь, – возразил Граве, – просто я так реагирую на охлаждение. Вы спрашиваете, что стряслось, господин Милф? Нечто такое, что не укладывается в моем сознании. Нечто небывалое, скажу я вам. Вот именно. Поселок жил своей нормальной вечерней жизнью, поселок, в котором живут ученые и кое-кто из служб Центра. Ну, вы представляете, как в таких поселках проходят вечера…
«Черта с два я представляю, – подумал Милов. – Никогда не жил в таких поселках, да и с учеными что у меня общего? С этими – одно, пожалуй: я тоже представляю здесь ООН – только в другой области деятельности. У каждого свои проблемы…»
– Ну, разумеется, могу себе представить, – ответил он вслух.
– И вот в этот спокойный, совершенно благопристойный, могу вас заверить, поселок внезапно врываются какие-то… Не знаю даже, как их назвать…
– Психи, – сказала Ева.
– Во всяком случае, какие-то совершенно неприличные люди, хулиганье. Вооруженные пистолетами, охотничьими ружьями, не знаю, чем… Врываются в коттеджи. И начинают, вы не поверите, избивать людей, крушить все вокруг себя – мебель, посуду, лампы, книги, бить окна… Я как раз занимался терминалом в доме профессора Ляйхта – они разбили весь компьютер, это акт вандализма, нет другого слова… Меня сильно ударили в спину, я вынужден был покинуть дом. Я хотел сесть в машину и уехать, но на стоянке было множество таких же головорезов – боюсь, что машина может пострадать… Тогда я побежал ко входу в пещеры. В этом направлении бежали и другие, за нами гнались, но мне удалось ускользнуть – мне и вот доктору Рикс… Это было ужасно, ужасно – они избивали людей, стреляли – я надеюсь, что в воздух, но выстрелы раздавались совершенно отчетливо…
– Интересно, – пробормотал Милов. – Откуда же они взялись?
– О, на этот вопрос я, к сожалению, могу ответить совершенно точно: это были местные жители, фермеры, сельскохозяйственные рабочие… Да, как ни постыдно, это были намуры. А ведь мы испокон веку отличались спокойным, уравновешенным характером. Если бы это совершили фромы, я, откровенно говоря, не очень удивился бы; поверьте, мне чужда всякая национальная ограниченность, я ни в коем случае не расист, но фромы есть фромы, это вам скажет кто угодно… Но это были намуры, господин Милф…
– Так что судьба остальных жителей вам неизвестна?
Ответила Ева:
– Люди бежали, как я заметила, главным образом к Центру; а куда еще можно было деваться? Надеюсь, им удалось добежать. В пещере, кроме нас двоих, никого, кажется, не оказалось, и туда за нами никто не погнался.
– Поселок далеко от Центра?
Ева встала, вытянула руку:
– Примерно там… Обычно его легко опознать: над ним тоже как бы световой купол, особенно когда в небе облака. А сейчас совершенно темно…
Граве снова икнул. Ева подошла к нему, села рядом, обняла, сказала:
– Грейтесь, а то мне даже жарко стало от таких воспоминаний. А вообще, когда вы в последний раз были у психоаналитика? – Граве не ответил. Налетел ветер, принес удушливо-тошнотворный запах. Ева фыркнула, Граве закашлялся, потом пробормотал:
– Это снова органики что-то такое выплеснули.
– Какая разница? – отозвалась Ева.
– Да нет, я просто так.
Милов краем уха слушал их разговор, думал же о другом. Нет, это все к нему отношения не имело. «У меня другая задача, – думал он. – Главное – оказаться в нужное время в нужном месте, не то груз опять уйдет – и канет неизвестно куда, как и в прошлый раз. Нет, чую, цепочка не зря ведет через этот самый Центр. Но если там сейчас беспорядки… Ну, все равно, его-то я разыщу…»
– Простите? – спохватился он, поняв, что обращаются к нему.
– Я говорю: скорее всего, это месть фермеров. Центру не следовало отказываться от закупок. Это было так неожиданно и для фермеров столь болезненно… Нет, я не оправдываю их, не поймите превратно, но ведь они на это рассчитывали, и вдруг…
– Вовсе не вдруг, – не согласилась Ева. – Мы их уже не раз предупреждали: содержание нитратов в овощах выше всяких допустимых пределов. У Центра достаточно денег, чтобы получать за них доброкачественную пищу.
– Простите меня, доктор, но это эгоизм, – сказал Граве обиженно. – Конечно, вы иностранка, но мне, намуру, не все равно, как будут жить наши фермеры. Поверьте, им не так-то легко, и в какой-то степени их можно – нет, не оправдать, разумеется, но во всяком случае понять логику их мышления…
– Понятно, – сказал Милов, хотя рассуждения Граве его совсем не убедили. Впрочем, чего не случается на свете… – Значит, поселок они разгромили? – Он встал, с удовольствием потянулся. – Ну, кажется, мы достаточно отдохнули… Глядите-ка, а ведь там уже не так темно, как было только что!
И в самом деле, облака над местом, где находился поселок, словно бы посветлели.
– Ну, слава Богу, – сказала Ева. – Значит, все кончилось, люди вернулись. Может быть, и мне?.. – подумала она вслух. Милов смотрел на облака, они становились все ярче.