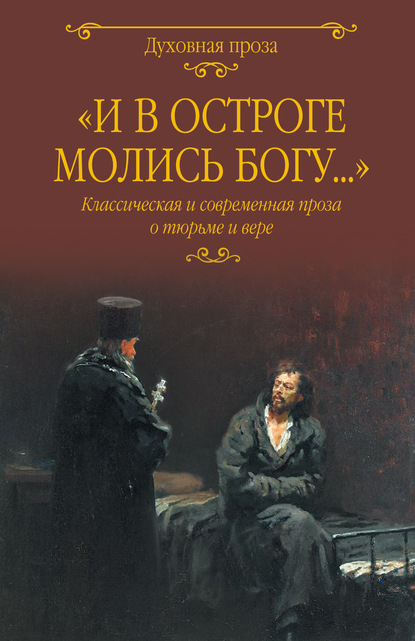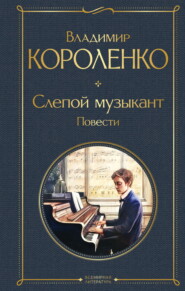По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«И в остроге молись Богу…» Классическая и современная проза о тюрьме и вере
Жанр
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Э! все ты не то говоришь… Молчи, Климов! Ямщик, поезжай.
Ямщик подобрал вожжи и привстал. Тройка понеслась под гору и потом лихо взяла кверху. Через несколько минут, замедлив ход, она врезалась в середину расступавшейся партии. Теперь конвойные шли по сторонам, с ружьями на плечах. Смешанный говор и шум охватил едущих со всех сторон. Из-за шороха колес слышался плач детей, топот толпы, переливчатый звон кандалов. Арестанты снимали шапки и низко кланялись. Каторжане с достоинством и не торопясь обнажали наполовину бритые головы…
В одном месте мелькнула фигура не совсем обычная: молодой человек в вольной одежде и в очках шел стороной дороги рядом с высоким арестантом и о чем-то разговаривал с своим спутником. Полковник нахмурился; когда повозка поравнялась с этой парой, молодой человек снял запыленные очки, протер их платком и с любопытством взглянул на проезжающих, но не поклонился. Другой арестант поклонился вежливо, но тоже без особенной почтительности… Повозка проехала дальше.
В голове партии, в стороне, ожидал, стоя навытяжку, старший конвойный. Полковник остановил ямщика и подозвал его жестом.
– Все благополучно? – спросил он.
– Так точно, ваше-дие.
– Почему запоздали? Смотри: до заката не попадете на этап…
– При выходе из N., ваше-скородие, случилось неблагополучие.
– Что такое?
– Скоропостижно скончался старик арестант…
– А!.. Да-да… За старосту у вас Фролов?
– Так точно, ваше-скородие… Бесприютный.
– А где он, кстати?.. Покажи мне…
Старшой пригляделся и сказал:
– Вон он – с политическим идет… Прикажете позвать?
– Не надо… Пошел!
Тройка подхватила и понеслась по свободной дороге… А партия ползла дальше.
Глава II
В самом конце партии тащилась, шурша колесами, телега. На других телегах ехали «привилегированные» арестанты, женщины с грудными детьми и старики. Порой на них присаживались конвойные. На этой виднелся только мужик, правивший лошадью, и старый седой арестант. Он сидел на краю, спустив ноги и повесив обритую голову с белой бородой. За ним виднелось что-то длинное, покрытое серыми халатами.
Казалось, присутствие этой последней телеги бросает тень на всю партию…
Невдалеке за нею шел Фролов с «политическим»…
«Политического» звали Залесским. Это был молодой блондин с закинутыми назад волосами и серьезным, немного наивным лицом человека, привыкшего к кабинетной работе, над книгами. Каким-то внезапным порывом политического ветра его подхватило из привычной обстановки и кинуло на эту дорогу с тюрьмами и этапами. И от нечего делать он присматривался к этому новому и удивительному для него миру. Арестантская среда в свою очередь присматривалась с неменьшим удивлением к странному «барину», глядевшему на нее через очки наивно изучающим взглядом. Он был «привилегированный», и ему полагалось место в телеге. Но от самого Томска он ни разу не садился в нее, предоставив партии распоряжаться своим местом, как угодно. Теперь его небольшой чемоданчик лежал рядом с мертвым телом.
Имя Фролова, шедшего рядом с Залесским, было действительно широко известно по всему Сибирскому тракту от Благовещенска до Перми. К партии он был присоединен в Томске, и тотчас же его выбрали старостой. Он принял этот выбор спокойно, как должное, и тотчас же Залесский почувствовал, что это большая сила. Партия сразу подтянулась. Распоряжение этапом фактически перешло к Фролову. Он вел партию «на слово», и конвойные знали, что на слово теперешнего старосты можно положиться: ни побегов, ни экстренных происшествий не будет. Конвойные шли вольно и даже спали в телегах…
Всякая профессия имеет своих выдающихся людей. Фролов был таким выдающимся человеком бродяжьей профессии. Еще ребенком он последовал за отцом, которого сослали в Сибирь. Мать его умерла в пути, и мальчик рос в тюремной среде. В тюремной церкви он слышал кое-что о Боге… кое-что торопливое, казенное и небрежное. В тюрьмах выучился грамоте. Впоследствии из него выработался настоящий герой сибирской дороги. Об его побегах ходило много рассказов, слагались даже песни. Никто не знал за ним убийств, но он обладал большой хитростью и изобретательностью. Однажды на глазах Залесского он закатил глаза так, что видны были одни белки, и физиономия его, даже вся фигура сразу изменилась до неузнаваемости. Он протянул вперед руку, как будто держась за поводыря, и стал поразительно похож на старика слепого, бредущего за милостыней. Через минуту лицо его опять изменилось. Прежний Фролов смотрел на Залесского пытливо и печально, как будто стараясь узнать, какое впечатление произвела на «барина» эта метаморфоза. «Он мог бы быть замечательным трагическим актером», – подумал про себя Залесский… Во время дневных переходов, вечерами на этапах они часто говорили друг с другом. Их влекло друг к другу какое-то взаимное чувство. Фролов знал сибирскую дорогу и тюрьмы так, как их не знал никто. Арестантская одежда, в которой другие выглядели чуждо и странно, сидела на нем, точно он в ней родился. Это был его мир, и в нем он чувствовал себя хозяином. Широкий Сибирский тракт, обставленный столбами, глухая таежная тропа с чуть заметными признаками прохода людей, этапы, тюрьмы, солдаты, начальство, смотрители, надзиратели, арестантская среда с ее волнениями и страстями – все это было ему знакомо во всех самых глубоких подробностях… Когда он подходил к околице сибирской деревни, старик «поскотник», присмотревшись к нему, узнавал его так же легко, как тюремный служака на любом этапе.
– Опять убег? Отколе Бог несет? – спрашивал мужик, сторонясь и давая место у огня с тем радушием, с каким товарищи арестанты очищали место на нарах… И Фролов занимал это место в своем мире уверенно и просто, зная, где нужно быть настороже и где можно спать спокойно даже под звон колокольцев проезжающего трактом начальства…
Но зато это был совершенный ребенок по отношению ко всему остальному Божьему миру, который казался ему сказочным и странным. В Залесском он видел представителя этого другого, странного мира, лежащего за гранью его горизонта, к которому, однако, его влекло всю жизнь. Вернуться в Расею, на родину, которую он не знал, и зажить там какою-то новою жизнью – было его мечтой. Залесский, в свою очередь, был совершенным младенцем в той среде, куда его теперь занесла судьба. Отсюда странный взаимный интерес, который привлекал их друг к другу…
Разговоры их были как будто несистематичны и случайны. Однажды на остановке в пересыльной тюрьме, когда арестанты толковали о выборе нового старосты, Залесский вмешался в общий разговор. Он заговорил, просто и наивно, о том, что ему казалось несправедливым в арестантских обычаях, в законодательстве этого странного общества, где достоинство и значение людей определяется важностью совершенных ими преступлений и отчаянной решимостью на новые преступления. Всем руководили «каторжники» – аристократия тюрьмы. «Шпанка», забитая и загнанная, подчинялась безропотно и робко, женщины продавались «на майдане», из полы в полу; воровство общественных денег и хищения старост и артельщиков было как бы установленным институтом, освященным обычаем. Со всей искренностью наивного и прямого человека Залесский, просто задумчиво, старался выяснить свое мнение… Арестанты слушали с любопытством… Политическая ссылка еще была явлением новым, и ее представители внушали интерес и невольное почтение. Но затем «общество» перешло к обсуждению своих дел, как будто «барин» ничего не говорил. Залесский почувствовал в этом особого рода почтительное, но бесповоротное пренебрежение и более не пытался подымать общие вопросы.
Но Фролов именно с этих пор стал проявлять к нему влечение. Все, что говорил этот молодой человек в очках, Фролову казалось тоже ребячески наивным. Но он понимал как будто, что есть где-то такой мир, для которого все это не наивно и не глупо.
Фролов был не молод, хотя возраст его определить было бы трудно. Его движения были уверенны, неторопливы и ровны. Залесскому постоянно казалось, что когда-то они должны были быть порывисты и быстры. И теперь по временам глаза арестанта загорались, а плечи вздрагивали, заставляя ожидать резкого движения… Но случалось это редко – как будто было что-то в настроении этого человека, что постепенно умерило живость его порывов. Бывали минуты, когда его глаза уходили еще глубже и как будто задергивались. Тогда именно Залесскому казалось, что этот человек, знающий так хорошо все, чем живет серая масса, знает или предполагает еще и о жизни вообще что-то, неизвестное другим. Знает, но не хочет сказать.
Не этим ли, думал Залесский, объясняется то влияние, каким пользовался Фролов в своей среде. Было что-то придававшее особенное значение самым простым его словам. За прямым смыслом этих слов слышалось еще нечто недосказанное, что глядело на слушателя из глаз Фролова и прикасалось к душе при звуках его голоса, будя в ней какие-то смутные чувства и намекая на что-то, кроме вопросов обычного тюремного дня.
Глава III
Однажды Залесский перебирал в своем чемоданчике книги и письма. Староста принес чемодан и должен был отнести его обратно. С наивной бесцеремонностью простого человека он стал рассматривать книги, и его внимание привлекла одна. Заглавие ее было: «Вопросы жизни и духа» (Льюиса).
Бродяга заинтересовался и прочитал вполголоса:
– Наш век страстно ищет веры.
Залесский поднял на него глаза. Фролов прочитал про себя еще несколько фраз и сказал задумчиво:
– Этто гнали лонись[4 - Лонись (устар.) – в прошлом году.] штундистов из Екатеринославской губернии. За веру… Капитан с ними был, а прочие мужики… Книжка у него, Евангелие. Отнять хотели. Ну, прошение написал. Дозволили. Придут на этап, сядут в уголок… Он читает, те слушают.
И он положил книгу. Затем взгляд его остановился на фотографии, выпавшей из письма.
– Это кто? – спросил он, поворачивая карточку оборотной стороной, на которой была надпись. Залесский взял у него карточку и сказал:
– Не надо читать. Это написано только для меня…
– Начальство, небось, читало, – ответил Фролов.
– Вы ведь не тюремщик, – ответил Залесский. – Если хотите, посмотрите карточку, но не читайте. Это моя сестра с семьей.
– Ну не сердись, барин… Мне что!.. Сестра так сестра. У меня тоже сестра… была.
– А теперь?
– Кто ее знает… Может – жива, может – нет. Я ее не видал… Сказывают: хорошо живет… в Расее…
Затем, когда Залесский стал опять закрывать чемодан, Фролов вдруг сказал:
– А книжечки этой… можно мне почитать?
В уме молодого человека быстро промелькнула общая физиономия труда Льюиса. Он примерил его к умственному уровню бродяги, и ему хотелось отказать. Но затем он сказал:
– Возьмите… Только будет ли понятно?
И ему почему-то стало совестно. Ночью он видел, что бродяга за сальным огарком читал Льюиса. Брови его были сдвинуты… На лице отражалась упрямая и трудная работа мысли…
Залесский не спрашивал, понимает ли он книгу и как именно понимает… Фролов стал в дороге часто заговаривать с ним, но тоже не упоминал о книге… Разговоры эти носили странный характер. Они были как будто бессвязны, но Залесскому казалось, что их направляет какая-то одна постоянная мысль, стоявшая в голове бродяги. Его рассказы порой были так выразительны и красивы, что Залесский думал про себя: «Из него мог бы выработаться замечательный рассказчик…»
Ямщик подобрал вожжи и привстал. Тройка понеслась под гору и потом лихо взяла кверху. Через несколько минут, замедлив ход, она врезалась в середину расступавшейся партии. Теперь конвойные шли по сторонам, с ружьями на плечах. Смешанный говор и шум охватил едущих со всех сторон. Из-за шороха колес слышался плач детей, топот толпы, переливчатый звон кандалов. Арестанты снимали шапки и низко кланялись. Каторжане с достоинством и не торопясь обнажали наполовину бритые головы…
В одном месте мелькнула фигура не совсем обычная: молодой человек в вольной одежде и в очках шел стороной дороги рядом с высоким арестантом и о чем-то разговаривал с своим спутником. Полковник нахмурился; когда повозка поравнялась с этой парой, молодой человек снял запыленные очки, протер их платком и с любопытством взглянул на проезжающих, но не поклонился. Другой арестант поклонился вежливо, но тоже без особенной почтительности… Повозка проехала дальше.
В голове партии, в стороне, ожидал, стоя навытяжку, старший конвойный. Полковник остановил ямщика и подозвал его жестом.
– Все благополучно? – спросил он.
– Так точно, ваше-дие.
– Почему запоздали? Смотри: до заката не попадете на этап…
– При выходе из N., ваше-скородие, случилось неблагополучие.
– Что такое?
– Скоропостижно скончался старик арестант…
– А!.. Да-да… За старосту у вас Фролов?
– Так точно, ваше-скородие… Бесприютный.
– А где он, кстати?.. Покажи мне…
Старшой пригляделся и сказал:
– Вон он – с политическим идет… Прикажете позвать?
– Не надо… Пошел!
Тройка подхватила и понеслась по свободной дороге… А партия ползла дальше.
Глава II
В самом конце партии тащилась, шурша колесами, телега. На других телегах ехали «привилегированные» арестанты, женщины с грудными детьми и старики. Порой на них присаживались конвойные. На этой виднелся только мужик, правивший лошадью, и старый седой арестант. Он сидел на краю, спустив ноги и повесив обритую голову с белой бородой. За ним виднелось что-то длинное, покрытое серыми халатами.
Казалось, присутствие этой последней телеги бросает тень на всю партию…
Невдалеке за нею шел Фролов с «политическим»…
«Политического» звали Залесским. Это был молодой блондин с закинутыми назад волосами и серьезным, немного наивным лицом человека, привыкшего к кабинетной работе, над книгами. Каким-то внезапным порывом политического ветра его подхватило из привычной обстановки и кинуло на эту дорогу с тюрьмами и этапами. И от нечего делать он присматривался к этому новому и удивительному для него миру. Арестантская среда в свою очередь присматривалась с неменьшим удивлением к странному «барину», глядевшему на нее через очки наивно изучающим взглядом. Он был «привилегированный», и ему полагалось место в телеге. Но от самого Томска он ни разу не садился в нее, предоставив партии распоряжаться своим местом, как угодно. Теперь его небольшой чемоданчик лежал рядом с мертвым телом.
Имя Фролова, шедшего рядом с Залесским, было действительно широко известно по всему Сибирскому тракту от Благовещенска до Перми. К партии он был присоединен в Томске, и тотчас же его выбрали старостой. Он принял этот выбор спокойно, как должное, и тотчас же Залесский почувствовал, что это большая сила. Партия сразу подтянулась. Распоряжение этапом фактически перешло к Фролову. Он вел партию «на слово», и конвойные знали, что на слово теперешнего старосты можно положиться: ни побегов, ни экстренных происшествий не будет. Конвойные шли вольно и даже спали в телегах…
Всякая профессия имеет своих выдающихся людей. Фролов был таким выдающимся человеком бродяжьей профессии. Еще ребенком он последовал за отцом, которого сослали в Сибирь. Мать его умерла в пути, и мальчик рос в тюремной среде. В тюремной церкви он слышал кое-что о Боге… кое-что торопливое, казенное и небрежное. В тюрьмах выучился грамоте. Впоследствии из него выработался настоящий герой сибирской дороги. Об его побегах ходило много рассказов, слагались даже песни. Никто не знал за ним убийств, но он обладал большой хитростью и изобретательностью. Однажды на глазах Залесского он закатил глаза так, что видны были одни белки, и физиономия его, даже вся фигура сразу изменилась до неузнаваемости. Он протянул вперед руку, как будто держась за поводыря, и стал поразительно похож на старика слепого, бредущего за милостыней. Через минуту лицо его опять изменилось. Прежний Фролов смотрел на Залесского пытливо и печально, как будто стараясь узнать, какое впечатление произвела на «барина» эта метаморфоза. «Он мог бы быть замечательным трагическим актером», – подумал про себя Залесский… Во время дневных переходов, вечерами на этапах они часто говорили друг с другом. Их влекло друг к другу какое-то взаимное чувство. Фролов знал сибирскую дорогу и тюрьмы так, как их не знал никто. Арестантская одежда, в которой другие выглядели чуждо и странно, сидела на нем, точно он в ней родился. Это был его мир, и в нем он чувствовал себя хозяином. Широкий Сибирский тракт, обставленный столбами, глухая таежная тропа с чуть заметными признаками прохода людей, этапы, тюрьмы, солдаты, начальство, смотрители, надзиратели, арестантская среда с ее волнениями и страстями – все это было ему знакомо во всех самых глубоких подробностях… Когда он подходил к околице сибирской деревни, старик «поскотник», присмотревшись к нему, узнавал его так же легко, как тюремный служака на любом этапе.
– Опять убег? Отколе Бог несет? – спрашивал мужик, сторонясь и давая место у огня с тем радушием, с каким товарищи арестанты очищали место на нарах… И Фролов занимал это место в своем мире уверенно и просто, зная, где нужно быть настороже и где можно спать спокойно даже под звон колокольцев проезжающего трактом начальства…
Но зато это был совершенный ребенок по отношению ко всему остальному Божьему миру, который казался ему сказочным и странным. В Залесском он видел представителя этого другого, странного мира, лежащего за гранью его горизонта, к которому, однако, его влекло всю жизнь. Вернуться в Расею, на родину, которую он не знал, и зажить там какою-то новою жизнью – было его мечтой. Залесский, в свою очередь, был совершенным младенцем в той среде, куда его теперь занесла судьба. Отсюда странный взаимный интерес, который привлекал их друг к другу…
Разговоры их были как будто несистематичны и случайны. Однажды на остановке в пересыльной тюрьме, когда арестанты толковали о выборе нового старосты, Залесский вмешался в общий разговор. Он заговорил, просто и наивно, о том, что ему казалось несправедливым в арестантских обычаях, в законодательстве этого странного общества, где достоинство и значение людей определяется важностью совершенных ими преступлений и отчаянной решимостью на новые преступления. Всем руководили «каторжники» – аристократия тюрьмы. «Шпанка», забитая и загнанная, подчинялась безропотно и робко, женщины продавались «на майдане», из полы в полу; воровство общественных денег и хищения старост и артельщиков было как бы установленным институтом, освященным обычаем. Со всей искренностью наивного и прямого человека Залесский, просто задумчиво, старался выяснить свое мнение… Арестанты слушали с любопытством… Политическая ссылка еще была явлением новым, и ее представители внушали интерес и невольное почтение. Но затем «общество» перешло к обсуждению своих дел, как будто «барин» ничего не говорил. Залесский почувствовал в этом особого рода почтительное, но бесповоротное пренебрежение и более не пытался подымать общие вопросы.
Но Фролов именно с этих пор стал проявлять к нему влечение. Все, что говорил этот молодой человек в очках, Фролову казалось тоже ребячески наивным. Но он понимал как будто, что есть где-то такой мир, для которого все это не наивно и не глупо.
Фролов был не молод, хотя возраст его определить было бы трудно. Его движения были уверенны, неторопливы и ровны. Залесскому постоянно казалось, что когда-то они должны были быть порывисты и быстры. И теперь по временам глаза арестанта загорались, а плечи вздрагивали, заставляя ожидать резкого движения… Но случалось это редко – как будто было что-то в настроении этого человека, что постепенно умерило живость его порывов. Бывали минуты, когда его глаза уходили еще глубже и как будто задергивались. Тогда именно Залесскому казалось, что этот человек, знающий так хорошо все, чем живет серая масса, знает или предполагает еще и о жизни вообще что-то, неизвестное другим. Знает, но не хочет сказать.
Не этим ли, думал Залесский, объясняется то влияние, каким пользовался Фролов в своей среде. Было что-то придававшее особенное значение самым простым его словам. За прямым смыслом этих слов слышалось еще нечто недосказанное, что глядело на слушателя из глаз Фролова и прикасалось к душе при звуках его голоса, будя в ней какие-то смутные чувства и намекая на что-то, кроме вопросов обычного тюремного дня.
Глава III
Однажды Залесский перебирал в своем чемоданчике книги и письма. Староста принес чемодан и должен был отнести его обратно. С наивной бесцеремонностью простого человека он стал рассматривать книги, и его внимание привлекла одна. Заглавие ее было: «Вопросы жизни и духа» (Льюиса).
Бродяга заинтересовался и прочитал вполголоса:
– Наш век страстно ищет веры.
Залесский поднял на него глаза. Фролов прочитал про себя еще несколько фраз и сказал задумчиво:
– Этто гнали лонись[4 - Лонись (устар.) – в прошлом году.] штундистов из Екатеринославской губернии. За веру… Капитан с ними был, а прочие мужики… Книжка у него, Евангелие. Отнять хотели. Ну, прошение написал. Дозволили. Придут на этап, сядут в уголок… Он читает, те слушают.
И он положил книгу. Затем взгляд его остановился на фотографии, выпавшей из письма.
– Это кто? – спросил он, поворачивая карточку оборотной стороной, на которой была надпись. Залесский взял у него карточку и сказал:
– Не надо читать. Это написано только для меня…
– Начальство, небось, читало, – ответил Фролов.
– Вы ведь не тюремщик, – ответил Залесский. – Если хотите, посмотрите карточку, но не читайте. Это моя сестра с семьей.
– Ну не сердись, барин… Мне что!.. Сестра так сестра. У меня тоже сестра… была.
– А теперь?
– Кто ее знает… Может – жива, может – нет. Я ее не видал… Сказывают: хорошо живет… в Расее…
Затем, когда Залесский стал опять закрывать чемодан, Фролов вдруг сказал:
– А книжечки этой… можно мне почитать?
В уме молодого человека быстро промелькнула общая физиономия труда Льюиса. Он примерил его к умственному уровню бродяги, и ему хотелось отказать. Но затем он сказал:
– Возьмите… Только будет ли понятно?
И ему почему-то стало совестно. Ночью он видел, что бродяга за сальным огарком читал Льюиса. Брови его были сдвинуты… На лице отражалась упрямая и трудная работа мысли…
Залесский не спрашивал, понимает ли он книгу и как именно понимает… Фролов стал в дороге часто заговаривать с ним, но тоже не упоминал о книге… Разговоры эти носили странный характер. Они были как будто бессвязны, но Залесскому казалось, что их направляет какая-то одна постоянная мысль, стоявшая в голове бродяги. Его рассказы порой были так выразительны и красивы, что Залесский думал про себя: «Из него мог бы выработаться замечательный рассказчик…»