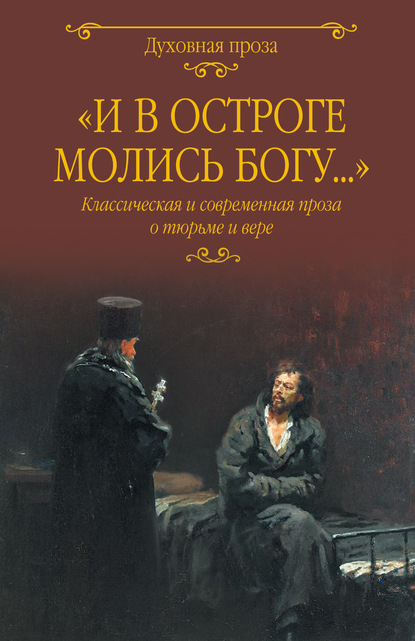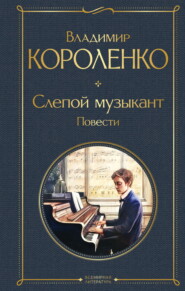По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«И в остроге молись Богу…» Классическая и современная проза о тюрьме и вере
Жанр
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Иванов!.. Слушай, Иванов! – окликнул смотритель больного.
Арестант не повернул головы; он бормотал что-то невнятное; голос был хриплый; воспаленные губы шевелились с усилием.
– Завтра в больницу! – распорядился смотритель и вышел, оставив у дверей камеры одного из коридорных. Тот внимательно посмотрел на лежавшего в горячке и покачал головой.
– Эх, бродяга, бродяга! Видно, братец, отбегал свое! – И, решив, что тут ему делать нечего, надзиратель прошел по коридору к церкви, остановился у запертой двери и стал слушать службу, то и дело припадая к земле для поклонов.
Пустая камера оглашалась по временам невнятным говором больного. Это был не старый еще человек, сильный и крепкий. Он бредил, переживая недавнее прошлое, и лицо его искажалось выражением муки.
Судьба сшутила над бродягой скверную шутку. Он прошел тысячу верст, пробираясь тайгой и дикими хребтами, вынес тысячи опасностей и лишений, гонимый жгучею тоской по родине, руководимый одною надеждой: «повидать бы… на месяц… на неделю… пожить у своих… а так – хоть опять та же дорожка!» За сотню верст от родимой деревни он попал в эту тюрьму…
Но вот невнятный говор притих. Глаза бродяги расширились, грудь дышит ровнее… Над горящею головой повеяло более отрадными мечтами…
…Шумит тайга… Ему знаком этот шум – ровный, певучий, свободный… Он научился различать голоса леса, говор каждого дерева. Величавые сосны звенят высоко, высоко, густою, темною зеленью… Ели шепчут протяжно и гулко; веселая, яркая листвень машет гибкою веткой; осина дрожит и трепещет чутким, боязливым листом… Свищет свободная птица, ручей говорливо и буйно летит по каменистым оврагам, и таежные сыщицы – стая болтливых сорок – носятся в воздухе над теми местами, где, невидимый в чаще, проходит тайгою бродяга[3 - Сибирские бродяги рассказывают, что в глухой тайге сороки стаями провожают пробирающегося в чаще человека. В те времена, когда охота на «горбачей» разрешалась законом, буряты-охотники выслеживали бродяг по громким крикам сорочьей стаи. (Примеч. авт.)].
Точно струя свободного таежного ветра опахнула больного. Он поднялся, глубоко вздохнул; глаза с выражением внимания глядят вперед, но вдруг в них блеснуло что-то вроде сознания… Бродяга, привычный беглец, увидал перед собою необычайное явление: открытую дверь…
Могучий инстинкт встряхнул весь организм, потрясенный болезнью. Признаки бреда быстро исчезали или группировались около одного представления, ярким лучом прорезавшегося в этом хаосе: один!.. дверь открыта!..
Через минуту он стоял на полу. Казалось, весь жар воспаленного мозга хлынул к глазам: они глядели как-то ровно, упорно и страшно.
Кто-то, выходя из церкви, отворил на мгновение дверь… Волны стройного, смягченного расстоянием пения коснулись уха бродяги и опять глухо смолкли. На бледном лице скользнуло умиление, глаза затуманились, и в уме пронеслась давно лелеянная мечтою картина: тихая ночь, шепот сосен, склонившихся темными ветвями над старою церковью родимой деревни… толпа земляков, огни над рекой и это самое пение… он торопился в пути, чтоб услышать все это там, у своих…
Между тем в коридоре, у церковных дверей, припадая к земле, надзиратель усердно молился…
* * *
Молодой рекрут ходит с ружьем вдоль стены. Перед часовым расстилается ровное, недавно обнажившееся из-под снега, далеко уходящее поле. Легкий ветер бежит по нему, шелестя засохшим бурьяном, звенит в прошлогодней траве и веет в душу солдата спокойною, грустною думой.
Молодой часовой остановился у стены, поставил ружье на землю и, положив руки на дуло, а голову на руки, глубоко задумался. Он не мог еще ясно представить себе, зачем он здесь, в эту торжественную ночь перед праздником, с ружьем у стены, в виду пустынного поля. Вообще, он был еще настоящий мужик, не понимал еще многого, что так понятно солдату, и его недаром дразнили «деревней». Он так недавно еще был свободен, был хозяин, владелец своего поля, своей работы…. а теперь страх, безотчетный, необъяснимый, неопределенный, преследовавший каждый шаг, каждое движение, вгонял молодую и угловатую деревенскую натуру в колею строгой службы.
Но в эту минуту он был один… Пустынный вид, расстилавшийся перед глазами, и свист ветра в бурьяне навевали на него какую-то дрему, и перед глазами молодого солдата несутся родные картины. Он тоже видит деревню, и тот же бежит над нею ветер, и церковь горит огнями, и темные сосны качают над церковью зелеными вершинами.
По временам он как будто очнется, и тогда в его серых глазах отражается недоумение: что это? – поле, ружье и стена… Он на минуту вспоминает действительность, но скоро опять смутный звон ночного ветра навевает родные картины, и солдат опять дремлет, опершись на ружье…
Невдалеке от места, где стоит часовой, на гребне стены появляется темный предмет: это голова человека… Бродяга глядит в дальнее поле, к чуть видной черте далекого леса… Его грудь расширяется, жадно ловя свежее, свободное дуновение матери-ночи. Он спускается на руках и тихо скользит вниз вдоль стены…
* * *
Радостный гул колоколов будит ночную тишь. Дверь тюремной церкви раскрылась, во дворе крестный ход; стройное пение хлынуло волной из церкви. Солдат вздрогнул, выпрямился, снял шапку, чтобы перекреститься, и… замер с поднятою для молитвы рукой… Бродяга, достигнув земли, быстро пустился к бурьяну.
– Стой, стой!.. Голубчик, родимый!.. – вскрикивает часовой, в ужасе подымая ружье. Все, чего он боялся, перед чем трепетал, надвигается на него, бесформенное, страшное – в виду этой бегущей серой фигуры. «Служба, ответ!» – мелькает в уме солдата, и он, вскинув ружье, прицелился в бегущего человека. Перед тем как спустить курок, он с жалким видом зажмурил глаза…
А над городом вновь парит и кружится в эфире гармонический, певучий, переливчатый звон и… опять надтреснутый колокол тюрьмы трепещет и бьется, точно стон подстреленной птицы. Из-за стены стройно несутся далеко в поле первые звуки торжествующей песни: «Христос воскресе!»
И вдруг за стеной, покрывая все остальное, грянул выстрел… Слабый, беспомощный стон пронесся за ним беспредметною жалобой, и затем на мгновение все стихло…
Только дальнее эхо пустынного поля с печальным ропотом повторяло последние раскаты ружейного выстрела.
1885 г.
По пути
Глава I
Лихо взлетев на пригорок, тройка остановилась, ямщик сошел с козел и стал оправлять разладившуюся упряжь.
Седок, пробужденный внезапной остановкой, высунул голову из-под шинели, потом потянулся и сел в просторной повозке, стараясь не потревожить спавшего рядом мальчика.
– А? Что такое? – спросил он, зевая.
Денщик, который крутил, сидя на облучке, цигарку из толстой бумаги, ответил не торопясь:
– Ничаво, ничаво! Сечас поедем, ваше высокородие. Недалече!
Колокольчик под дугой коренника звякнул несколько раз, оставив в воздухе мягкий отголосок. Ветер шевелил гривы лошадей и шелестел в придорожных кустах. Седок, офицер лет около пятидесяти, снял мохнатую папаху и посмотрел на небо. Денщик скрутил цигарку, взял ее в зубы и, добывая из кармана спички, сказал:
– Партия, ваше высокородие.
Офицер встрепенулся, черты его румяного лица приняли определенное начальственное выражение, и он посмотрел вперед.
Дорога сбегала в долину и опять полого подымалась кверху длинным «тянигужом». На подъеме она, казалось, жила, шевелилась, кишела серыми движущимися точками. Кое-где можно было различить телеги, которые казались отсюда странными насекомыми… Вся масса тихо, почти незаметно на этом расстоянии, ползла кверху…
– Расползлись, канальи, точно овцы, – сказал офицер с неудовольствием. – И конвоя не видно…
– Вон они, забегали… – сказал денщик, закуривая и улыбаясь. – В телегах спали, видно…
– Ничего! – уверенно прибавил ямщик, взбираясь на козлы. – На слово партия идет… Фролов за старосту. Спи знай!
– Фролов… Какой Фролов? – спросил полковник. – Бродяга? По прозванию Бесприютный?
– Ну! Он самой… Фролов по всей Сибири человек известный. Можно сказать, знаменитый бродяга… Сказывают, – не знаю правда, не знаю нет, но будто в Питербурхе и то Бесприютного знают…
– Фролов… – сказал офицер задумчиво. Он вспомнил себя молодым урядником, вспомнил первую партию, которую конвоировал, и молодого бродягу и прибавил: – Да, вот она, жизнь…
– Так точно, – отозвался с козел денщик, пуская в воздух синюю струйку дыма.
Замечание офицеру не понравилось.
– Дурак ты, Климов, ей-богу! Ну что «так точно»?.. Я вообще говорю: жизнь!.. А ты: так точно!.. Глупо, братец.
– Да ведь и я, ваше высокородие, вопче… Самая это собачья жизнь, бродяжья.
– А, ты вот насчет чего! Привычка, говорят, вторая натура.
– А я что же говорю: натура волчья, в лес тянет.
Почему-то и это замечание не удовлетворило офицера…
Арестант не повернул головы; он бормотал что-то невнятное; голос был хриплый; воспаленные губы шевелились с усилием.
– Завтра в больницу! – распорядился смотритель и вышел, оставив у дверей камеры одного из коридорных. Тот внимательно посмотрел на лежавшего в горячке и покачал головой.
– Эх, бродяга, бродяга! Видно, братец, отбегал свое! – И, решив, что тут ему делать нечего, надзиратель прошел по коридору к церкви, остановился у запертой двери и стал слушать службу, то и дело припадая к земле для поклонов.
Пустая камера оглашалась по временам невнятным говором больного. Это был не старый еще человек, сильный и крепкий. Он бредил, переживая недавнее прошлое, и лицо его искажалось выражением муки.
Судьба сшутила над бродягой скверную шутку. Он прошел тысячу верст, пробираясь тайгой и дикими хребтами, вынес тысячи опасностей и лишений, гонимый жгучею тоской по родине, руководимый одною надеждой: «повидать бы… на месяц… на неделю… пожить у своих… а так – хоть опять та же дорожка!» За сотню верст от родимой деревни он попал в эту тюрьму…
Но вот невнятный говор притих. Глаза бродяги расширились, грудь дышит ровнее… Над горящею головой повеяло более отрадными мечтами…
…Шумит тайга… Ему знаком этот шум – ровный, певучий, свободный… Он научился различать голоса леса, говор каждого дерева. Величавые сосны звенят высоко, высоко, густою, темною зеленью… Ели шепчут протяжно и гулко; веселая, яркая листвень машет гибкою веткой; осина дрожит и трепещет чутким, боязливым листом… Свищет свободная птица, ручей говорливо и буйно летит по каменистым оврагам, и таежные сыщицы – стая болтливых сорок – носятся в воздухе над теми местами, где, невидимый в чаще, проходит тайгою бродяга[3 - Сибирские бродяги рассказывают, что в глухой тайге сороки стаями провожают пробирающегося в чаще человека. В те времена, когда охота на «горбачей» разрешалась законом, буряты-охотники выслеживали бродяг по громким крикам сорочьей стаи. (Примеч. авт.)].
Точно струя свободного таежного ветра опахнула больного. Он поднялся, глубоко вздохнул; глаза с выражением внимания глядят вперед, но вдруг в них блеснуло что-то вроде сознания… Бродяга, привычный беглец, увидал перед собою необычайное явление: открытую дверь…
Могучий инстинкт встряхнул весь организм, потрясенный болезнью. Признаки бреда быстро исчезали или группировались около одного представления, ярким лучом прорезавшегося в этом хаосе: один!.. дверь открыта!..
Через минуту он стоял на полу. Казалось, весь жар воспаленного мозга хлынул к глазам: они глядели как-то ровно, упорно и страшно.
Кто-то, выходя из церкви, отворил на мгновение дверь… Волны стройного, смягченного расстоянием пения коснулись уха бродяги и опять глухо смолкли. На бледном лице скользнуло умиление, глаза затуманились, и в уме пронеслась давно лелеянная мечтою картина: тихая ночь, шепот сосен, склонившихся темными ветвями над старою церковью родимой деревни… толпа земляков, огни над рекой и это самое пение… он торопился в пути, чтоб услышать все это там, у своих…
Между тем в коридоре, у церковных дверей, припадая к земле, надзиратель усердно молился…
* * *
Молодой рекрут ходит с ружьем вдоль стены. Перед часовым расстилается ровное, недавно обнажившееся из-под снега, далеко уходящее поле. Легкий ветер бежит по нему, шелестя засохшим бурьяном, звенит в прошлогодней траве и веет в душу солдата спокойною, грустною думой.
Молодой часовой остановился у стены, поставил ружье на землю и, положив руки на дуло, а голову на руки, глубоко задумался. Он не мог еще ясно представить себе, зачем он здесь, в эту торжественную ночь перед праздником, с ружьем у стены, в виду пустынного поля. Вообще, он был еще настоящий мужик, не понимал еще многого, что так понятно солдату, и его недаром дразнили «деревней». Он так недавно еще был свободен, был хозяин, владелец своего поля, своей работы…. а теперь страх, безотчетный, необъяснимый, неопределенный, преследовавший каждый шаг, каждое движение, вгонял молодую и угловатую деревенскую натуру в колею строгой службы.
Но в эту минуту он был один… Пустынный вид, расстилавшийся перед глазами, и свист ветра в бурьяне навевали на него какую-то дрему, и перед глазами молодого солдата несутся родные картины. Он тоже видит деревню, и тот же бежит над нею ветер, и церковь горит огнями, и темные сосны качают над церковью зелеными вершинами.
По временам он как будто очнется, и тогда в его серых глазах отражается недоумение: что это? – поле, ружье и стена… Он на минуту вспоминает действительность, но скоро опять смутный звон ночного ветра навевает родные картины, и солдат опять дремлет, опершись на ружье…
Невдалеке от места, где стоит часовой, на гребне стены появляется темный предмет: это голова человека… Бродяга глядит в дальнее поле, к чуть видной черте далекого леса… Его грудь расширяется, жадно ловя свежее, свободное дуновение матери-ночи. Он спускается на руках и тихо скользит вниз вдоль стены…
* * *
Радостный гул колоколов будит ночную тишь. Дверь тюремной церкви раскрылась, во дворе крестный ход; стройное пение хлынуло волной из церкви. Солдат вздрогнул, выпрямился, снял шапку, чтобы перекреститься, и… замер с поднятою для молитвы рукой… Бродяга, достигнув земли, быстро пустился к бурьяну.
– Стой, стой!.. Голубчик, родимый!.. – вскрикивает часовой, в ужасе подымая ружье. Все, чего он боялся, перед чем трепетал, надвигается на него, бесформенное, страшное – в виду этой бегущей серой фигуры. «Служба, ответ!» – мелькает в уме солдата, и он, вскинув ружье, прицелился в бегущего человека. Перед тем как спустить курок, он с жалким видом зажмурил глаза…
А над городом вновь парит и кружится в эфире гармонический, певучий, переливчатый звон и… опять надтреснутый колокол тюрьмы трепещет и бьется, точно стон подстреленной птицы. Из-за стены стройно несутся далеко в поле первые звуки торжествующей песни: «Христос воскресе!»
И вдруг за стеной, покрывая все остальное, грянул выстрел… Слабый, беспомощный стон пронесся за ним беспредметною жалобой, и затем на мгновение все стихло…
Только дальнее эхо пустынного поля с печальным ропотом повторяло последние раскаты ружейного выстрела.
1885 г.
По пути
Глава I
Лихо взлетев на пригорок, тройка остановилась, ямщик сошел с козел и стал оправлять разладившуюся упряжь.
Седок, пробужденный внезапной остановкой, высунул голову из-под шинели, потом потянулся и сел в просторной повозке, стараясь не потревожить спавшего рядом мальчика.
– А? Что такое? – спросил он, зевая.
Денщик, который крутил, сидя на облучке, цигарку из толстой бумаги, ответил не торопясь:
– Ничаво, ничаво! Сечас поедем, ваше высокородие. Недалече!
Колокольчик под дугой коренника звякнул несколько раз, оставив в воздухе мягкий отголосок. Ветер шевелил гривы лошадей и шелестел в придорожных кустах. Седок, офицер лет около пятидесяти, снял мохнатую папаху и посмотрел на небо. Денщик скрутил цигарку, взял ее в зубы и, добывая из кармана спички, сказал:
– Партия, ваше высокородие.
Офицер встрепенулся, черты его румяного лица приняли определенное начальственное выражение, и он посмотрел вперед.
Дорога сбегала в долину и опять полого подымалась кверху длинным «тянигужом». На подъеме она, казалось, жила, шевелилась, кишела серыми движущимися точками. Кое-где можно было различить телеги, которые казались отсюда странными насекомыми… Вся масса тихо, почти незаметно на этом расстоянии, ползла кверху…
– Расползлись, канальи, точно овцы, – сказал офицер с неудовольствием. – И конвоя не видно…
– Вон они, забегали… – сказал денщик, закуривая и улыбаясь. – В телегах спали, видно…
– Ничего! – уверенно прибавил ямщик, взбираясь на козлы. – На слово партия идет… Фролов за старосту. Спи знай!
– Фролов… Какой Фролов? – спросил полковник. – Бродяга? По прозванию Бесприютный?
– Ну! Он самой… Фролов по всей Сибири человек известный. Можно сказать, знаменитый бродяга… Сказывают, – не знаю правда, не знаю нет, но будто в Питербурхе и то Бесприютного знают…
– Фролов… – сказал офицер задумчиво. Он вспомнил себя молодым урядником, вспомнил первую партию, которую конвоировал, и молодого бродягу и прибавил: – Да, вот она, жизнь…
– Так точно, – отозвался с козел денщик, пуская в воздух синюю струйку дыма.
Замечание офицеру не понравилось.
– Дурак ты, Климов, ей-богу! Ну что «так точно»?.. Я вообще говорю: жизнь!.. А ты: так точно!.. Глупо, братец.
– Да ведь и я, ваше высокородие, вопче… Самая это собачья жизнь, бродяжья.
– А, ты вот насчет чего! Привычка, говорят, вторая натура.
– А я что же говорю: натура волчья, в лес тянет.
Почему-то и это замечание не удовлетворило офицера…