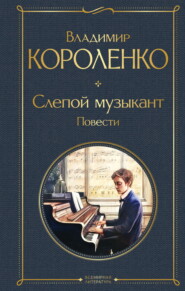По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Река играет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мир дорогой, – отвечает он. – А вы кто такеи? Что за человеки?
– Нижегородские.
– Дело. На горы наши пришли? Так вам бы прийти под Владимирскую владычицу. Вот тогда гоже у нас.
– Бывал и на Владимирскую… Что? Каково клюет?
– Плохо чтой-то. Вот дён десяток назад – успевай только закидывать. А ноне, вишь, и не дернет. Что есть – сарожник, и тот не хочет с червяком побаловаться…
Действительно, вода не шелохнет. Тонкие серебряные колечки охватили стебельки растений и держат их в блестящей неподвижной истоме. Поплавок трудно разыскать глазом среди редкого тонкого татарника…
– А рыбы здесь много?
– Вного[6 - Особенность местного говора: вного вместо много.]. Рыбно озеро-то наше. Окунь, лещ, щука, карась, елец, сарожник… Караси-то здоровущие живут. Жи-и-рные, как все одно свиньи.
Поплавок дрогнул. Из глубины по воде тихо пошли два-три круга. Старик потянул. Крючок задел за траву. Он вытащил, внимательно осмотрел и надел нового червяка.
– Зарастать стало. За грехи-те, – сказал он, поплевывая на наживку. – В старые-те годы не было этого. Хоть бы тебе травиночка! Как слеза было озеро… Главное дело – слабость. Вот! Купаться – это не возбраняют. А ведь у иного, милый, тело-то бывает нечистое. Бабы опять, девки… От женщинов-то еще более зарастает…
Он опять закинул удочку и обернулся ко мне с выражением гордости:
– А и теперь еще, слышь, – где ты эку воду-те найдешь? Погляди: земчуг! Иглу вот тут на дно урони, – видно!
Действительно – вода кристально прозрачна: на дне, пока оно не ушло вглубь, видно все до последней жилочки. Все оно усеяно «обломом»; веточки, ветви, кое-где целые стволы слежались плотно друг с другом и лежат отчетливые, точно живые. Нигде признаков ила, разложения, гнили.
– А на середке, – говорит рыбак с наивным удивлением, – черно, что ночью. И чудное дело, братец мой, что за озеро это у нас. Этто годов, может, с пять выезжали мы тут в ботничке, лот спущали. Саженях на двадцати стала гиря, нейдет. Я ее взял этак, отряхнул. Что ж ты думаешь: пошла опять, и пошла, и пошла. Веревка вся, а дна нет. Другую навязали. Семьдесят саженей, а дна все нету…
– А правду говорят: будто тут где-то есть течение?
– Кто знает. Весной этто в Люнду, правда, источина невеличка живет. А что сказывают, будто с Волгой имеет собчение, так нет. Не полагаю я этому быть. Потому, видишь ты: надо бы у нас тогда волжской рыбе водиться…
– А ты, милый, нашего летописця читал ли? – спросил он, помолчав.
– Читал.
– Наплачешься! Правду я говорю?..
– А сами вы, дедушка, звон слышали?
Он постоял молча, как бы в нерешимости. Потом заговорил серьезно и вдумчиво:
– А насчет звона я тебе вот бывальщину расскажу, а ты слушай. Я тогда еще мальчиком был малыем, по семнадцатому году. А теперь мне семой десяток на исходе. Много ли время?.. И работал я вон тут за горой кирпичи на нашего князя, на господина сибирского помещика, с матерью. Прихаживал тогда на озеро старичок Кирила Самойлов. Родом из села Ковернина. И был у него пчельничек свой, на пчельнике и жил; мед продавал и воск тоже. Угодный был старичок. И все хотел спастися, не хотел так, чтобы на пчельнике помирать. И стал к нам прихаживать «на горы». Укутает пчелок-то на зиму и придет. И залезет в гору. Даже так, что по неделям живал, спасался.
– Значит, тут пещеры были?
– И-и… Много! Только, конечно, по тайности. Потому что на ту пору уже разгонять принимались. Да вот, поди ты: и разгоняли, а все больше нонешнего усердия-те было… Я еще помню хорошо: гора вся была ископана. Идешь, бывало, зимнее дело: тянется из яминки пар или, сказать, дымок, и иней кругом обтаял. Скажи: «господи, Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас!» И сейчас из яминки рука за милостиной протянется.
– Как же они туда проходили?
– Да как проходили. Вон там, у этого родничка, береза стояла. Потом свалилась не в давнее время, лет, может, десять назад. У той березки корень был развилистой, так под тот корень на моей памяте можно было пролезть на корячках. Мужик тут один, посмелее, не в давние еще года сажен десять полоз. Сказывал: дальше бы можно кверху пошло, трубой! Да, говорит, страшно: духотина. Ты вон, погляди, этот берег-то какой… Подпрыгни-ка.
Действительно, мы стоим на пласте, вроде торфяного, который тянется далеко вдоль озера. Я подпрыгнул саженях в двух от воды, – и по ней тотчас пошли круги. Видно, что не берег уходит в воду, а, наоборот, вода идет под пластом корней и плотного травяного перегноя…
– Да вот тут гдей-то и проходили. Этто вот еще лет, может, пяток, объявился было один. Остатний, видно. Забрался было в гору-те. Жил.
– Ну и что же?
– Да что! Не те времена, поштенный. Озорства вного стало. А ему этого ненадобно. Ему нужен спокой. Нонешний народ не стал этого понимать. Особенно ребята, молодяжник. Что ты с ними поделаешь. Разыскали отдушинку-те эту самую, сейчас – баловать! Он, миляга, может на стоянии, молитву творит – за весь мир, за все хрестьяны… а они, дураки, сверху-те на него… того… просто тебе сказать, озоруют… А то раз выполз он на свет божий рыбы поудить… Что ж. Это ничего. Дело апостольско. Положил кошель на берегу, отлучился малое время. А солдат у него кошель и уволоки. На вот! Живи ты тут с нами, дураками! Не достойны мы! Убрался, сердяга… Гора-те и опустела…
– Ну а что же с Кирилом Самойловым?
– Да… Прихаживал, говорю, молился. А тут выгонка пошла, нельзя стало. Ну, он, бывало, придет, да к нам, схоронится в сарае: пережидает жесткое-те время. А то у матери моей в амбарушке поживет. Мы думаем себе: что ж, ничего. Старичок и старичок. Мало ли их. А он вот какой старичок: стал звон слышать. Утречком как-то спим мы, до свету еще. Он будит: «Вставайте, что вы спите. Тут чудеса. Послушайте-ко». Проснулись мы. – «Слышите ли?» – Нет, мол, Кирила Самойлович, ничего не слыхать. Только по листу ветер. – «Как это, говорит, не слышите. Припади, старуха, к земле». Мать к земле припала. – «Так, говорит, вроде шум. Дерева сотрясаются, так гудят: бу-у да бу-у…» – «Не древа, говорит, маловерная. Ухи у тебя заложило. Я вот слышу въяве: это у них к заутрене вдарили. Слава тебе, владычице, пресвятая богородице, святые угодники. Удостоился и я, грешный…» Ну потом чаще да чаще… А там уже и видеть стал. Туман, говорит, на озере-те, а в тумане так обозначает, что город, и церквы, и княжецки палаты, и монастыри великолепные. Сам говорит, а сам плачет, бороденка трясется. Теперича, говорит, надобно мне туда попадать небеспременно. Оттеда уже известно дело: преставишься в экой благодати, прямо в рай… Никаких, говорит, денег не пожалею. Вклад им положу…
– Ну и что же?
– Пошел по народу говор: Кирила Самойлыч звоны слышит, невидимый град ему открывается. Ушел он к себе на пчельник. Потом, слышим, продает пчельник, продает избу, все имущество, одним словом, порешил. Пришел опять к нам: «Что ты, мол, Кирила Самойлович?»
– Молчите, – говорит. – Скоро за мною придут. Попрощаться пришел.
– Куда ж ты пойдешь? Мы бы поглядели.
– Нельзя вам видеть, как я с ними отправлюсь. Ваши, говорит, глаза грешные.
– Глядим: чудной наш Кирила Самойлов стал. Хлеба не ест, квасу не пьет, извелся, а лик веселый. Раз этак утречком на ранней заре прокинулся я, вышел из сараев вон на тот на узгорочек. Гляжу: сидит Кирила Самойлов на бережку, с ним двое, вроде монахи, в клобучках, и у одного бороденка оказывает, будто седая, другой – черной. И беседуют. Черный на озеро рукой кажет. Страшно мне стало, так что даже в глазах заметило, темная вода пошла. Прокинулся. Нет никого, только Кирила Самойлов на горку здымается…
Д-да… Вон какое дело, – продолжал он с глубоким раздумием. – После того не в долгом времени пропал старичок без вести. От нас же и скрылся. Оделся напоследок чистенько, причесался, умылся, попрощался, и нету стало. Как в воду канул. Нету нашего Кирила Самойлова и нету. Думали мы: не ушел ли как ранним делом к себе в Ковернино. Довелось в ту сторону побывать, я нарочно и завернул. – «Где, мол, Кирила Самойлов у вас?» – «Нет Кирила Самойлова. Пропал без вести. И на пчельнике другой уж сидит». Вот, поштенный, каки дела-то. А?
– Так и не объявился после?
– Где объявиться! Сказывали, положим, всяко, да чего сам не видал, так что и говорить.
– Нет, вы все-таки, пожалуйста, скажите.
– Бабка тут одна была. Померла давно. Так на тую пору аккурат корова у ней потерялась. Думала, вот придет, а она – ночь-полночь – не идет домой. Стало у ней сердце неспокойно, поднялась ночью-те, пошла искать. Нашла в лесу. Там вон, за горами, лес был большой. Погнала этто мимо озера и видит: лодочка будто от берега отпихнулась, и в лодочке трое. Тихим голосом стихиру поют. Отъехали на середину озера. Бултыхнуло будто что-то и скрикнуло. А темно, ночь-те весенняя, сумрачна. Испужалась она, погнала корову что есть духу… Говорили: не иначе это Кирила Самойлов в Китеж отправился.
– А может, на дно озера, дедушка?
– Ну так что, – сказал он холодно, кинув на меня спокойно уверенный взгляд. – На дне то же самое монастырь. И на самой середке главны ворота… Этак же вот, как ты, и тогда говорили: утоп Кирила Самойлов, больше ничего. Начальство выезжало, на допросы таскали. Взяли будто двух каких-то в Семенове…
– И что ж?
– Да что! Никто знать не знает, ведать не ведает. Следуй, пожалуй! Ищи! Городской народ, известно уж… До всего доходит.
Он смолк, и между нами пробежала как будто неуловимая тень отчуждения. Я был тоже городской и с дрожью негодования видел мрачное и грубое преступление там, где для него была умиляющая святая тайна. И он это чувствовал. Через некоторое время, однако, глаза его опять смягчились. У него явилась потребность досказать еще что-то.
– Опять же сам не видал, люди баяли. Ехали на двух подводах мужики из Семенова с базару. Запоздали… Дело ранней весной. Земля-те отпотела, туман. Лошади сошли с дороги, к озеру. Известно, скотина; может, пить захотели. Прокинулись мужики, глядят. Над озером туман столбами ходит, а солнце чуть за горами показывается. И вдруг, братец ты мой, видят они: едут из озера на большой подводе монахи не монахи, а вроде того. Диву дались наши мужики: что такое? Монахи незнакомые. Лошади у них большие, сытые, сами народ тоже гладкой, ликом светлые. И едут из воды прямо на них, все одно – по дороге… Подъехали, остановили ихних лошадей, давай хлеб на свою телегу перекидывать… Потом деньги отдали, честь честью, до копеечки, повернули подводу и опять в озеро. Только их и видели. И слышь ты, что еще. Ты вот человек городской… Ну, понимай это дело, как знаешь, а будто и Кирила Самойлова тут же видели с ними. А заговорить не посмели…
Мы оба помолчали, занятые своими мыслями. И мысли у нас были разные. У рассказчика они были, по-видимому, светлые и ровные. Лицо его опять приняло доброе, благожелательное выражение.
– Нижегородские.
– Дело. На горы наши пришли? Так вам бы прийти под Владимирскую владычицу. Вот тогда гоже у нас.
– Бывал и на Владимирскую… Что? Каково клюет?
– Плохо чтой-то. Вот дён десяток назад – успевай только закидывать. А ноне, вишь, и не дернет. Что есть – сарожник, и тот не хочет с червяком побаловаться…
Действительно, вода не шелохнет. Тонкие серебряные колечки охватили стебельки растений и держат их в блестящей неподвижной истоме. Поплавок трудно разыскать глазом среди редкого тонкого татарника…
– А рыбы здесь много?
– Вного[6 - Особенность местного говора: вного вместо много.]. Рыбно озеро-то наше. Окунь, лещ, щука, карась, елец, сарожник… Караси-то здоровущие живут. Жи-и-рные, как все одно свиньи.
Поплавок дрогнул. Из глубины по воде тихо пошли два-три круга. Старик потянул. Крючок задел за траву. Он вытащил, внимательно осмотрел и надел нового червяка.
– Зарастать стало. За грехи-те, – сказал он, поплевывая на наживку. – В старые-те годы не было этого. Хоть бы тебе травиночка! Как слеза было озеро… Главное дело – слабость. Вот! Купаться – это не возбраняют. А ведь у иного, милый, тело-то бывает нечистое. Бабы опять, девки… От женщинов-то еще более зарастает…
Он опять закинул удочку и обернулся ко мне с выражением гордости:
– А и теперь еще, слышь, – где ты эку воду-те найдешь? Погляди: земчуг! Иглу вот тут на дно урони, – видно!
Действительно – вода кристально прозрачна: на дне, пока оно не ушло вглубь, видно все до последней жилочки. Все оно усеяно «обломом»; веточки, ветви, кое-где целые стволы слежались плотно друг с другом и лежат отчетливые, точно живые. Нигде признаков ила, разложения, гнили.
– А на середке, – говорит рыбак с наивным удивлением, – черно, что ночью. И чудное дело, братец мой, что за озеро это у нас. Этто годов, может, с пять выезжали мы тут в ботничке, лот спущали. Саженях на двадцати стала гиря, нейдет. Я ее взял этак, отряхнул. Что ж ты думаешь: пошла опять, и пошла, и пошла. Веревка вся, а дна нет. Другую навязали. Семьдесят саженей, а дна все нету…
– А правду говорят: будто тут где-то есть течение?
– Кто знает. Весной этто в Люнду, правда, источина невеличка живет. А что сказывают, будто с Волгой имеет собчение, так нет. Не полагаю я этому быть. Потому, видишь ты: надо бы у нас тогда волжской рыбе водиться…
– А ты, милый, нашего летописця читал ли? – спросил он, помолчав.
– Читал.
– Наплачешься! Правду я говорю?..
– А сами вы, дедушка, звон слышали?
Он постоял молча, как бы в нерешимости. Потом заговорил серьезно и вдумчиво:
– А насчет звона я тебе вот бывальщину расскажу, а ты слушай. Я тогда еще мальчиком был малыем, по семнадцатому году. А теперь мне семой десяток на исходе. Много ли время?.. И работал я вон тут за горой кирпичи на нашего князя, на господина сибирского помещика, с матерью. Прихаживал тогда на озеро старичок Кирила Самойлов. Родом из села Ковернина. И был у него пчельничек свой, на пчельнике и жил; мед продавал и воск тоже. Угодный был старичок. И все хотел спастися, не хотел так, чтобы на пчельнике помирать. И стал к нам прихаживать «на горы». Укутает пчелок-то на зиму и придет. И залезет в гору. Даже так, что по неделям живал, спасался.
– Значит, тут пещеры были?
– И-и… Много! Только, конечно, по тайности. Потому что на ту пору уже разгонять принимались. Да вот, поди ты: и разгоняли, а все больше нонешнего усердия-те было… Я еще помню хорошо: гора вся была ископана. Идешь, бывало, зимнее дело: тянется из яминки пар или, сказать, дымок, и иней кругом обтаял. Скажи: «господи, Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас!» И сейчас из яминки рука за милостиной протянется.
– Как же они туда проходили?
– Да как проходили. Вон там, у этого родничка, береза стояла. Потом свалилась не в давнее время, лет, может, десять назад. У той березки корень был развилистой, так под тот корень на моей памяте можно было пролезть на корячках. Мужик тут один, посмелее, не в давние еще года сажен десять полоз. Сказывал: дальше бы можно кверху пошло, трубой! Да, говорит, страшно: духотина. Ты вон, погляди, этот берег-то какой… Подпрыгни-ка.
Действительно, мы стоим на пласте, вроде торфяного, который тянется далеко вдоль озера. Я подпрыгнул саженях в двух от воды, – и по ней тотчас пошли круги. Видно, что не берег уходит в воду, а, наоборот, вода идет под пластом корней и плотного травяного перегноя…
– Да вот тут гдей-то и проходили. Этто вот еще лет, может, пяток, объявился было один. Остатний, видно. Забрался было в гору-те. Жил.
– Ну и что же?
– Да что! Не те времена, поштенный. Озорства вного стало. А ему этого ненадобно. Ему нужен спокой. Нонешний народ не стал этого понимать. Особенно ребята, молодяжник. Что ты с ними поделаешь. Разыскали отдушинку-те эту самую, сейчас – баловать! Он, миляга, может на стоянии, молитву творит – за весь мир, за все хрестьяны… а они, дураки, сверху-те на него… того… просто тебе сказать, озоруют… А то раз выполз он на свет божий рыбы поудить… Что ж. Это ничего. Дело апостольско. Положил кошель на берегу, отлучился малое время. А солдат у него кошель и уволоки. На вот! Живи ты тут с нами, дураками! Не достойны мы! Убрался, сердяга… Гора-те и опустела…
– Ну а что же с Кирилом Самойловым?
– Да… Прихаживал, говорю, молился. А тут выгонка пошла, нельзя стало. Ну, он, бывало, придет, да к нам, схоронится в сарае: пережидает жесткое-те время. А то у матери моей в амбарушке поживет. Мы думаем себе: что ж, ничего. Старичок и старичок. Мало ли их. А он вот какой старичок: стал звон слышать. Утречком как-то спим мы, до свету еще. Он будит: «Вставайте, что вы спите. Тут чудеса. Послушайте-ко». Проснулись мы. – «Слышите ли?» – Нет, мол, Кирила Самойлович, ничего не слыхать. Только по листу ветер. – «Как это, говорит, не слышите. Припади, старуха, к земле». Мать к земле припала. – «Так, говорит, вроде шум. Дерева сотрясаются, так гудят: бу-у да бу-у…» – «Не древа, говорит, маловерная. Ухи у тебя заложило. Я вот слышу въяве: это у них к заутрене вдарили. Слава тебе, владычице, пресвятая богородице, святые угодники. Удостоился и я, грешный…» Ну потом чаще да чаще… А там уже и видеть стал. Туман, говорит, на озере-те, а в тумане так обозначает, что город, и церквы, и княжецки палаты, и монастыри великолепные. Сам говорит, а сам плачет, бороденка трясется. Теперича, говорит, надобно мне туда попадать небеспременно. Оттеда уже известно дело: преставишься в экой благодати, прямо в рай… Никаких, говорит, денег не пожалею. Вклад им положу…
– Ну и что же?
– Пошел по народу говор: Кирила Самойлыч звоны слышит, невидимый град ему открывается. Ушел он к себе на пчельник. Потом, слышим, продает пчельник, продает избу, все имущество, одним словом, порешил. Пришел опять к нам: «Что ты, мол, Кирила Самойлович?»
– Молчите, – говорит. – Скоро за мною придут. Попрощаться пришел.
– Куда ж ты пойдешь? Мы бы поглядели.
– Нельзя вам видеть, как я с ними отправлюсь. Ваши, говорит, глаза грешные.
– Глядим: чудной наш Кирила Самойлов стал. Хлеба не ест, квасу не пьет, извелся, а лик веселый. Раз этак утречком на ранней заре прокинулся я, вышел из сараев вон на тот на узгорочек. Гляжу: сидит Кирила Самойлов на бережку, с ним двое, вроде монахи, в клобучках, и у одного бороденка оказывает, будто седая, другой – черной. И беседуют. Черный на озеро рукой кажет. Страшно мне стало, так что даже в глазах заметило, темная вода пошла. Прокинулся. Нет никого, только Кирила Самойлов на горку здымается…
Д-да… Вон какое дело, – продолжал он с глубоким раздумием. – После того не в долгом времени пропал старичок без вести. От нас же и скрылся. Оделся напоследок чистенько, причесался, умылся, попрощался, и нету стало. Как в воду канул. Нету нашего Кирила Самойлова и нету. Думали мы: не ушел ли как ранним делом к себе в Ковернино. Довелось в ту сторону побывать, я нарочно и завернул. – «Где, мол, Кирила Самойлов у вас?» – «Нет Кирила Самойлова. Пропал без вести. И на пчельнике другой уж сидит». Вот, поштенный, каки дела-то. А?
– Так и не объявился после?
– Где объявиться! Сказывали, положим, всяко, да чего сам не видал, так что и говорить.
– Нет, вы все-таки, пожалуйста, скажите.
– Бабка тут одна была. Померла давно. Так на тую пору аккурат корова у ней потерялась. Думала, вот придет, а она – ночь-полночь – не идет домой. Стало у ней сердце неспокойно, поднялась ночью-те, пошла искать. Нашла в лесу. Там вон, за горами, лес был большой. Погнала этто мимо озера и видит: лодочка будто от берега отпихнулась, и в лодочке трое. Тихим голосом стихиру поют. Отъехали на середину озера. Бултыхнуло будто что-то и скрикнуло. А темно, ночь-те весенняя, сумрачна. Испужалась она, погнала корову что есть духу… Говорили: не иначе это Кирила Самойлов в Китеж отправился.
– А может, на дно озера, дедушка?
– Ну так что, – сказал он холодно, кинув на меня спокойно уверенный взгляд. – На дне то же самое монастырь. И на самой середке главны ворота… Этак же вот, как ты, и тогда говорили: утоп Кирила Самойлов, больше ничего. Начальство выезжало, на допросы таскали. Взяли будто двух каких-то в Семенове…
– И что ж?
– Да что! Никто знать не знает, ведать не ведает. Следуй, пожалуй! Ищи! Городской народ, известно уж… До всего доходит.
Он смолк, и между нами пробежала как будто неуловимая тень отчуждения. Я был тоже городской и с дрожью негодования видел мрачное и грубое преступление там, где для него была умиляющая святая тайна. И он это чувствовал. Через некоторое время, однако, глаза его опять смягчились. У него явилась потребность досказать еще что-то.
– Опять же сам не видал, люди баяли. Ехали на двух подводах мужики из Семенова с базару. Запоздали… Дело ранней весной. Земля-те отпотела, туман. Лошади сошли с дороги, к озеру. Известно, скотина; может, пить захотели. Прокинулись мужики, глядят. Над озером туман столбами ходит, а солнце чуть за горами показывается. И вдруг, братец ты мой, видят они: едут из озера на большой подводе монахи не монахи, а вроде того. Диву дались наши мужики: что такое? Монахи незнакомые. Лошади у них большие, сытые, сами народ тоже гладкой, ликом светлые. И едут из воды прямо на них, все одно – по дороге… Подъехали, остановили ихних лошадей, давай хлеб на свою телегу перекидывать… Потом деньги отдали, честь честью, до копеечки, повернули подводу и опять в озеро. Только их и видели. И слышь ты, что еще. Ты вот человек городской… Ну, понимай это дело, как знаешь, а будто и Кирила Самойлова тут же видели с ними. А заговорить не посмели…
Мы оба помолчали, занятые своими мыслями. И мысли у нас были разные. У рассказчика они были, по-видимому, светлые и ровные. Лицо его опять приняло доброе, благожелательное выражение.