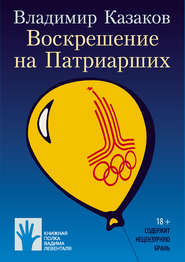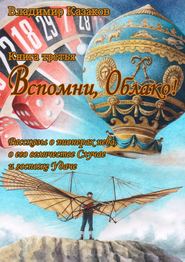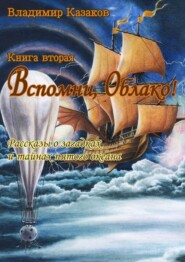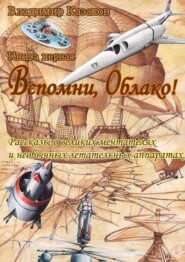По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Парители
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так, обмениваясь опытом, мы с Череваткиным осваивали технику самостоятельного полета. То есть, учили практически сами себя, по системе Блерио, а инструктор переживал за нас на земле, иногда психовал, а потом, взяв себя в руки, старался спокойно объяснить наши ошибки.
Так же учились и фигурам высшего пилотажа на английских самолетах «Авро».
У самого Рыбальчука левый вираж получался хорошо, а на правом он «зарывался» – самолет опускал нос. Посылая нас делать глубокие виражи, он говорил:
– Правый вираж делайте не так, как я.
И мы старались.
Помню, у меня первое время не получался штопор. Инструктор спросил, знаю ли я, как делается штопор? Я без запинки ответил, как нужно делать эту фигуру.
– Тогда лети и попробуй еще раз.
Придя в зону пилотажа, взял ручку управления на себя, нажал одной ногой педаль руля поворота до отказа. Машина задрала нос, свалилась и, быстро вращаясь, стала падать. Отсчитав нужное количество витков, я поставил ручку управления в нейтральное положение, и машина легко вышла в горизонтальный полет. Затем я повторил упражнение, но в другую сторону, и с чувством исполненного долга пошел на посадку.
Как же я огорчился, когда инструктор сказал, что у меня вновь получился какой-то гибрид из двух фигур – спирали и штопора. Инструктор просил показать, как я действую управлением самолета. Залез он на крыло, заглядывая в кабину, посмотрел на мои манипуляции и разъяснил популярно:
– Ростом ты маленький, ноги до педалей достают, а вот полностью «дожать» педаль длины твоей ноги не хватает. Приспосабливайся как-то.
Впоследствии, готовясь сделать штопор, я ослаблял привязные ремни и садился боком, тогда и ручка управления, и педали подчинялись мне.
Другие фигуры выполнял без всяких осложнений.
Так я закончил программу обучения в Качинской авиашколе…
(Рассказывая, Владислав Константинович умолчал о том, что за успешное овладение полетами командование школы наградило его и Александра Анисимова, впоследствии одного из лучших пилотов страны, серебряными портсигарами).
…Я стал лётчиком, но чтобы получить звание «красный военный лётчик», нужно было пройти курс обучения полетам на боевых машинах. Нас откомандировали в Первую высшую Московскую школу красновоенлётов, где мы уже считались не курсантами, а слушателями.
Слушатели школы в процессе обучения полетам на боевых машинах одновременно получали специализацию на определенных типах самолетов: истребителях или «разведчиках».
Группа, в которой был я, попала на «разведчики». Но меня это не устраивало. Мне нравились скоростные, маневренные истребители.
Однако обучение все же началось с трофейных разведчиков «Де Хавиленд», ДН-4, потом ДН-9. Полеты проходили в основном нормально, если не считать, что временами на одну машину приходилось по двадцать слушателей.
Я возбудил ходатайство о переводе в истребительную группу – уже вторично. После небольшого экзамена на выполнение трех отличных посадок подряд мою просьбу удовлетворили. В тот же день я вылетел на истребителе «Ньюпор-XXI», позже – на «Ньюпоре-XXIV», «Фоккере», С-3 и «Мартинсайде».
Быстро пролетели дни учебы, и в декабре 1923 года состоялся выпуск слушателей нашего курса с присвоением официального звания «КРАСНЫЙ ВОЕННЫЙ ЛЁТЧИК».
После этого предстояло пройти еще и последнюю – четвертую ступень обучения – школу воздушной стрельбы и бомбометания, или, как ее называли для краткости, «Стрельбой», в городе Серпухове.
Для учебного бомбометания использовали английский двухмоторный самолет «Виккерс-Вернон». В полу кабины прорезали люк, застеклили его, установили прицелы. Помимо 10—15 человек самолет поднимал достаточное количество небольших бомб. Учлёт ложился перед люком, пользуясь прицелом, «ловил цель», поймав, нажимал на рычаг. Из люка было прекрасно видно, как бомба отрывалась от держателя и, медленно покачиваясь, отставала от самолета. Хорошо был виден и взрыв.
Стрельбу по воздушным целям мы проводили на «Ньюпорах» с помощью фотопулемета.
В «Стрельбоме» пережил довольно неприятное воздушное происшествие. Мне предстояло провести стрельбу из пулемета боевыми патронами по наземным мишеням на старом английском самолете Е-5, или, как мы его называли, «Исифайф». Денек зимний, серый. Трофейная машина послушно взлетела, и я направился в зону стрельб. Подойдя к полигону и убедившись, что около мишени людей нет, я перевел самолет в пикирование. Поймал мишень в перекрестке прицела, дал несколько коротких очередей. Сделав еще несколько заходов на цель, я ушел с полигона, израсходовав все патроны.
Из-за пасмурной погоды на посадку пришлось заходить издали, на малом газу. Нагрузки самолет в этот момент испытывал самые минимальные.
Вдруг я почувствовал два сильных удара по коробке правых плоскостей. Что такое? Взглянул, и мне стало не по себе: две стальные ленты, скрепляющие верхнюю и нижнюю плоскости, лопнули и свободно болтались.
Мгновенно я закрыл газ и выключил зажигание, чтобы при ударе самолета о землю не возник пожар. Правая коробка крыльев сложилась назад, самолет накренился и резко опустил нос. Затем я почувствовал сильный удар. Удерживающие меня в кабине поясной и плечевые ремни лопнули, и я «рыбкой» вылетел из самолета.
Когда меня вышибло из самолета, мелькнула мысль: накроет меня обломками или нет? Накрыло. Только било не очень сильно.
Вылезаю из-под обломков, ощупываю себя – цел. На голове здоровенная шишка. Повезло! Спасли малая высота и глубокий снег.
Авария произошла по очень простой причине. «Исифайф» ранее служил английским лётчикам, затем белогвардейцам, у них отобрали его красные лётчики и воевали на нем, наконец, он был передан в школу для учебных полетов. Мудрено ли, что «старик» не выдержал и развалился в воздухе. Хорошо еще, что не на полигоне при пикировании, не на большой высоте.
Из школы «Стрельбом» я был выпущен в 3-ю отдельную истребительную эскадрилью, базирующуюся в Киеве.
Глава 2. Первые конструкции лётчика
Лётчик-истребитель Владислав Грибовский
В Киеве лётчик-истребитель Владислав Грибовский служил хорошо и вскоре стал командиром звена. Однако мечта – построить летательный аппарат своими силами, не оставляла его.
При Киевском политехническом институте работала одна из первых сильных групп Общества Друзей Воздушного Флота – энтузиастов планеризма. Среди них были и сослуживцы Грибовского, военные лётчики. От них он узнал, что осенью в Крыму состоятся 2-е Всесоюзные планерные испытания. Очень хотелось Грибовскому попасть на эти состязания молодых конструкторов и спортсменов-планеристов, и он спросил разрешение у командования воинской части: поехать в Коктебель за свой счет, используя положенные ему отпускные дни.
Коктебель можно назвать гнездом планеристов-поэтов. Поэзия планеризма – в кальках чертежей, в расчетах, в неустанных поисках совершенных форм деревянных птиц, в овладении техникой полета на них в горячем крымском воздухе.
Пять киевских лётчиков приехали в Крым: Рудзит, Шабашов, Кравцов, Павлов и Грибовский, а планер у киевлян был один – КПИР, построенный студентами политехнического института. Но из других мест на Коктебельскую гору прибыло немало разных планеров, название которым давали или по месту постройки, или экзотические, порой с юмором – «Москвич», «Ларионыч», «Марс», «Икар», «Красный лётчик», «Одна ночь», АВФ-10, «Цапля», «Дедал», «Стрекоза-печатница», «Летающее крыло», «Буревестник».
Кому из лётчиков на каком планере летать, пришлось устанавливать жребием. Каждый рассчитывал на лучший аппарат. Владиславу Грибовскому не повезло: ему достался планер, построенный учащимися конотопского техникума. После нескольких пробных полетов этот аппарат техком слета забраковал из-за некоторых дефектов, и, главным образом, неудачной центровки. Так Грибовский превратился в «бродячего» пилота, который выискивал свободную машину, чтобы «подлетнуть» на ней. Он подходил к «хозяевам» планера и просил:
– Дайте… ну хоть на два-три полета.
Чаще отвечали отказом, но, бывало, везло, например, он получил один из лучших аппаратов слета КПИР и, пропарив на нем 13 минут над северным склоном Узун-Сырта, сдал экзамен на пилота-парителя в числе первых десяти советских планеристов, среди которых были такие известные лётчики, как Арцеулов, Юнгмейстер, Рудзит, Зернов.
Вернувшись из Крыма в Киев, Грибовский буквально день и ночь не расставался с мыслью построить планер своей конструкции. Множество вопросов стояло перед ним: какой тип планера выбрать, какие материалы лучше всего использовать при его постройке, как сделать планер легким и прочным в одно и то же время?
В памяти возникали виденные им аппараты, вспоминал он и оценки планеристами машин, более или менее хорошо летавших. И остановился на схеме планера Невдачина «Буревестник».
(слева-направо, сверху-вниз) 1. Русский лётчик Константин Арцеулов. 2. Русский лётчик Леонид Юнгмейстер. 3. Русский лётчик Казимир Рудзит. 4. Русский лётчик Валентин Зернов.
Планер Г-1 пришлось делать «из ничего» и во внеслужебное время. Помогали товарищи. Больше всех трудился сам Грибовский, а жена его, Катя, обшивала материей крылья.
По признанию самого конструктора, «планер Г-1» в какой-то степени отражал чужие мысли», но для Грибовского самое главное – аппарат летал!
«Учил» его держаться в воздухе сам конструктор. Удалось совершить два полета. Когда планер с помощью лошади тащили в гору для третьего старта, налетевший порыв ветра подхватил его под крылья, перевернул и ударил о землю.
Это произошло осенью 1925 года на третьих планерных заседаниях. Но и обломки пошли в дело: крыло и оставшиеся части аппарата были подвергнуты статическим испытаниям под руководством профессора Ветчинкина.
С третьих планерных состязаний Владислав Грибовский вернулся с призом и грамотой, которая выглядела так:
«Авиахим – опора мирного труда,
противогаз и воздушный часовой