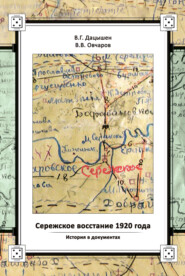По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Изучение истории Китая в Российской империи. Монография
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
. Последние главы были посвящены деятельности католических миссионеров с историческими сюжетами по этой проблематике. Таким образом, российские дипломатические представители в Пекине уже в начале XVIII в. познакомили русскую элиту с основами китайской истории.
Первым из русских правителей поставил вопрос о необходимости изучения китайского языка и культуры («познания их суеверия») первый российский император Петр I. Царский указ 1700 г. гласил: «Для утверждения и приумножения в православную веру и проповедь св. евангелия в идолопоклонных народах (Китая) … указал писать к киевскому митрополиту (Варлааму Ясинскому), чтоб он, подражая о том святом и богоугодном деле, поискал в малороссийских своей области городах и монастырях из архимандритов и игуменов или иных знаменитых иноков доброго и ученого и благого жития человека, которому бы в Тобольску быть митрополиту… и привел бы с собою добрых и ученых не престарелых иноков двух или трех человек, которые бы могли китайскому и мунгальскому языкам и грамоте научиться и, их суеверие познав, могли твердыми св. евангелия доводами многие души области темныя сатанинския привести во свет познания Христа Бога нашего и тамо (в Пекин) живущих и проезжающих христиан от прелести всякой идолослужения их отвадити, и тако могли бы жити, и у той построенной Божией церкви (албазинской) служити, чтобы своим благим житием хана китайского и ближних его людей и обще их народ привести бы к тому святому делу и к российского народа людям, которые по вся годы с караваны для торга и для всяких посылок порубежных ездят, учинить себя склонных»
.
В эпоху китайского императора Канси
к концу XVII в. маньчжурская династия Цин окончательно стала центром китайской цивилизации, унаследовав ее историческое наследие. Россия к началу XVIII в. демонстративно «повернулась спиной» к своему евразийскому культурному наследию, связывавшему ее с отчасти общим с Цинской империей тюрко-монголо-тунгусским пространством. Но опыт прямого посредничества западноевропейцев в отношениях между русскими и китайцами для двух новых империй оказался неприемлем. Более того, реалии европейской культуры создавали необходимость развития китаеведения в развернувшейся лицом на Запад России, даже и без прямой связи с вытекающими из ее соседства с Китаем потребностями.
Знакомство русского общества с историей Китая и формирование российского китаеведения в XVIII в. определялось комплексом причин и факторов. Потребность в изучении Китая была обусловлена в первую очередь тем, что с начала XVII в. русское и китайское государства установили прямые политические и экономические связи, затем стали и непосредственными соседями в Центральной и Восточной Азии. Нерчинский 1689 г. и Кяхтинский 1727 г. договоры завершили не только пограничное размежевание между двумя империями, но оформили всю систему двухсторонних отношений.
Именно в XVIII в. формировались в России академическая наука и университетское образование, которые стали фундаментом, в том числе и для российского научного китаеведения. Изучение истории Китая шло в нашей стране одновременно со становлением современной исторической науки. Более того, так случилось, что именно история и китайский язык по факту оказались в основе академической науки на этапе ее формирования. Это отметил еще М. В. Ломоносов
, писавший в «Рассуждении о академическом регламенте и стате»: «3) Ректором Университета положен историограф, то есть Миллер, затем что он тогда был старший профессор… И если б Миллер был юрист или стихотворец, то, конечно, и в стате ректором был бы назначен юрист или стихотворец. 4) Историографу придан переводчик китайского и маньчжурского языков, то есть Ларион Россохин. Однако если бы Россохин вместо китайского и манжурского языков знал, например, персидский и татарский, то бы, конечно, в стате положен был бы при историографе переводчик персидского и татарского языка»
.
Говоря о начальном этапе становления науки в России, можно отметить, что российская археология началась с работ Д. Г. Мессершмидта
не просто в пограничном с Цинской империи, но даже и оспариваемой в то время у России Пекином районе Южной Сибири. И в свою первую экспедицию по России Д. Г. Мессершмидт выехал в составе свиты посланника в Китай князя Л. В. Измайлова
. Один из «отцов-основателей» российской исторической науки Г. Ф. Миллер
написал и опубликовал свое «Описание Сибирского царства» одновременно с «Историей Российской» М. В. Ломоносова, почти за 70 лет до выхода в свет «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Современники высоко оценивали значение собранных Г. Ф. Миллером «рукописных китайских известий». Кроме того, советские историки отметили: «Первая в России работа по истории русско-китайских отношений была написана Г. Миллером и называлась “О первых российских путешественниках и посольствах в Китай”»
. Вообще «отца сибирской истории» можно считать непременным куратором всего российского китаеведения середины XVIII в.
Становление российского китаеведения шло бок о бок со становлением исторической науки. Достаточно привести такие случаи из истории Академии наук: в 1748 г. «по указу Сената прапорщик И. Быков, бывший с 1731 по 1747 г. в Китае, направлен в Академию в качестве учителя китайского и маньчжурского языков и переводчика. Г. Ф. Миллер и Л. К. Россохин из экзамена заключили, что Быков “в просторечии” на этих языках говорить может, но как учитель и переводчик “недостаточен”»
; 31 января 1757 г. «оглашен приказ об освидетельствовании перевода китайской книги “О происхождении и нынешнем состоянии народа манджур”, сделанного Л. К. Россохиным. Миллер взял это на себя»
. Совместная работа «отца Сибирской истории» и первого русского китаеведа в стенах Академии наук была не случайной. Как раз в 1748 г. в связи с возникшими в работе над «Историей Сибири» противоречиями между Г. Ф. Миллером и И. Э. Фишером
в Академии наук было создано особое Историческое собрание для координации работы всех гуманитариев. В ее состав, кроме вышеназванных историков, вошли и другие ученые, в том числе М. В. Ломоносов. Именно в ведение Исторического собрания были переданы академический университет и гимназия.
Сложившиеся стандарты западноевропейской академической науки требовали учреждения в рамках Санкт-Петербургской Академии наук научного востоковедения. Специально для развития китаеведения в Россию был приглашен из Кенигсберга воспитанник Лейпцигского университета Готлиб Зигфрид Байер
. Этот немецкий ученый в 1725 г. занял должность профессора греческих и римских древностей Академии наук, а 1734 г. Г. З. Байер стал профессором восточных языков. Китайский язык он начал изучать еще в Кенигсберге и Берлине, однако именно петербургский период принес немецкому ученому известность китаеведа. В столице Российской империи профессором Байером в 1729–1730 гг. была издана первая в Европе «Хинейская грамматика», кроме того, был составлен китайско-латинский словарь. В 1730 г. в Петербурге был издан главный труд Г. З. Байера по востоковедению Monumentum Sinicum (исторический обзор европейских трудов по синологии; грамматика, словарь, данные о мерах и весах). Несмотря на множество недостатков, этот труд был новым шагом в научном китаеведении.
Профессор Г. З. Байер отправил свою работу иезуитам-синологам и вскоре получил ответ от таких известных ученых, как Кеглер
, Перейра
, Славичек
, Гобиль
, Парренин
. Иезуиты оценили этот труд «образцом столь выдающегося ума, что сами китайские музы могут прийти в удивление», но посоветовали найти учителя китайского языка из китайцев или долго живших в Китае европейцев. В коллективном письме Кеглера, Перейры и Славичека академику Байеру от 12 сентября 1732 г. говорилось «о невозможности изучать китайский синтаксис и китайские книги только по словарям, без живого произношения»
.
Востоковед Г. З. Байер работал в России до 1738 г., но так и не выучил русского языка, не владел он и разговорным китайским. Тем не менее вклад немецкого ученого на русской службе в будущее науки и популяризации китайской истории был немаловажным. В числе достижений необходимо отметить, что издание Г. З. Байером в Санкт-Петербурге текстов с использованием китайских знаков явилось первым опытом печати иероглифов в Европе.
Одновременно с немцем Г. З. Байером в Санкт-Петербурге при Академии наук работал и китаец Чжу Гэ. Привезен он был из Тобольска в 1734 г., крещен в 1736 г. под именем Федор Джога. С 1738 г. этот китаец начал преподавать китайский язык, сначала в Санкт-Петербурге, а затем в Москве. Но Федор Джога также не стал основателем российского китаеведения, и после возвращения из Пекина первых русских синологов он был отстранен от преподавания китайского языка.
После ухода Г. З. Байера в Академии наук не осталось китаеведов, хотя есть указания, что в 1739 г. академиком Санкт-Петербургской Академии стал живший в Пекине иезуит знаменитый французский синолог Антуан Гобиль. Но Академия наук и без своих синологов-академиков оставалась главным учреждением, в рамках которой решались вопросы изучения истории Китая. Например, согласно «Списку именному академическим служителям» за 1 мая 1748 г. в штате Академии наук были «прапорщик Л. Розсохин, ученики кит. и маньч. языков Л. Савельев, С. Корелин, Я. Волков»
. В марте 1756 г. Сенат отправил в Академию наук приобретенный в Пекине многотомный труд китайских историков первой половины XVIII в. для перевода на русский язык. Академики М. В. Ломоносов, И. Д. Шумахер, И. Штелин и И. Тауберт были назначены ответственными за организацию работ по переводу «Китайской истории»
.
В 1755 г. Санкт-Петербургская академия наук приступила изданию первого в России научно-популярного журнала «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие». Одним из инициаторов этого издания был М. В. Ломоносов, редактировал журнал «отец сибирской истории» академик Г. Ф. Миллер. В данном журнале в 1750-х гг. были опубликованы первые статьи российских авторов, касающиеся истории Китая, «О разных именах Китайскаго Государства» И. Э. Фишера и «История о странах, при реке Амуре лежащих» Г. Ф. Миллера. Необходимо отметить, что статьи о Китае в русских периодических изданиях стали печататься еще начиная с 1731 г. Исследователи пишут: «С 1728 по 1742 г. выходили “Месячные исторические, генеологические и географические примечания в Ведомостях”… В номерах с 13-го по 18-й за 1731 г. публиковались “История Хины, или китайская” (заимствованная из сочинения Ф. Купле)»
.
Санкт-Петербургская академия наук с первых дней своего существования собирала привезенные русскими китаеведами книги, целенаправленно формировала китайскую библиотеку. Первые китайские и маньчжурские книги были привезены в Санкт-Петербург, вероятно, в 1730 г. находившимся на русской службе шведом Л. Лангом из его третьей поездки в Китай
. Еще в XVIII в. исследователи отметили: «… Лоренц, бывший российским резидентом при китайском дворе, привез в 1730 году из Пекина от езуитских миссионеров, числом 82 тетради в 8 папках»
. Правда, в одном из первых исследований по истории русского востоковедения говорилось: «С самого основания С. Петербургской Академии Наук библиотека ея имела уже небольшое собрание Азиятских рукописей и до 2800 (возможно опечатка. – В.Д.) книг на Китайском языке»
. Исследователи полагают, что в первой партии привезенных из Китая в Санкт-Петербург книг были только словари. Затем библиотека приобретала книги у возвращавших из Пекина миссионеров и учеников Духовной миссии.
Книги по истории Китая для Академии наук были в приоритете. Например, в инструкции Академии наук «каравану в Пекин» от 3 апреля 1753 г. предписывалось найти и закупить в Китае отсутствующие в академической библиотеке «исторические и философские книги»
. Исследователь В. П. Таранович писал: «Из лиц, оказавших Академии Наук значительную услугу в деле пополнения ее музейного и библиографического фондов китайскими книгами… следует отметить Франца Луку Еллачича (Franz Lukas Jellatscitsch) …»
. В 1753 г. Ф. Л. Еллачича вторично отправили в Пекин в составе торгового каравана с заданием: «1) Купить китайские философские и исторические книги, которых в библиотеке нет и о коих китайского языка переводчик известие подать может»
. Основной список необходимой для Санкт-Петербургской академии наук литературы сформировал переводчик И. К. Россохин. Кроме того, в отдельной инструкции АН за подписью Шумахера была дана «роспись выписанным из каталогу Парижской библиотеки китайским книгам, которые из Китая в СПб. Имп. Библиотеку достать должно», в этом списке было 72 номера. Выполняя эти поручения, Еллачич купил в Пекине 123 экземпляра книг (51 название) различной тематики, в числе которых было 56 экземпляров (15 названий) книг исторических
.
Говоря о вкладе Академии наук в дело становления российского китаеведения, необходимо отметить и тот факт, что, будучи центром научного китаеведения, Санкт-Петербургская академия наук в XVIII в. сама сдерживала развитие исследований. Когда в мае 1748 г. указом императрицы Елизаветы Петровны еще один китаевед, И. Быков, был причислен к Академии наук, то от академиков последовала просьба «определить к иной службе»
этого молодого китаеведа. Еще раньше, в 1742 г., вышел указ Елизаветы Петровны «О невозможности содержать при АН одновременно Россохина и Джоги»
. Против такого отношения выступали многие ученые, например, М. В. Ломоносов в своей «Записке о необходимости преобразования Академии наук» утверждает: «Хотя по соседству не токмо профессору, но и целой Ориентальной академии быть бы полезно»
. Но стоявшие у руководства Академии наук немецкие ученые «не пропускали» русских синологов на более высокие ступени в официальной русской науке.
Таким образом, к середине XVIII в. в Российской империи не только сложились предпосылки к становлению научного китаеведения, но и сформировалась Академия наук, способная принять первых подготовленных в Пекине русских китаеведов, организовать их для развития российской синологии, в том числе и для научного изучения истории Китая.
1.2. Пекинская миссия и китаеведение в России в XVIII в.
В первой половине XVIII в., через сто лет после установления прямых связей между русским и китайским государствами, оформилось постоянное российское представительство в Пекине – Российская духовная миссия. Именно Пекинская миссия стала первым и на долгое время главным российским институтом, выполняющим задачи как подготовки русских китаеведов, так и изучения собственно Китая.