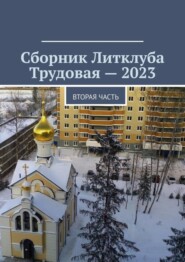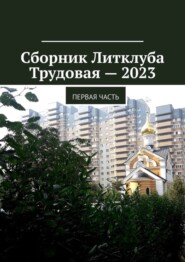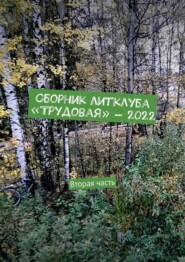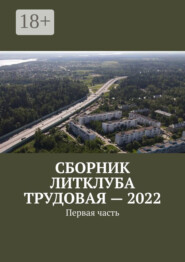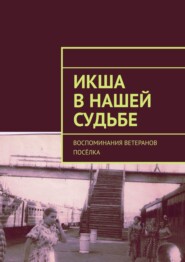По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Благословенно МВИЗРУ ПВО. Книга девятая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– «Может ты и в бригаде кое в чём нам с ремонтом поможешь? Тоже на казармах крыши подтекают. Только почему ты на своей всего половину перекрыл?».
– «Сгорела бы полностью – обновил бы всю…» – ляпнул я.
– «Ты чего сказал? Думать надо, что говоришь капитан! Такими вещами не шутят!
Не дай Бог накаркаешь на свою голову!» возмутился подполковник Хозяинов.
– «Виноват, не подумал» – сказал я.
Мне нечего было возразить…
В те времена в стране существовала мощная хорошо отлаженная система внештатных сотрудников оперуполномоченных. Я думаю, что всё что происходило в армии было известно им и находилось под контролем органов. Несомненно, это были не те сталинские времена, когда людей забирали днём и ночью в тюрьмы и Гулаги.
Я даже считаю, что такая система (естественно при умном руководстве и при правильном отделении зерна от плевел) позволяла вскрывать и предупреждать очень нехорошие события. Жаль, что только не всегда выполнялось условие: «при умном руководстве и при правильном отделении зерна от плевел».
Тем не менее считаю, что основная задача созданной системы выполнялась верно и порой была просто необходима. А её работу как говорится в простонародье: «я не раз испытал на собственной шкуре». В первый раз мне слава Богу повезло с руководством, а дело обстояло так…
Многие происшествия и нехорошие случаи, которые происходили в далеко расположенных дивизионах, сходили руководителям с рук только по причине инертности системы «донесений». Кое-что замалчивалось из-за несрочности, а кое-что из-за «забывчивости».
Если возникали серьёзные проблемы, в решении которых командование могло помочь только выговором, а тебе придется их решать самому, то зачем себя сечь?
При такого рода неприятностях, которые возникали в дивизионе, я сразу обрывал возможность контактов информаторов «с внешним миром». На телефонный коммутатор сажал начальника штаба контролировать разговоры, чтобы «сексоты» не могли позвонить с докладом о происшествии, и прекращал выезд личного состава в штаб бригады. Параллельно с этими мероприятиями начинал экстренно ликвидировать последствия и причины, породившие происшествие. Доклад о плохом событии в дивизионе получили «в верхах» с таким запозданием, что он не представлял острого интереса, а порой и ценности.
Командование это вполне устраивало, хотя внешне оно возмущалось.
Но в органах работали не дураки – вскоре они поняли мою тактику укрывательства происшествий.
Теперь в состав всех комиссий приезжающих в дивизион включался оперуполномоченный. В дивизионе он беседовал с массой личного состава и получал информацию от своих информаторов. Разобраться кто их люди в большой массе «беседуемых» было невозможно.
А знать бы не помешало…
Когда приезжали в дивизион комиссии вышестоящего штаба, то я на плацу строил всё подразделение. Затем делал развод личного состава по местам работ, на котором распределял расчёты по направлениям работы членов комиссии. Выглядело это так:
– «Расчёт аппаратной кабины выйти из строя. В распоряжение майора Сидорова (члена приехавшей комиссии).
– Расчет дизельных электростанций выйти из строя. В распоряжение майора Петрова.
– Расчёт станции разведки и целеуказания выйти из строя. В распоряжение подполковника Иванова». Личный состав выходил из строя и шел работать с членами комиссии штаба по своей специальности. При приезде очередной проверки, когда я проводил развод, то в середине распределения по членам комиссии скомандовал:
– «Личный состав внештатных сотрудников выйти из строя. В распоряжение оперуполномоченного майора Созинова». Из строя, при недоумении приехавшей комиссии и офицеров дивизиона, вышло трое солдат…
Молодость, глупость и непонимание серьёзности сделанного мной могло привести к крайне серьёзным последствиям.
На следующий день после проверки меня вызвал в штаб бригады комбриг полковник Хозяинов.
В его кабинете сидел старший оперуполномоченный бригады майор Созинов.
Мне популярно было доведено, что в случае повторного раскрытия резидентуры мои действия будут расценены как вредительство. Объяснили: «вредительством в советском уголовном праве
называются действия, направленные на подрыв любой отрасли советской экономики…».
Ещё больше заставили меня вздрогнуть, сказав, как посмотреть на мною содеянное. Ведь уголовный кодекс считает вредительство – диверсией, если оно имеет прямой умысел и цель нанести вред оборонной способности страны. В заключение «душещипательной беседы» довели под роспись статью уголовного кодекса.
В этом случае мне повезло: у меня не имелось злого умысла и было умное руководство бригады, сумевшее «замять» это дело. Солдат из дивизиона перевели, Созинову набор «резидентов» надо было начинать с нуля.
Офицеры бригады по этому случаю перешёптывались и посмеивались, однако мне было не до радости и даже не до шуток.
Был не 37-й год, но шутить с этим было нельзя…
Присяга
В дивизион поступила молодежь (ещё не солдаты) очередного призыва. Как и в предыдущем году было принято решение принимать присягу у памятника Ленину, который мы соорудили сами, позаимствовав его «по частям» в совхозе «Комсомолец». Как проходила присяга я описывал в предыдущих книгах. Интересен взгляд на этот ритуал солдат.
Рассказывает А. Тимофеев
11.12.1977 года. Присяга. На фото: командир дивизиона капитан Рыжик, мама, я, замполит капитан Кнутовицкий
Присягу принимали возле памятника Ленину, который сперли в соседней деревне. Мне об этом рассказывали, я не очень верил, в воспоминаниях командира прочитал – удостоверился.
К присяге нас чуть-чуть успели подготовить, кое-как ходить строевым шагом мы научились, блистать не блистали, но что-то уже изображали. В дальнейшем мы много строевой занимались, а когда что-то стало получаться – то даже получали моральное удовлетворение от занятий. У нас с Юркой неплохо получалось вдвоем синхронно ходить. До сих пор, по прошествии 40 лет, помню движения. С карабином бы не справился, но развернуться на 180 смогу. Не знаю, правда, зачем мне это сейчас.
На присягу приезжали родители, только мои мама с папой. Помню, что их приняли очень хорошо, поселили в доме для офицеров. Их привели к нам в казарму, у нас было построение, они прошли мимо меня и не узнали.
Присяга проходила в дивизионе. Дивизион малочисленный, но была создана атмосфера торжественности, офицеры были по парадному одеты, мы старались, как могли, блистать выправкой, отец нас фотографировал. Одну из фоток, там, где запечатлен Юрка Пестряков во время приема присяги, я увидел в книге командира, она у него сохранилась. Отец прислал нам фотографии и отснятую пленку.
От плёнки практически ничего не осталось – мы её благополучно истрепали.
После присяги меня отпустили к родителям. Помню, как я съел все привезенные мне продукты, в том числе шесть котлет и еще много чего, после этого посмотрел на часы, попросил отлучиться на обед в казарму, такое мероприятие пропустить я не мог. Родители были удивлены – так много я никогда не ел.
Родители приезжали еще летом, я сфотографировался под зонтиком
Весь призыв после принятия присяги
Первые полгода у меня всегда в кармане лежала заначка – кусок хлеба. Есть хотелось постоянно, несмотря на то, что кормили нас неплохо. Потом уже хватало. Поправился я сильно, хотя по конституции я всю жизнь худой.
Самое смешное мое прозвище было – сухофрукт, самое приличное – марафонец. Других не скажу.
Самое лакомое блюдо было – масло. Его давали утром по 20 грамм, намазал на кусок белого хлеба – бутерброд готов.
Было такое понятие – 100 дней до приказа.
С того момента, как до приказа Министра обороны о призыве и увольнении с военной службы оставалось 100 дней, те, кого касался этот приказ, кто по этому приказу должен был покинуть славные ряды Вооруженных Сил – становились дембелями и свое масло отдавали молодому пополнению. Так и было.
«Повер»
Повара в подразделении – особые солдаты. Можно сказать, что это лицо дивизиона, от которого зависит здоровье, настроение и крепкий стул личного состава. Обычно поваров готовят в учебном отряде полгода, если на гражданке они не работали по этой специальности.
Как-то осенью, при очередном призыве, сидим с замполитом в моём кабинете и беседуем с молодым пополнением, призванным на службу. Распределяем солдат по военным специальностям.