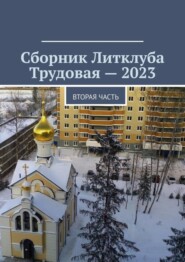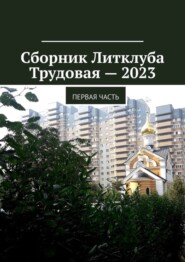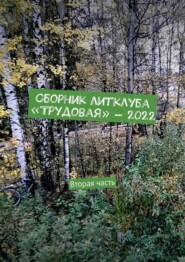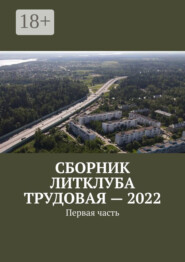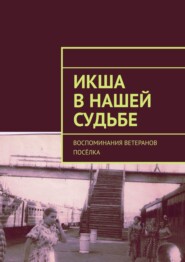По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Благословенно МВИЗРУ ПВО. Книга девятая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ведь я из Кронштадта – городской житель! Откуда мне было знать, что кролики размножаются быстрее чем летают ракеты ЗРК!
После того как я соорудил клетку для купленной пары – понеслось! Как мне показалось, прошло всего чуть более трёх месяцев, как поголовье достигло более двух десятков разноцветных кролей. Для маленьких жителей дивизионного городка посещение нашего сарая с кролями приравнивалось к походу в цирк. Они «торчали» возле кролей часами, делая свои интересные наблюдения о жизни кроликов. (порой понятные только взрослым и вызывающую ехидно-мечтательную улыбку у солдат). За частые посещения нашего «зоопарка» мы стали взимать с детей плату в виде пучка свеженащипанной травы.
Вскоре это стало традицией. В городке не надо было косить траву, а у нас с Машей уменьшился объём работы. Я научился снимать и выделывать шкуры, Анна готовить вкусные блюда. Шкуры кролей накапливались, мы их раздавали всем желающим. Пару воротников и шапку Анне из белоснежных кроликов я всё же сшил. Получилось неплохо.
Нас расстраивало то обстоятельство, что гибель поголовья была очень велика – новорождённых съедали и душили сами крольчихи, а больших кролей убивали крысы, прогрызая им череп. Что только не предпринимали, пытаясь защитить бедных кроликов! Не помогали даже металлические клетки – крысы продолжали наносить кролям серьёзные потери. Я и Анна начали подумывать о прекращении этой затеи. Не только потому, что с крысами не было сладу, но и потому что, Маша глубоко переживала, когда некоторые из её воспитанников попадали в обеденную кастрюлю или душились крысами. Правда, мы этого ей не сообщали, но, периодически недосчитываясь своих друзей, она начинала их искать.
Чтобы там не говорили, а труд по разведению кролей всё же оказался тяжелым и неблагодарным, требующим большого количества свободного времени. У меня его не имелось. Да и разводить мы их начали не из-за того, что нечего было кушать, а из интереса к ним нашей дочери.
Обеспечение продуктами у нас (по тем временам) было отличное, более того, Анна, идя пешком с работы мимо деревенской свинофермы, покупала свежую свинину, по одному рублю пять копеек за килограмм. Очень часто это были молочные поросята, которых вынуждены были забивать, если они получали травмы от взрослых свиней. Всех остальных продуктов тоже было достаточно.
Маша давала новорождённым кроликам имена и очень любила играться с ними. Играла вся детвора городка – дети офицеров.
Участвовал в играх и маленький котенок, которого мы завели в доме после «опозорившегося» ежа.
И всё же: в середине 1979 года разведение кролей мы прекратили.
Из домашней живности остался только кот.
Дивизионный городок 1979 год
Честно скажу: котов особо не люблю. Но этот был у меня в почёте: у нас в доме появился новый помощник и друг семьи. На него возлагалась серьёзная миссия – победить вездесущих здоровенных крыс, которые грызли всё подряд (даже кабели на ЗРК). Котёнка подарили Анне в деревне и сказали: подрастёт – доверие оправдает. Дочка и жена назвали его «Атаманом». Он был маленьким и пушистым. Я в его будущий успех не верил: в борьбе с крысами перепробовано было много способов – всё бесполезно. Со временем котёнок вырос в большого сибирского кота – крысолова. Анна не могла на него нарадоваться – каждое утро, выходя в коридор, она обнаруживали у своих тапочек аккуратно сложенные головы и лапы крыс.
Социализм – значит учёт. Атаман отчитывался за проделанную работу как положено. Обычно его добычей за одну ночь были две – три штуки. Может он давил и больше, но складывал у тапочек только две – три. Его начали не только любить, но уважать за дела….
Очередной призыв
Воспоминания А. Тимофеева
Помню первые впечатления о дивизионе. Нас долго везли в кузове ГАЗ-66 по проселочной дороге. Было начало зимы, в машине было холодно, темно, неуютно. Дорога – одни ухабы.
Нас привезли в дивизион, привели в казарму. Помню мы стояли в казарме, чего-то ожидая, мимо нас ходили солдаты, разглядывали вновь прибывшее пополнение, потирая руки и посмеиваясь над нами. Мы были по уставу одеты, ремни затянуты, пуговицы все застегнуты, а рядом ходили местные старослужащие, чувствующие себя дома, им уже не полагалось застегиваться и затягиваться, смотрели на нас как смотрят хищники на свою жертву, которая уже никуда не денется, нужно только нагулять аппетит и слопать.
Я чувствовал себя желторотым цыпленком, попавшим в голодные кошачьи лапы. Обстановка новая и совершенно незнакомая.
Дедовщина была, унижений и мордобоя не было, но психологический прессинг был сильный.
Нам вместе служить 730 дней
Призыв наш был мал, всего 7 человек, из которых один – повар, один – хлеборез и один – сержант. Оставалось четверо, на которых ездили все, кому не лень.
Хотя я несколько утрирую, конечно далеко не все, в основном народ был спокойный, но были некоторые личности, кто мимо не пройдет, обычно это были те, кто сам получил изрядно в начале службы. Особенно отличались стартовики – «деды» из стартовой батареи. Радиотехническая батарея была более миролюбивой, они к нам практически не цеплялись, стартовики же, особенно некоторые, буйствовали. Помню москвича Логинова Александра, он нам прохода не давал никогда.
Рассказывали, что в Новый год будучи молодым ему сильно досталось, и в Новый 1978 год, когда праздник закончился и нас отправили спать, мы лежали в ожидании неприятных событий.
Через какое-то время «деды» нас подняли, построили, кому-то врезали, кого-то погоняли. Досталось слегка. Мы были слабее и психологически, и физически, нас просто подавили. Двое из нашего призыва попали в стартовую батарею, им доставалось больше других.
Офицеры как могли боролись с дедовщиной. Помню капитан Галлиулин на нас постоянно ругался за то, что мы убираем со столов после всех, но такова была традиция – первые полгода ты убираешь, потом 1,5 года за тобой убирают. Помню мы смотрели на происходящее как на самое худшее время в своей жизни, которое скоро закончится. Так и произошло – со временем мы попривыкли, набрались опыта и сил, да и время салаг прошло – мы начали давать отпор, да и вновь прибывшее пополнение уже мы воспитывали, не слишком рьяно, но учеба не прошла даром – нам уже было что сказать. С Александром Логиновым было покончено, когда мой друг с первого по последний день службы Юрка дал ему отпор, больше он нас уже не доставал. Первые полгода – это привыкание. Ты, желторотик, ходишь весь подтянутый, ремнем перетянутый, на все пуговицы застегнутый. Первый раз убираешь казарму – тебя потом тычат носом в места, о которых ты даже не думал, находят грязь и заставляют убирать еще раз. После отбоя тебя через какое-то время будят и на кухню картошку чистить. А картошки много – на весь дивизион, и вот мы, вновь прибывшие, сидим кружком и чистим. Чем быстрее управимся – тем подольше удастся поспать.
Я был самым молодым в нашем призыве, Юрка Пестряков, дружбан мой, был постарше и он из деревни из-под Горького (ныне Нижний Новгород). Он был лучше к жизни подготовлен во всех отношениях, хотя я тоже маминькиным сынком не был.
Пожар
Фейерверк (обилие огня) в честь рождения Анюты был большой, а произошёл он в дивизионе, спустя две недели после её рождения. Он был далеко не праздничный, совсем не желаемый, а мог оказаться даже трагичным.
Зимой в дивизионе ухо надо держать востро – холода сильные, как не топи в казарме холодно. На технике ЗРК ещё холоднее – железо кругом, а когда она выключена, то на ней иней. Прибегаешь по тревоге, включаешь обогрев, но тепло быстро выдувает ветер. Солдаты делали самодельные нагреватели, называемые «козлами», которые часто «коротили» электролинию и возгорались.
Офицерский состав успевал за зиму конфисковать подпольные нагреватели десятками (и таких моделей что ещё только лет через десять будут конструктивно реализованы для ширпотреба), но возгорания всё равно происходили.
К казарме трубы подвода горячей воды отопления из котельной были утеплёны паклей и стеклотканью. Обратная труба (с остывшей водой) проходила через крышу.
Однажды она замёрзла….
В дивизионе каждый офицер, прапорщик и солдат отвечал за порученный участок. Правильность и своевременность действий одновременно всех проконтролировать было невозможно. Основной и непрерывный контроль осуществляется над боевой готовностью, а то, что творится в тылу порой упускалось из виду. Так произошло и в этот раз. Когда обратная труба, проходившая через крышу казармы, замерзла, то кочегар взялся её отогревать открытым огнём паяльной лампы. Отогрел. В первой половине дня вода по трубам начала циркулировать, отопление в казарме восстановилось.
Но опилки утепления начали тлеть….
В два ночи меня поднял дежурный по дивизиону: – «Товарищ капитан! Горит казарма!».
Через считанные секунды я был в дивизионе.
Горела крыша казармы факелом и треском разлетающегося во все стороны шифера.
В самом помещении появился только дым и запах угрозы пожара.
Весь личный состав, проживающий в казарме, уже приступил к хаотичным действиям по тушению огня.
Поставив одну команду на вынос документов штаба и секретной части, а вторую на вынос оружия я бросил остальные силы на борьбу с огнём. Забрасывали снегом, поливали из водопровода, засыпали песком, заливали водой из водоёма, тушили огнетушителями и кошмой. Солдаты были разделены на команды, действиями которых руководили офицеры. Борьба с пожаром напоминала жизнь муравейника – все бегут и что-то делают. Делали правильно, так как огонь начал утихать, а через 30 – 40 минут над казармой стояли только клубы пара. Для верности крышу проливали водой до утра – могло быть повторное воспламенение.
Подвели итоги борьбы с огнём. Пострадавших было двое солдат – незначительные травмы горящим шифером. Конечно, хорошо, что казарма не сгорела полностью, но и половина сгоревшей крыши при температуре – 40° представляла серьёзную трудность для проживания и восстановления. Посовещавшись с замполитом и начальником штаба, решили: докладывать комбригу нет смысла – только замучают комиссиями, а помощь если и будет, то мизерная и не сразу.
Однако своими силами мы не справимся – надо много стройматериалов. Казарма большая, на двести человек. В ней много дополнительных помещений: штаб, кухня, оружейная комната, умывальник, бытовая комната, санчасть. Много и подсобных помещений. Решили обратиться в колхоз, к директору Чистякову Валентину Ивановичу и к шефам Череповецкого металлургического завода.
Директор ситуацию и нас понял. Дал часть стройматериалов, но солдаты их стоимость должны были отработать в «битве за урожай».
Понятно: социализм – это учёт и Валентин Иванович не мог распоряжаться казёнными материалами как своими. Против такого бартера не попрёшь….
Остальную, недостающую часть стройматериалов добавили (безвозмездно) шефы (листопрокатный цех Череповецкого металлургического завода), оформив их подарками личному составу дивизиона ко Дню Советской Армии.
Получив материалы, я разместил всех солдат в строениях отапливаемых учебных классов, и приступил к ремонту своими силами. Прошло всего пять суток после происшествия, как половина крыши засияла новизной покрытия.
Красота!
Прошло немного времени как приехал комбриг с очередной комиссией – проверять организацию дежурства и боеготовность дивизиона.
Проходя мимо казармы, заметил новую часть крыши и, похвалив – удивился:
– «Молодец Рыжик! Крышу казармы, зимой обновил своими силами». Пошутил: