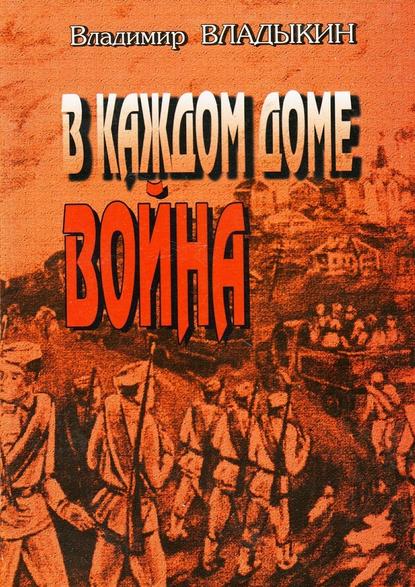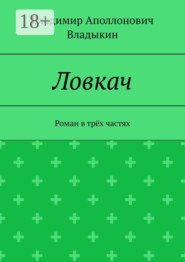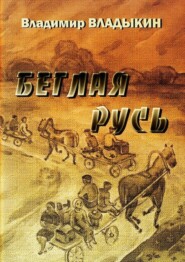По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В каждом доме война
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А чего ты к ней в заступники записался? Будто ты всё знаешь о ейном колдовстве, – крикнула в ревности Устинья. – Посмотри в другой раз, какие зенки у неё чернящие, такими, поди, любого приворожит. Писание, думаешь, она читает, как ты? Небось, с сатаной заодно в заговоре…
Роман Захарович в недоумении удивлённо поднял и опустил плечи. На лбу собрались глубокие морщины. В колдовство он почти не верил и переубеждать жену не собирался. Но он был уверен, что люди порой сами себе вредят, когда нарушают заповеди Христа, чего, собственно, они не видят, а несчастия, которые случаются в их жизни, они приписывают кому угодно, только бы обелить себя, свои не всегда благие поступки.
– Эх, Устя, легко ты словами разбрасываешься, – вздохнув, всё-таки вымолвил Роман Захарович, желая вразумить жену. – Наговор в твоих речах я слышу. Откуда тебе знать, что Чередничиха знается с сатаной, может, ты к нему ближе, чем она. Кому ты помогла добрым словом, или спасла от беды? А Чередничиха не раз выручала баб от хворей, хотя вытравление плода я не одобряю, тут бабы сами заигрывают с дьяволом, а этого и не ведают.
– Вот-вот, против писания и Бога идёт, ребячьи жизни убивает. А меня нечего к сатане приставлять, идол ты, Ромка, – обиделась не на шутку Устинья. – Я мало тебе хорошего сделала, или это не в счёт? Ишь, как ты за неё заступаешься, проклятый! Так и знай – она приворожила тебя! – крикнула жена, ткнув в его сторону пальцем: – удумал мя равнять с сатаной, а ты сам лешак! Видала много раз, как ты на Пелагею пялишься, идол!
– Не греши, Устя, и как ты не смущаешь себя глупыми выдумками. Пелагея невестушка, как дочь мне, а у тебя в голове ветер свистит фантазеями в мозге грешном, а мне их приписываешь, – он качнул головой и задумался: почему к старости, жившие в любви и согласии супруги, теряют друг к другу уважение и отношения становятся холодными, и всё это происходит оттого, что любовь постепенно уходит, вытекает, как из старого сосуда целебный напиток. И людей словно мучит жажда соперничества и споров. Когда-то Устинью он любил, и она его любила, а как только перестали вместе спать, так что-то изменилось, словно между ними легла глубокая межа, которую уже было невозможно перешагнуть. Устинье теперь не зря казалось, будто к нему в дежурку каждую ночь приходит какая-то баба. Теперь он припоминал, когда он утром появлялся дома, она бывало неприязненно молча смотрела на него, стараясь понять, что он испытал прошедшей ночью; а так как её глаза, наверное, выдавали движение внутренних мыслей, она стеснялась говорить ему о своей ревности, для которой, собственно, не было особой причины. И Роман Захарович мысленно снисходительно усмехался, ловя себя на мысли, что ему не очень приятно сознавать о тайных подозрениях Устиньи. Она же действительно про себя гадала: с кем бы он мог согрешить, так как он понимал, как бы человек ни был набожен и соблюдал святое писание, в любом возрасте при взгляде на молодую женщину его иногда навязчиво донимали греховные мысли. Он, конечно, осуждал себя за появлявшийся в душе соблазн, который, однако, он решительно подавлял в себе усилием воли. Роман Захарович также сознавал, что дежурства и отдалили его от Устиньи, которая, впрочем, надо было честно признать, уже больше его не волновала, как раньше. На молодых женщин заглядываться, испытывая вожделение, не только грешно, но и преступно, считал искренне он. Но если приходит соблазн, значит, это свойственно человеку даже в преклонном возрасте. А ещё в двухкомнатной хате, где сын и невестка, и была ещё и внучка с мужем и внук Илья, непристойно удовлетворять свою плоть. Он это Устинье никогда не говорил, но она и сама понимала, что своим присутствием они мешают молодым. Для этого и построил во дворе кухонный флигель, где Устинья спала весь тёплый сезон. И он через две ночи на третью, но уже изрядно отвык от жены в последние годы, с чем она неотвратимо смирилась, но затаила на него обиду, которая и прорывалась в моменты ревности, как это произошло сейчас.
Но война опять сблизила Романа Захаровича и Устинью: когда проводили сына на фронт, в хате жила Пелагея с сыном, которого тоже могли скоро призвать. Хотя ему ещё не было восемнадцати лет. Роман Захарович рад бы пойти вместо внука, да кто его слушать станет. И нет такого закона – каждый воюет за себя ради долга перед родиной.
Глава 5
Пелагея невысокая, полноватая, ещё с молодой фигурой, по-своему красивая баба, переступала уже свою зрелую пору, но была ещё в полном соку. Проводив мужа Устина на войну, оставшись с сыном Ильёй да со свекровью Устиньей и свёкром Романом Захаровичем, она всё чаще ощущала себя одинокой. Дочь Зоя писала в месяц по письму, она уехала с мужем Иваном Золотарёвым на Вологодчину ещё в мае, откуда должны были давно вернуться, но началась война, мужа забрали на фронт, Зоя в положении порывалась уехать к своим. Но свекровь, окружившая её заботой, не отпускала, да обступавшие село почти со всех сторон леса полюбились Зое, куда она ходила ещё с мужем по грибы и ягоды. Иван писал ей, что разобьют фрицев, и он придёт, и тогда они поедут к Зое. А теперь она видела, что без него не может уехать, что ей суждено остаться здесь. Мать писала об ушедшем на фронт отце и брате, проходившем военную подготовку, а баба с дедом живут хорошо, но скучают по ней…
Сама Пелагея чувствовала себя совсем одинокой, но дочери об этом воздерживалась писать, боясь её, в положении, тревожить. Илья приходил с улицы за полночь, когда мать спала, а утром рано она вставала на колхозную дойку. Свекровь Устинья жарила картошку, доила корову и возилась в огороде, дожидаясь с дежурства деда Романа. Внук Илья работал в тракторной, и он тоже спешил на уборочную. Каждый день не высыпался, а тем не менее, как только темнело, уходил в клуб. Да и со страды иногда приходил поздно, так что Пелагея сына не видела. В воскресенье с ребятами и девчатами уходил на военные сборы.
Однажды Роман Захарович застал в хате невестку в слезах. Как он выяснил, Пелагея плакала после тревожного сна, когда она увидела мужа изувеченным, просившим у неё помощи. В письме Устин сообщал о страшных боях под Смоленском, что они удерживают город и не пускают врага, который яростно рвался к Москве.
– Пока Устин жив, нечего переживать, – начал успокаивать свёкор. – Тебе кажется, что его убьют, вот и снится он раненым.
– Когда же кончится война, отец? Зойка осталась там мужа ждать. Илью могут забрать, как тогда жить после этого дальше? Я не могу так мучиться! – плакала невестка.
– Война – не игра, надо терпеть и молить Бога, чтобы все были живы. Может, уже зимой погонят прочь немцев! Это пока тепло они спешат, а холод придёт, назад побегут, как когда-то Наполеон. Россию ещё никто не поработил, и фашисты убегут от наших войск…
Роман Захарович понимал, что нынешняя война во многом не похожа на первую империалистическую. С невиданным размахом напирают немцы, готовые уничтожить, поглотить всю огромную страну. И жестокость, и злодеяния фашистов пугали, страшили население. И дед Роман успокаивал невестку, хотя сам не знал, как к зиме повернётся война, будет ли враг изгнан или он дальше пойдёт в своём безумном захватническом порыве. А наши войска, не ожидая его несокрушимого напора, ещё никак не придут в себя.
Устинья собиралась приступить к копке картошки, о чём говорила за обедом с мужем. Невестке вечером идти на дойку, а деду – в дежурство. Но времени свободного было у них предостаточно. И Устинья пошла торопить Пелагею, не понимая, куда исчез муж. Её словно кто в спину толкнул – заглянуть в хату: «Там он, чёрт старый, с молодой лясы точит, у-у, – сказала она почти вслух, переступая порог в коридор, – а со мной молчит, идол, или поучает её чему-то»!
– А я ищу старого, а он пригрелся тут с Пелагеей, – заговорила Устинья недовольно. – Картошку можно начать копать: пошли, дед, и ты давай-ка, милушка, выходи, – обратилась она к невестке.
– Вот это правильно, – подхватил Роман Захарович, – война дойдёт-не дойдёт, копать надо, – и он встал с табурета.
– А ты знахарь, на все руки! – буркнула Устинья. – Чего о войне думать, когда дел у нас много на подворье, или секретничаете о чём-то важном?
– Иди, старая, не тереби душу своей глупостью, – сказал весело муж.
– Я скоро приду, – ответила невестка.
Когда вышли из хаты, Устинья смерила мужа ненавистным взглядом.
– Так бы и торчал с ней, ровно мёдом она намазана! При сыне боялся, я это замечала. А его нет – тебе воля своя.
– Что ты, Устя, цепляешься, как репях! Не о том думаешь. За кого меня принимаешь? И при Устине я также с невесткой болтал, а ты что думаешь, я совсем из ума выжил, больше не о чём поговорить, она же мать, жена, чувств не имеет? А тебе всё срамное мерещится. Эх-эх, Устя!
Роман Захарович взял лопату, ведро и пошёл на огород. Устинья с мешком шла следом и ворчала. Узкая тропинка, отороченная зелёным спорышом, привела на огород, начинавшийся сразу за сараем. Земля была сухая, ботва картошки торчала высохшими стеблями, освобождённая от лебеды, щетинника и пырея. Засохший сорняк лежал кучами по краям тропинки.
Многие люди уже приступили к уборке картошки. Бледно-голубое небо было испещрено перистыми облаками, края которых барашками завернулись от ветра. Вдали над балками колыхалось пыльное марево, где-то слышалось урчание грузовиков, рокотание комбайнов, гул тракторов. Сжатые поля озимых и яровых рыжели золотистой стернёй. Там двигались как бы сами по себе копны соломы, стаскиваемые с поля двумя тракторами и лошадями на обочину, где подымалась скирда и где мелькали в белых платках бабы и девки. За огородами давно уже убрали горох, и один трактор пахал землю, издавая натужно-отчаянный треск, дымя панически трубой. Над ним вилась стая грачей, перелетая с места на место, некоторые деловито и уверенно шагали по пахоте, выклёвывая из почвы розово-коричневых осклизлых червей. В задах огородов стояла кукуруза жёлто-зелёными будыльями, с полувысохшими от жары листьями с початками, туго запеленатыми белыми и зелёными листьями, напоминавшими коконы шелкопрядов. Солнце стояло мутное, вокруг него легли серебристые грязноватые круги. С белесого неба лился жаркий свет, растекавшийся над землёй ленивой дымкой. Высушенный тёплый воздух пах перестоялыми травами, выхлопными дымами тракторов, автогрузовиков, свежевспаханной землёй, соломой, ботвой помидоров, укропом. Роман Захарович смотрел на весь этот измученный зноем пейзаж, ставший уже родным и думал о том, как где-то под Смоленском сражается с врагом сын Устин, за которого он молил бога, чтобы остался цел и невредим. Там их сын защищает родную землю от врага, чтобы он не проник в глубь страны, чтобы не дошёл сюда. Но там леса, где население могло вполне укрыться и уйти в партизанский отряд, куда бы он записался первым, если бы жил там. А здесь нет лесов – одни лесополосы; с его, Климова, огорода, хорошо была видна Терновка. Молодые деревья тянулись уже довольно высоко не очень ровными рядами, попадались кустарники шиповника и тёрна. Там росли вишни, абрикосы, яблоки, груши, маслины. Эти деревья сажали с тем расчётом, чтобы сюда потом можно было ходить за фруктами, а на своих подворьях сады в те времена не разводили, боясь удушающего налогообложения. У некоторых, правда, было высажено несколько деревьев, с которых ещё не снимали урожая, но они уже который год числились в сельсовете как вполне реальный источник дохода.
Роман Захарович настолько углубился в свои мысли, что даже не услышал вопроса жены.
– Ты, Рома, чаво оглох, и о ком ты так думаешь? Я к тебе обращаюсь, или всё о Пелагее думки мусоляшь? А она идить к нам и не торопится. Я спросила, о ком ты с ней говорил? Или опять не слышишь, идол? – повысила она тон.
– А, чего ты спросила? – рассеянно, очнувшись от своих мыслей, переспросил он.
– Вядь ты слышал, что спросила, а притворяешься, – она стукнула ладонями себя по бокам и гордо выставила голову. – Ох и хитрый, старый чёрт!
– Што ты вся взбелянилась, я не могу задуматься о том, что нас ждёт скоро? Землю нашу жалко, которую враг танками кромсает, бомбами с самолётов выворачивает, города взрывает и рушит. Сколько трудов положено и на тебе!
– А мне не жалко, думаешь. Всем жалко, ты один нашёлся сердобольный, что ли? Лучше копай картошку, а то скоро побежишь в бригаду дежурить. А там доярки, телятницы, свинарки молодые… Вот к кому ты бежишь. Я чуть занялась делом, а ты к Пелагее. И что ты всё у неё выясняешь, старый?
– И што ты завелась, как старая шарманка и пыхтишь, как самовар. У тебя, скажу, дурная головушка, мысли одни какие-то односторонние. О каких бабах думать мне, кому я нужен! – и дед Роман начал выкапывать картошку, которая была не крупнее куриного яйца. С каждого куста по десятку-полтора клубней разной величины. – Плоха, плоха земля, как зола: испеклась картошечка. И не помню, были ли дожди нынешним летом?
– В мае были с грозами и в июне раз или два, а опосля только брызгал дождичек, – спокойно ответила Устинья, пристыженная мужем, отчего уже отпало желание расспрашивать его. Да разве он признается в своей симпатии к невестке, молчит, как индюк, что-то про себя всё думает. Но она, Устинья, всё равно чувствовала, что ему интересней побыть с невесткой, чем с ней.
– Дождей было мало, а сорняки вымахали как чертополох. Вся ботва забита ими.
– Если бы я траву каженный день не дёргала, то было бы ещё больше, – ворчливо отозвалась Устинья. – А тебе всё некогда, всё с голубями возишься, как малое дитя.
– Ладно, хватит ныть, а то брошу и уйду! – прикрикнул раздражённо он, ворочая лопатой комья ссохшейся земли и разбивая её ребром лопаты.
– Ишь ты, противно со мной, а с Пелагеей болтал бы. Вон и она топает. Помидоры собирай! – повелительно крикнула Устинья невестке.
– Чего ты кричишь на неё, как на девчонку неразумную? – сказал спокойно дед Роман.
– А что, я должна шёпотом говорить отседова? Для меня она такая же, какой взял её Устин… – грубо прибавила Устинья. – Эта с нами она смирная, а как бы жили отдельно, чтоб вышло. Вон отделил Семён сынка, а ушёл на войну, так Зинка хвостом махнула и в город улетела. Ульяна, мать её, пацана взяла. А дочь отпустила, я бы так ни за что не поступила, будь у меня дочь…
– Это их дело, нам нечего совать нос. И куда наша внучка вышла замуж, теперь там одна. Пелагея переживает о Зойке, а ты говоришь…
– Ну, кто знал, что война застанет девку там? Ничаво, как-нибудь перетерпит, сама выбирала такую долю, а то своих было мало парней…
В посёлок стали доходить первые похоронки. У Прасковьи Дмитруковой погиб муж Изот и она не вышла первый раз на работу. Накричавшись от горя, лежала в горнице без чувств. Потом пришли похоронки на Бориса Емельянова, Ивана Гревцева, Кузьму Ёлкина, Захара Пирогова, Александра Чередникова. И пропали без вести Прохор Половинкин, Ефим Борецкий, Николай Волосков. Вместе с женами погибших и пропавших без вести плакали и все те женщины, у кого мужья или сыновья были тоже на фронте. Но от них долго что-то не было писем. Именно с первой похоронки люди непосредственно осознали, что идёт страшная кровопролитная война; она поглощает всё новые и новые жертвы; казалось, ей теперь не будет конца и края. В колхозе уборочная страда немного затягивалась. Председатель Костылёв ходил весь чёрный, он как мог успокаивал женщин, у которых погибли мужья. Уже наступила осень; летняя жара наконец ушла, но по-прежнему стояла пока сухая погода. Иногда по серому небу с запада шли чёрные тучи или в воздухе пахло гарью, перегоревшим порохом. С запада летели стаи разных птиц, изредка были еле слышны отдалённые взрывы…
Где бы люди не работали, то ли в поле, то ли на огородах, они невольно прислушивались и, казалось, ловили как нарастал, приближался гул орудий или отдалённые звуки вражеских самолётов. От этого вмиг становилось на душе как-то тревожно и беспокойно.
В октябре недели на две вся молодёжь была забрана рыть окопы под хутор Кадамовский, который находился в северо-восточной стороне в двадцати километрах от Новочеркасска. Спали в палатках, питались пшённой кашей и похлёбкой из фасоли. Когда начались внезапные налёты немецкой авиации, в основном городское население потянулось на восток со своими пожитками, а молодёжь разбегалась по своим домам. Хотя отступать пока никто не собирался, население посёлка Новый, в своё время намыкалось по свету, и потому не торопилось бросать свои дома, а ведь беженцы говорили, что немцы угоняли в рабство только трудоспособных. Эти слухи, конечно, пугали, создавали панические настроения, отчего некоторые ретиво принимались рыть на своих подворьях бомбоубежища или углубляли свои погреба, а также прятали в землю зерно. Правда, находились и такие люди, которые ничего не запахивали и не прятали, полагая, что фронт пройдёт от посёлка в стороне, так как для врага он не представлял важного стратегического объекта. В колхозе, однако, уже почти не осталось ни коров, ни телят, ни овец, ни свиней, ни лошадей, ни птицы, поскольку в своём большинстве живность и скот были уже отправлены на восток. Роман Захарович дежурил в основном на току, но по просьбе председателя обходил и фермы, свинарник, птичник, конюшню, где осталось всего четыре пары лошадей да несколько свиней, коров, птиц исключительно для нужд колхоза, или просто не успели вывезти.
Из клуба, где гуляла молодёжь, как-то неуместно доносилась гармошка и песни девчат. Однако весёлые частушки девки выкрикивали довольно редко, да и то под настроение или подходящий случай…
Сразу после октябрьских праздников на фронт забрали Сергея Зуева, Никона Путилина, Василия Винокурова, Виктора Тенина, у которого остался в памяти трогательный роман с Аней Перцевой, и теперь она, тоскуя, сидела дома.
Нина Зябликова, видя, как девушка убивалась по Виктору, думала: вот если бы призвали Дрона, она бы так ни за что не плакала. С Дроном она встречалась ещё с меньшим желанием, чем с Алёшей. А когда летом встретила молодого политрука, который по воскресеньям в степи проводил с девушками и парнями военную подготовку, к Дрону она совсем остыла, так как неожиданно для себя полюбила военного, но чего, пока не знали ни подруги, ни Дрон. Его звали Дима, правда, он был уже женат; об этом она узнала случайно, когда самые бедовые Лиза Винокурова и Лида Емельянова выпытали у того его семейное положение…
Нина понимала, что полюбила Диму, похоже, безответно, да к тому же видела, что вовсе не она одна влюблена в военного, но и другие девушки, как из ихнего посёлка, так и городские, что было видно по их глазам: они высвечивали то волнение, то печаль, то задумчивость. А их ребята смотрели на политрука с явным вызовом и даже тайной ревностью, если не понимали душевное состояние девчат. Собственно, они исключительно инстинктивно видели в нём потенциального соперника и задавали тому откровенно дерзкие вопросы:
– Почему, товарищ политрук, вас на фронт не взяли? – спросил Жора Куравин, с усмешкой переглядываясь со своими дружками.
– А кто вас будет обучать? Вот отзанимаемся и тогда на фронт попрошусь, – без обиняков ответил он.