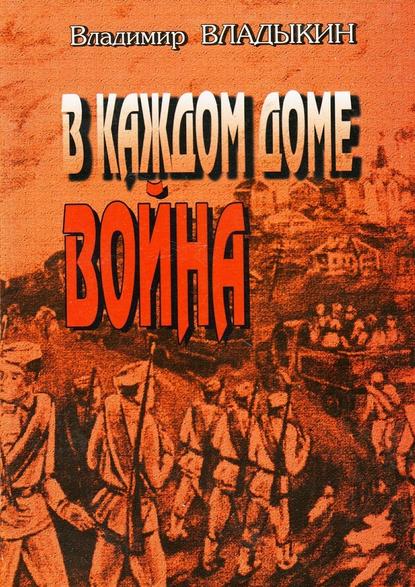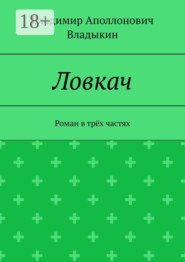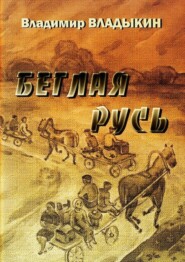По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В каждом доме война
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Примерно через час или того больше, немцы пришли с улицы и оповестили на ломаном русском, что завтра утром их начальство собирает всех жителей посёлка в клубе. А для чего именно, они сами точно не знали. Но как раз это неведение Екатерину пугало больше всего. Впрочем, она боялась вовсе не за себя, она беспокоилась за судьбу своих детей.
Немцы пошли укладываться спать на походных кроватях. А Екатерина, уложив сыновей на кровати, себе и дочери постелила тут же, в передней, на полу. Нина легла с тревогой на сердце, потому что мать пошла смотреть печь, в топке которой ещё тлели дрова и кизяки. Слегка задвинула заслонку на трубе, чтобы быстро не уходило тепло, и следом прикрыла поддувало побелёной кирпичиной, чтобы на пол не вываливались красные угольки. И после того, как сделала всё, надо было бы лечь отдыхать, но от пережитых за день волнений спать не хотелось. А из горницы уже вовсю доносился чужеродный храп здоровых мужчин: от сознания, что она приютила немцев, на душе было беспокойно, досадно потому, что после того, как прогонят немчуру, их могут обвинить в пособничестве захватчикам. Она подумала о Фёдоре: от него что-то давно не было писем. Как он там, в далёкой Сибири, и во сне почему-то его ни разу не видела. Может, это так надо? Значит, у него пока всё, слава богу, хорошо…
Екатерина осторожно, боясь скрипа дверей, вышла из хаты, чтобы посмотреть корову и кур. Посёлок спал. Нигде ни одного огонька. Только ветер шумел деревьями, как метавшийся в бреду больной. И кругом темнота – хоть выколи глаза. Где-то, должно быть, в стороне города слышна автоматная очередь, раздавался отдалённый настойчивый орудийный гул. От клуба ветер доносил обрывки немецкой речи, тявкала настырно чья-то собака. У соседей Дмитруковых немцев было трое. Дочери Прасковьи с вечера чему-то бесновато смеялись, а она их ворчливо усмиряла, обзывая дурёхами…
Екатерина видела, как один немец по двору гонялся за Машей, а потом выдохся и сам смеялся вместе с ней. Меньшая, Брана, в отличии от старшей, полнотелой, справной, гладколицей, с блестящими серыми глазами, была худенькая, как тростинка, с маленьким округлым лицом, весёлыми серо-голубыми глазами, островатым, вечно будто удивлённым тонким носиком, немцев ничем не привлекала. Однако у неё был звонкий голос, часто она грубила Прасковье. И была всего на год моложе сестры, но с парнями не зналась и в клуб на танцы до войны ходила очень редко, стесняясь своей худосочности. Хотя любила и сплясать барыню, и спеть частушки. Её, обладавшую мелодичным голосом, приглашали для участия в художественной самодеятельности, которую к праздникам готовила, бывало, Авдотья Треухова с гармонистом Захаром Пироговым, жена которого Павла бросала в такой день репетиций домашние дела и шла в клуб смотреть за мужем. Авдотья шутливо и всерьёз приглашала её в хор для спевок. Но Павла грубо и наотрез отказывалась. Над ней шутили мужики и смеялись бабы.
Екатерина слышала это после от тех же языкастых баб на наряде. Теперь, когда шла война, прошлая жизнь казалась прекрасной, счастливой, но её не всегда умели ценить. Посёлок спал: ночная тишина, помимо ветра, время от времени нарушалась то гулом орудий, то где-то ехали машины, ревя двигателями. Екатерина опять подумала о том, что завтра для всех посельчан наступит тяжёлая пора испытаний под гнётом оккупационных немецких войск. Только бы немцы не лютовали над простыми, ни в чём не повинными людьми. В газетах писали о зверствах нацистов на захваченных территориях, как людей безжалостно угоняют тысячами в рабство, а немало расстреливали или вешали. Наконец Екатерина пошла в хату, снедаемая страхом, как бы немцы не утащили к себе дочь, а Денис, чего доброго, начнёт заступаться за сестру и пострадает…
Но в горницах слышались лишь сонное сопение сыновей да крепкий храп немцев. Екатерина, как была в тёмной юбке и вязаной кофте, сняв фуфайку и бурки, легла на пол. Остерегаясь потревожить спокойный, неслышный сон дочери, перевела дыхание и постаралась заснуть, чтобы завтра собраться с силами для испытаний. В мишкинскую школу дети вряд ли пойдут. И Денис не поедет на училищную практику. Было слышно, как на крыше ветер ворошил солому, забираясь с подвыванием в застрехи и где-то там, на полати, носились со свистом мыши. Когда немцы вошли, кот выскочил в сени и по стене залез в дыру на чердак, и с того дня оттуда не слазил. Даже животное видело в пришельцах чужеродных людей. С этими мыслями Екатерина погружалась в сонное забытьё, которое теперь для неё было слаще всего.
Почти те же чувства в этот вечер владели многими людьми в посёлке. К Макару жалась жена Феня, у которых на постое было четыре немца, занявшие почти всю хату, вытеснив хозяев. Шура и Назар не успели уйти из дому, как того велел им отец – немцы вернули. Восьмилетняя Ольга даже под кровать не спряталась – сидела в углу, исподлобья настороженно наблюдала за вражескими солдатами. Они окружили Шуру и весело, сверкая наглыми глазами, болтали, предлагая пройтись с ними под руку по посёлку, называя её крестьянской фройлен. Цокали нарочито восхищённо языками, качали от показного удовольствия головами. Они смеялись, острили. Потом пришёл, видно, старший по званию и заговорил с солдатами на повышенных тонах, после чего немцы больше Шуру не затрагивали. Макар позже дочери пришёл с колхозного двора, увидев жалостный, полный сострадания взгляд жены.
– Я уже стала беспокоиться. Немцы, видишь, какие все нахрапистые: яйца им отдай да молока подавай. И ублажила, а тебя чего они задержали?
– Спросили, что тут на своей земле делаю. Почему не на фронте, не партизан ли, всю контору перевернули верх дном. Что там искали – не сказали, – говорил Макар неторопливо, слегка волнуясь. – А вы-то как тут, у нас их много?
Феня, вместо ответа, показала на пальцах, согнув один, и шёпотом прибавила, что Шуру и Назара догнали и пригнали, как скот.
– И автоматами в них целились, во дворе поставили под сарай, – говорила тихо жена, – я чуть было крик не подняла, а им смешно только. Попугать так решили. Что теперь нам делать?
– Завтра мне велели собрать сход. Я им признался, что являюсь тут председателем колхоза. Хотят выбрать старосту, составят список всех жителей. Меня настрого предупредили: кто поведёт себя враждебно к новой власти немецкого Вермахта, тот будет караться смертью.
Феня сокрушённо покачала головой, задумалась.
– И ты будешь у них старостой? – спросила в страхе.
– Не знаю. Но колхоз останется, и люди должны с завтрашнего дня работать на земле для Германии: их власть у нас навсегда – так они считают.
Немцы в горнице играли в карты, пили шнапс: дым висел сизыми лоскутами. Они подозвали Назара и тот, кто проиграл бил его картами по лицу. Заставляли пить шнапс. Назар пил короткими глотками и краснел, после чего ему стало дурно. Его увела Феня. Макар как умел объяснял: лучше бы его угостили, чем пацана. Но немцы, смеялись, сворачивали фигу, как-то дурно обозвав его по-своему. И по-русски пытались заговорить о дочери, что увезут её в Германию для увеселительного заведения одной фрау, которая любит содержать иностранных барышень. И будет её дочь счастлива…
Затем немцы ушли куда-то к своим, Макар слышал смех девчат, возвращавшихся с колхозной дойки. На ферме по собственному желанию осталась дежурить Домна Ермилова. На телятнике, где уже телят не было, стояли быки, которые раньше с лошадями занимали один общий длинный сарай. И вот ночью быков стерегла Натаха Мощева, а ток и свинарник охранял Роман Климов, птичник приглядывала Василиса Тучина. Кузня который месяц была уже закрыта, так как кузнец Иван Горшков с братом Титом ушли на фронт.
Почему так смешно было дояркам, Макар не знал; но он бы так не удивился, если бы это происходило в мирное время, а тут пришли немцы. А им почему-то стало смешно, будто дождались своих кавалеров, что значит молодость – всё как бы ни по чём.
Наверное, через час во дворе послышались голоса немцев, шумно вошли в хату, внеся чужеродные солдатские запахи. Потом алчно смотрели на Шуру. Подозвали Ольгу, держа в руках шоколадки. Она жалась к подолу мачехи. Тогда толстый немец сам подошёл и дал шоколадку, лопоча по-своему, потрепал слегка за щёчки девочку. Увидев настороженные, испуганные глаза русской женщины, немец произнёс, подбирая русские слова:
– Ми не фашист. Ми немецкий зольдат воеватен против большевик, а мирний житель ми не трогаль. Каратель трогайт, пуф-пуф, а мы – найн.
Он подошёл к Макару, всматриваясь в его простое русское лицо.
– Ти большевик? Я, я, ти бойся не нас, а каратель есэс. Он большевик пух-пух! А ми даже не регулярный воинский часть, ми на Кавказ, там нефть на наш танка. Вашу Москву ми узе взяль. А Сталин – сбежаль…
Оккупанты, назвав его Фрицем, довольно грубо оборвали, резко замахав руками, вытолкав из горницы прочь. Макар без труда смекнул о том, что немец пытался объяснить ему о положении на фронте, о взятии нашей столицы и о якобы бегстве вождя Сталина. Макар, конечно, не слыл легковерным и не принимал близко к сердцу слова весёлого, к тому же болтливого, вражеского солдата. Наверное, он нарочно хотел выставить своих соплеменников не такими злодеями, какими их расписывают в советских газетах. Разумеется, о расправах захватчиков над мирным населением в газетах писали, и не было оснований им не верить. А эти, стоявшие в посёлке немцы, по словам Фрица, отделяли себя от истинных фашистов. И какая между ними принципиальная разница, Макар не знал. На вид они обычные люди, только облачены в военную форму и при оружии. Но пока у них, слава богу, не слышно было ни одного выстрела, пока они никого не ограбили, не обидели; если не считать того, что вторглись в хаты, где заняли лучшие места и захватили весь посёлок, принеся с собой кровавое дыхание войны. И что удивительно, Макар пока не испытывал к врагу лютой ненависти, и окажись у него в руках оружие – обычная винтовка, он бы и тогда не стал стрелять в немцев, и он даже точно не ведал: как должен вести себя человек в условиях оккупации? Конечно, однозначно – за доброе отношение немцев к меньшей дочери и прощение старших – дочери и сына, Макар не мог быть не благодарным немцам. А вот любить их за выказанное милосердие – не собирался. Ведь когда он услышал от жены, что немцы имитировали расстрел Шуры и Назара, ему стало дурно. Их старший офицер заступился за Шуру, отогнал солдат. Однако это не означало, что он заслуживал какое-то особое, почтительное уважение. Но нечто похожее Макар всё же почему-то к нему испытывал. Видать, не все немцы жестокосердны, хотя это качество в полной мере ещё не проявили. Большей частью они склонны вести себя на чужой земле соответственно обстановке. Пока им явно тут никто не угрожает, они готовы и позабавиться с девушками без учинения насилия, и начать с удовольствием насаждать свои германские порядки. А вот этому русская душа противилась всем своим существом…
Когда немец спросил у него, большевик ли он, Макар удивился оттого, что Фриц, интересуясь его партийной принадлежностью, словно в этом был осведомлён. И будь на его месте настоящий фашист, тогда бы ему не поздоровилось. Фриц не стал допытываться у него, прав ли он в своей догадке или, наверное, всерьёз полагал, что всякий русский – это большевик. Неужели для немцев большевик так же страшен, как для них, советских людей, фашист? Эти слова будто бы наполнены непримиримым враждебным духом для чужих народов! Макар не был силён в политике и потому больше не стал доискиваться истины. Хотя сейчас она была в том, что немцы хозяйничали на их земле, куда их никто не звал. А ведь Макар чуть не признался (по неведению), что он большевик, не причинивший их стране вреда…
Дети легли спать на кровати; жена приставила к ней длинную лавку, постелила на неё старую одежину. Назар почему-то хмуро молчал, не смотрел на отца, курившего цигарку, сидя у окна. С отцом сын и раньше вёл себя малообщительно. Назар закончил семилетку и хотел учиться дальше. Но Макар тогда, утративший власть в пользу Корсакова, не стал просить Гаврила, чтобы направил парня хотя бы на какие-либо курсы. Нет, бухгалтером и агрономом Назар быть не собирался, так как ему нравилась техника, и он хотел стать механиком над всей тракторной станцией. Водить трактор он выучился довольно быстро у Матвея Чесанова, к которому Назар похаживал даже во время полевых работ то ли сева, то ли боронования. И Матвей усаживал рядом с собой Назара, этого необщительного, несколько угловатого, но смекалистого, ловившего на лету его науку.
Макар об этом знал и не запрещал сыну постигать дело пахаря. Потом, уже при Корсакове, Назар получил официально путёвку в механизаторы: два месяца обучался на тракториста, после чего думал пойти в техникум. Однако отец не уважил сыну, не испросил у председателя направление, чем посеял против себя у сына лютую обиду. Ведь он знал, как отец в своё время послал на учёбу Алёшу Жернова, а родному дитю в этом отказал. Однако Макар не стал объяснять Назару, почему он так поступил; и таким образом, между сыном и отцом встала стена негласной вражды. Но Назар не выговаривал отцу упрёков, что обрекал его на вечную долю тракториста. И вообще, Макар лучше относился к Шуре, чем к нему, отчего ему казалось, что он не любил его, никогда не интересовался у сына, о чём он мечтал, о чём думал. И Назар взрослел, чувствовал себя совершенно обделённым со всех сторон, ведь мачеха занималась только с Ольгой, тогда как его, Назара, она как будто стеснялась. И то правда, в её ласке он не нуждался, слывя с детства чересчур гордым, самолюбивым, зазнающимся, так как он сознавал себя сыном председателя колхоза. И потому хотел держать верх над пацанами, чего те этого не допускали ни в какую. Назар же из-за неподчинения его воле чрезвычайно злился, таил обиду и пытался им мстить. С Дроном он однажды даже подрался, но не одолел того, поскольку тот был нагл и груб. Назар ненавидел ребят за одно то, что они его не почитали как сына председателя, а ведь должны были ему неукоснительно подчиняться. Но даже пацаны Зябликовы, будучи тогда их соседями, которыми он пытался командовать, норовили не принимать его в свою компанию только потому, что Назар навязывал им свои правила игры…
Глава 9
К Жерновым на постой прибыли два унтер-офицера. Они были невысокие, как на подбор, несколько щупловатые. Марфа встретила их с улыбкой непритворного радушия. Хотя сама была, как струна, вся натянута. Её отец, Никита Андреевич, как раз подшивал валенки суровой дратвой, сидя на скамеечке возле печи, от которой исходило тепло остывающих древесных углей и кизяков. Дочери Марфы сидели в передней горнице с потухшими глазами, как две молоденькие старушки, которые не отличались завидной девичьей статью. Наташа и Настя были в цветастых одинаковых юбках и коричневых блузках, с подобранными на затылке русыми с рыженцой волосами. Лица у них некрасивые, маленькие. У Наташи под глазами к носу рассыпаны веснушки, которые ей частенько портили настроение.
Алёша, до прихода немцев, бойко рассказывал сёстрам и деду вычитанный в газете рассказ, как в одном селе наши войска отчаянно били фашистов. Теперь он, притихший, растерянный, сидел возле деда, а газета лежала на столе. Немцы увидели снимок с подбитыми их танками и вверху заголовок: «Враг отброшен» и один раздражённо сказал:
– Советский пропаганд! Мы узе в Москва. Ви будете свободен от большевик. Ти согласен? – спросил он у Никиты Андреевича.
– Они ещё всыпят перцу – погодите, – пробурчал Осташкин, не отрывая глаз от валенка. Ему было крайне неприятно, как немцы заинтересованно созерцали его, словно он был для них русским чудо-мужиком.
Второй немец, встав в раскорячку, чуть согнувшись, разглядывал внимательно работу старика и качал головой, словно для него в эту минуту не было забавнее зрелища, чем подшивание валенок русским дедом. Однако первый унтер-офицер слова деда расслышал, но подлинного смысла вряд ли уяснил, и почему-то засмеялся, хлопнув ладонью деда по плечу. Осташкин поднял глаза, сверкнув линзами круглых очков; он сжал челюсти, напрягся, ожидая удара в лицо. Но вместо этого немец рассудительно и приподнято заговорил:
– Ничьего, фатер, война узе к весну закончитца, ми сделай вам счастливый зизнь! Арбайтен на Германий и хлеб ти получай – вир!
Затем немец приблизился к сидевшим на кровати девушкам, став им пояснять, что надо постирать вещи и это они должны сделать немедленно.
– Где у вас тють русский бань? – спросил первый офицер Осташкина.
– В корыте моемся – нет бани – ответил дед грубо.
– Плёхо, швайн! Советен строй плёхой, я, я, немецкий культур получайте…
– А чем же лучше ваш, фашистский?
Но в этот момент немцы бойко заговорили между собой и последних слов старика не услышали. Марфа как раз вошла в хату с ведёрком молока, запах которого разошёлся по горнице, с лёгкой примесью навозного. Вражеские постояльцы закрыли ноздри, сморщились, яростно замахав на женщину руками, как бы отгоняя от себя проказу русского быта. Марфа испуганно и растерянно взирала на немцев, переведя взгляд на отца, затем на детей: всё ли у них тут в порядке, пока её не было в хате.
– Млёко вир, карошо, дух русский швайн! – воскликнул немец с рыбьими глазами, с прогнутым носом. Затем сказал, чтобы хозяйка сварила картошку и принесла сала, а сами пошли в горницу, где и разделись. И вытянулись на железной кровати с мягкой пуховой периной, вдруг став смеяться. Они курили пахучие папиросы, с запахом душистого табака.
Никита Андреевич, работая проворно шилом, иглой, обдумывал слова немца, сказавшего о планах своего начальства относительно обустройства русской жизни по новому немецкому порядку. Немец, кажется, говорил искренне, полагая, что русский народ с радостью примет новый уклад послевоенного времени, что германские войска принесли им освобождение от коммунистического ига, что отныне на их земле воцарится цивилизованный европейский строй на основе немецкой культуры. Да, Осташкин был издавна наслышан о том, какие немцы педантичные, пунктуальные, любящие хозяйничать красиво, весьма рачительно и расчетливо, продумывая все до мельчайших подробностей. Но привьётся ли их уклад, это ещё вилами писано, да и вряд ли они хотят счастья советским людям, наверняка у них свои планы. Недаром они себя называют фашистами, что же, разрушив до основания наши города и посёлки, спалив сёла и деревни, угнав людей в плен, разве сами они всё это восстановят и переобучат на свой лад народ? Как бы не так! Да, они замышляют варварски стереть с лица земли нашу могучую страну. Переселить свои народы, чтобы на чужой захваченной ими земле построить германские города и насадить свою культуру. И русскую нацию, как в газетах внук читал, уничтожить или обратить в рабство. Мы сами должны строить у себя их города и учиться у них? Вот это и будет счастливая жизнь? В таком разе не нужен нам их европейский рай, сами построим свой, когда изгоним, как всегда изгонял врагов со своей земли русский мужик. И выдюживал все лишения и невзгоды, и возрождался русский народ. Единственно Осташкин был с немцами согласен в том, что большевики не нужны, ведь сколько они горя принесли своему народу, как эту революцию учинили в семнадцатом. И опять-таки слух тогда о Ленине ходил, что без германцев, их денег, он ничего бы не сделал. Это, дескать, немцы захотели уничтожить руками большевиков Российскую империю. Собственно, ещё издавна германские племена вторгались в русские княжества. Их всегда разбивали наши славянские дружины во главе с Александром Невским. Уже который век немцы пытаются покорить Русь. Да, большевики с немцами замирились, чтобы в Гражданской войне перебить правящий класс, с чем справились, однако, посеяв вместе с этим разруху, голод и мор. Но немцы почему-то не успокоились и снова пошли на Русь, чтобы сокрушить обманщиков-большевиков, присвоивших их деньги. Они и свой народ обманули: землю сначала дали, а потом отобрали и насадили колхозы. И от их самоуправства крестьянам нет поныне никакого продыху. Вот уже больше десяти лет Осташкин должен приноровляться к колхозным устоям, отбирающим личную инициативу, отучающим самостоятельно трудиться на земле. И ещё надо председателю в ножки кланяться по каждому пустяку. Костылёв предложил Осташкину стать конюхом, и он с радостью пошёл, ведь на конюшне видишь меньше начальство…
Марфа начистила полведра картошки на своих чад и немцев. Себе жарила на сале – вражеским солдатам варила и думала, что теперь картошки на всю зиму не хватит, отчего дух уходил в пятки. Отец видел, как она нервно чистила картошку, боясь с ним заговорить, да и он тоже помалкивал, прислушиваясь к громкой немецкой речи и солдатскому хохоту. Ему было противно оттого, что они обзывали их грязными свиньями, ставя ни во что. Лампа вдруг стала гаснуть – кончался керосин. Алёша достал из-за сундука маленькую канистру с керосином, налил в посудину, и затем заправил бачок лампы. У немцев было темно: сквозь цветные ситцевые шторки на окнах виднелись огоньки в хатах противоположной стороны улицы через балку. Напротив них на поляне виднелась школа, за ней – клуб, где были также немцы, и стояла их боевая техника. Алёша подумал – можно подкрасться к ней с канистрой, плеснуть на неё керосинчику и бросить зажжённую спичку. Вот бы подговорить кого-либо из ребят, но дальше этой мысли дело у него не пошло – просто духу не хватило. Впрочем, он очень боялся, что немцы их схватят и на месте расстреляют. А он ещё и не жил. Уж лучше бы пришли тайком наши солдаты и выкурили бы отсюда немцев, да где они теперь. Алёша уже забыл, что ещё до войны, когда Нина бросила его, он думал, вот, дескать, была бы сейчас война, так он бы добровольцем первым ушёл на фронт. Но сейчас он так уже не мечтал. И не потому, что в посёлке никто не записался добровольцем на фронт, просто он чувствовал, что к такому шагу внутренне ещё не готов. Впрочем, такую мысль он не допускал к себе, им безраздельно владела одна мысль, что всё равно пойдёт служить в армию, если бы даже не было войны. А сейчас, в условиях оккупации, он невольно тешил себя мыслью, что было бы ему восемнадцать лет, то его бы не могли забрать на фронт. Словом, чем дольше будет продолжаться война, тем вероятней всего можно остаться невредимым. Конечно, так было думать подло, в то время как другие земляки сражаются и погибают, защищая Родину.
Такие трусливые настроения к Алёше стали приходить после того, как в посёлок начали приходить похоронки или извещения о без вести пропавших. Эти сообщения возбудили в нём опасность, что он тоже может погибнуть в пекле войны или сгинуть без следа, тогда как он ещё до путя с девками не целовался и не стал мужчиной. Когда немцы пошли дрыхнуть, Алёша не без страха скомкал и сунул в топку печи газету, которая враз вспыхнула, выбивая сильное пламя в щели чугунных кружков. Сунул он, между прочим, так быстро, что Никита Андреевич не успел даже остановить его. А потом, жестикулируя руками, мимикой лица, дал внуку понять, что зря он так скоро расправился с газетой. Сёстры при этом тупо смотрели на брата, словно с приходом немцев потеряли разум. Раньше они что-то шили или вязали, или готовили еду.
– Вас они не трогали? – тихо спросила Марфа.
– Нет, просили только постирать им тряпки, – ответила Наташа.
– А чего им от нас надо? – поинтересовалась в оторопи Настя, часто моргая.
– Они знают чего, а вам ещё надо объяснять, своего ума нет? Ой, да какие же вы у меня глупые! А ты чего смотришь? – спросила мать у сына.
– Это они смогли бы, если бы меня не было, – прихвастнул самодовольно Алёша, гордо при этом глядя на сестёр. Марфа раздражённо махнула рукой. Хотя Алёше действительно, казалось, что немцы при нём вели себя по отношению сестёр прилично.
На бахвальство внука Осташкин тихо засмеялся, причём, сдерживая смех и получился приглушённый визгливо-скрипучий звук, как у колодезного журавля.
Часа через полтора немцы встали, принявшись распаковывать свои довольно вместительные походные ранцы.