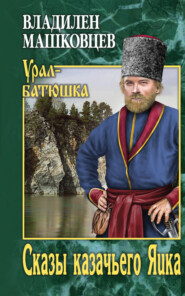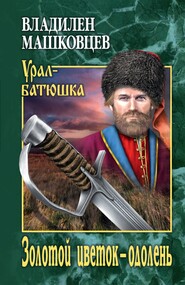По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Время красного дракона
Серия
Год написания книги
1991
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Александр Николаевич вошел в избу, выпил кринку ершистого холодного кваса, присел на лавку у стола, под разоренной, пустой божничкой. Фроська налила ему в стакан мутной, сизоватой, но крепкой самогонки, подвинула миски с грибами, огурцами, вареной картошкой, хлебом.
– Кролик в жаровне, еще не приспел, румянится в печке, – громыхнула хозяйка заслонкой о шесток.
Придорогин чувствовал себя неловко, не знал, о чем говорить, но после стакана первача чуточку осмелел.
– У нас в НКВД, Ефросинья, подозрение на тебя возникло.
– В чем же меня опять сподозрили?
– Не знаю, как и начать, подозрениев много.
– Выкладывайте, Сан Николаич.
– Ответь вот, как и где прознала ты, что Аркашка твой пулей пробит, в Ялте лечится?
– В какой-такой Ялте?
– У моря.
– Про море и пулю ведаю из ворожбы, про Ялту слышу впервой.
– Мы в колдовство и нечистые силы не верим, Фрося.
– А кто вам спину тер в бане?
– В бане я угорел, мне показалось. Лучше скажи, с кем ты держишь тайную связь?
– С бабкой, Сан Николаич.
– С какой бабкой? Которая померла?
– А с какой же еще?
– Где она скрывается? – выпил второй стакан самогону Придорогин.
– В данный момент в горнице, под кроватью.
– Я хочу видеть ее.
– Ваше хотение будет исполнено, Сан Николаич.
– Ты знаешь, кто я? Я немножко начальник НКВД.
– А я маленечко колдунья.
– С тобой не соскучишься, Фроська.
– Пейте, кушайте, – заполнила хозяйка стакан в третий раз.
– Какой у тебя интерес поить и кормить меня?
– Пропуск в тюрьму получу, передачу деду унесу. Получу право на свидание с дедом.
– Накось, выкуси! – показал Придорогин кукиш. – Милиция не продается. Твой самогон я, считай, реквизировал. Ха-ха! И не морочь мне голову. Служба информации у нас работает отлично. А передачи своему деду ты и без меня каждый день переправляешь.
– Через кого?
– Через тюремного водовоза Ахмета и расконвоированного портного Штырцкобера, – одним залихватским махом проглотил четвертый стакан самогонки начальник НКВД.
За окном промелькнула тень – схожая с Трубочистом. Снова кто-то выстрелил из ракетницы. У соседей залаял злобно хрипастый волкодав. Придорогин расстегнул кобуру, предупредил хозяйку:
– Учти, если засада, ловушка, буду стрелять по-революционному, безжалостно, промеж глаз.
– Сан Николаич, смерть вам не угрожает. Вы умрете в Челябинске.
– Меня повысят? Переведут в область?
– Не знаю.
– Меня могут очень повысить. Федоров в Челябинске – мой друг.
– Вы все о делах, о службе, Сан Николаич.
– Я могутен и про любовь, интимность, так сказать.
– Я вам нравлюсь? Я красивая?
– Вам все дала партия, советская власть, штобы красивыми быть.
– Титечки-то мне дал бог, а не партия, не советская власть.
– Титьки и другие места у тебя, Фроська, в приглядности. Разболокайся и ложись со мной в постель. Для того я и прибыл, можно сказать.
– Как вы могли произнести мерзопакость такую? – достала Фроська из-за печки рогач.
– Чо ты невинницу-то разыгрываешь? К Порошину-то аж на третий этаж лазила. Ха-ха!
– У нас любовь была.
– И я тебе не мотоцикл предлагаю, Фрось.
– Кролик-то зарумянился, – достала хозяйка жаровню из печки. – Под мясо в чесноке и новый стаканчик прокатится.
Придорогин пил, ел, но замысла не терял:
– Ты мне зубы не заговаривай, разболокайся, до пролетарской гольности с полным согласием.
Фроська долго отбрыкивалась, хохотала, но в конце концов согласилась: