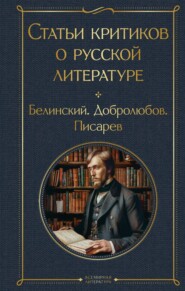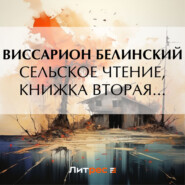По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Взгляд на русскую литературу 1847 года
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Виссарион Григорьевич Белинский
«Взгляд на русскую литературу 1847 года» является последним годовым обзором русской литературы и по существу итоговой работой Белинского.
Белинский подчеркнул, что русская литература началась не только победными одами Ломоносова, но и «натурализмом», сатирой Кантемира. В эту широкую историческую перспективу Белинский вводит и натуральную школу, справедливо рассматривая ее как результат развития всей русской литературы. С глубоким удовлетворением Белинский пишет в своей статье, что «натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литературы» и что «романы и повести ее читаются публикою с особенным интересом».
Настоящий обзор чрезвычайно важен еще и тем, что Белинский дал в нем анализ лучших произведений натуральной школы – романов «Кто виноват?» Герцена, «Обыкновенная история» Гончарова, повести «Антон Горемыка» Григоровича, «Записок охотника» Тургенева и др.
Виссарион Григорьевич Белинский
Взгляд на русскую литературу 1847 года
Статья первая
Время и прогресс. – Фельетонисты – враги прогресса. – Употребление иностранных слов в русском языке. – Годичные обозрения русской литературы в альманахах двадцатых годов. – Обозрение русской литературы 1814 года, г. Греча,[1 - «Обозрение русской литературы 1814 г. Греча» упомянуто в тексте «Современника», но в издании Солдатенкова оно пропущено по недосмотру.]– Обозрение нашего времени. – Натуральная школа. – Ее происхождение. – Гоголь. – Нападки на натуральную школу. – Рассмотрение этих нападок.
Когда долго не бывает тех замечательных событий, которые резко изменяют в чем-нибудь обычное течение дел и круто поворачивают его в другую сторону, все года кажутся похожими один на другой. Новый год празднуется как условный календарный праздник, и людям кажется, что вся перемена, все новое, принесенное истекшим годом, состоит только в том, что каждый из них и еще одним) годом стал старее —
И хором бабушки твердят:
Как наши годы-то летят!
А между тем как оглянется человек назад и пробежит в своей памяти несколько таких годов, то и видит, что все стало с тех пор как-то не так, как было прежде. Разумеется, тут у всякого свой календарь, свои люстры, олимпиады, десятилетия, годины, эпохи, периоды, определяемые и назначаемые событиями его собственной жизни. И потому один говорит: «как все переменилось в последние двадцать лет!» Для другого перемена произошла в десять, для третьего – в пять лет. В чем заключается она, эта перемена, не всякий может определить, но всякий чувствует, что вот с такого-то времени точно произошла какая-то перемена, что и он как будто не тот, да и другие не те, да не совсем тот порядок и ход самых обыкновенных дел на свете. И вот одни жалуются, что все стало хуже; другие – в восторге, что становится лучше. Разумеется, тут зло и добро определяется большею частию личным положением каждого, и каждый свою собственную особу ставит центром событий и все на свете относит к ней: ему стало хуже, и он думает, что все и для всех стало хуже, и наоборот. Но так понимает дело большинство, масса; люди наблюдающие и мыслящие в изменении обычного хода житейских дел видят, напротив, не одно улучшение или понижение их собственного положения, но изменение понятий и нравов общества, следовательно, развитие общественной жизни. Развитие для них есть ход вперед, следовательно, улучшение, успех, прогресс.
Фельетонисты, которых у нас теперь развелось такое множество и которые, по обязанности своей еженедельно рассуждать в газетах о том, что в Петербурге погода постоянно дурна, считают себя глубокими мыслителями и глашатаями великих истин, – фельетонисты наши очень невзлюбили слово прогресс и преследуют его с тем остроумием, которого неоспоримую и блестящую славу они делят только с нашими же водевилистами. За что же слово прогресс навлекло на себя особенное гонение этих остроумных господ? Причин много разных. Одному слово это не любо потому, что о нем не слышно было в то время, когда он был молод и еще как-нибудь и смог бы понять его. Другому потому, что это слово введено в употребление не им, а другими, – людьми, которые не пишут ни фельетонов, ни водевилей, а между тем имеют, в литературе такое влияние, что могут вводить в употребление новые слова. Третьему это слово противно потому, что оно вошло в употребление без его ведома, спросу и совета, тогда как он убежден, что без его участия ничего важного не должно делаться в литературе. Между этими господами много больших охотников выдумать что-нибудь новое, да только это никогда им не удается. Они и выдумывают, да все невпопад, и все их нововведения отзываются чаромутием[2 - «Чаромутие» – магия. Белинский употребляет это слово, намекая на вышедшую в 1846 году весьма странную книгу под названием «Чаромутие, или священный язык магов, волхвов и жрецов, открытый Платоном Лукашевичем с прибавлением обращенных им же в прямую истоть чаромути и чорной истоти языков русского и других славянских и части латинского». Об этой книге см. иронические замечания в «Отечественных записках», 1847, т. L, № 2, отд. VI, стр. 107–108, в «Современнике», 1847, т. II, № 4, отд. IV, стр. 175.] и возбуждают смех. Зато чуть только кто-нибудь скажет новую мысль или употребит новое слово, им все кажется, что вот именно эту-то мысль или это-то слово они и выдумали бы непременно, если бы их не упредили и, таким образом, не перебили у них случая отличиться нововведением. Есть между этими господами и такие, которые еще не пережили эпохи, когда человек способен еще учиться, и по летам своим могли бы понять слово прогресс, так не могут достичь этого по другим, «не зависящим от них обстоятельствам». При всем нашем уважении к господам фельетонистам и водевилистам и к их доказанному блестящему остроумию мы не войдем с ними в спор, боясь, что бой был бы слишком неравен, разумеется – для нас… Есть еще особенный род врагов прогресса, – это люди, которые тем сильнейшую чувствуют к этому слову ненависть, чем лучше понимают его смысл и значение. Тут уже ненависть собственно не к слову, а к идее, которую оно выражает, и на невинном слове вымещается досада на его значение. Им, этим людям, хотелось бы уверить и себя и других, что застой лучше движения, старое всегда лучше нового и жизнь задним числом есть настоящая, истинная жизнь, исполненная счастия и нравственности. Они соглашаются, хотя и с болью в сердце, что мир всегда изменялся и никогда не стоял долго на точке нравственного замерзания, но в этом-то они и видят причину всех зол на свете. Вместо всякого спора с этими господами, вместо всяких доказательств и доводов против них мы скажем, что это – китайцы… Такое название решает вопрос лучше всяких исследований и рассуждений…[3 - Выпад против славянофилов. Слово «китаизм» часто употреблялось Белинским в смысле: отсталость, темнота, бескультурье и пр. Об отсталости Китая писал перед этим Иакинф в книге «Китай в гражданском и нравственном отношении» (1846). Белинский рецензировал эту книгу в «Современнике» (1848, № 1, отд. III, стр. 44–49).]
Слово прогресс естественно должно было встретить особенную неприязнь к нему со стороны пуристов русского языка, которые возмущаются всяким иностранным словом, как ересью или расколом в ортодоксии родного языка. Подобный пуризм имеет свое законное и дельное основание; но тем не менее он – односторонность, доведенная до последней крайности. Некоторые из старых писателей, не любя современной русской литературы (потому что она их далеко обошла, а они от нее далеко отстали и, таким образом, лишились всякой возможности играть в ней сколько-нибудь значительную роль), прикрываются пуризмом и твердят беспрестанно, что в наше время прекрасный русский язык всячески искажается и уродуется, особенно введением в него иностранных слов. Но кто же не знает, что пуристы говорили то же самое об эпохе Карамзина? Стало быть, наше время терпит тут совершенную напраслину, и если оно виновато в том, в чем его обвиняют, то отнюдь не больше всякого другого времени, предшествовавшего ему. Если бы употребление в русском языке иностранных слов и было злом, – оно зло необходимое, корень которого глубоко лежит в реформе Петри Великого, познакомившей нас со множеством до того совершенно чуждых нам понятий, для выражения которых у нас не было своих слов. Поэтому необходимо было чужие понятия и выражать чужими готовыми словами. Некоторые из этих слов так и остались непереведенными и незамененными и потому получили право гражданства в русском словаре. Все к ним привыкли, и все их понимают; за что же гнать их? Конечно, простолюдин не поймет слов: инстинкт, эгоизм, но не потому, что они иностранные, а потому, что его уму чужды выражаемые ими понятия, и слова побудка, ячество не будут для него нисколько яснее инстинкта и эгоизма. Простолюдины не понимают многих чисто русских слов, которых смысл вне тесного круга их обычных житейских понятий, например: событие, современность, возникновение и т. п., и хорошо понимают иностранные слова, выражающие относящиеся к их быту или не чуждые его понятия, например: пачпорт, билет, ассигнация, квитанция и т. п. Что же касается до людей образованных, то инстинкт для них – воля ваша – яснее и понятнее побудки, эгоизм – ячества, факты – бытей. Но если одни иностранные слова удержались и получили в русском языке право гражданства, зато другие с течением времени были удачно заменены русскими, большею частию вновь составленными. Так, Тредьяковский, говорят, ввел слово предмет, а Карамзин – промышленность. Таких русских слов, удачно заменивших собою иностранные, множество. И мы первые скажем, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово – значит оскорблять и здравый смысл и здравый вкус. Так, например, ничего не может быть нелепее и диче, как употребление слова утрировать вместо преувеличивать. Каждая эпоха русской литературы ознаменовывалась наплывом иностранных слов; наша, разумеется, не избегла его. И это еще не скоро кончится: знакомство с новыми идеями, выработавшимися на чуждой нам почве, всегда будет приводить к нам и новые слова. Но чем дальше, тем менее это будет заметно, потому что до сих пор мы вдруг знакомились с целым кругом дотоле чуждых нам понятий. По мере наших успехов в сближении с Европою, запасы чуждых нам понятий будут все более и более истощаться, и новым для нас будет только то, что ново и для самой Европы. Тогда естественно и заимствования пойдут ровнее, тише, потому что мы будем уже не догонять Европу, а итти с нею рядом, не говоря уже о том, что и язык русский с течением времени будет все более и более вырабатываться, развиваться, становиться гибче и определеннее.
Нет сомнения, что охота пестрить русскую речь иностранными словами без нужды, без достаточного основания противна здравому смыслу и здравому вкусу, но она вредит не русскому языку и не русской литературе, а только тем, кто одержим ею. Но противоположная крайность, то есть неумеренный пуризм, производит те же следствия, потому что крайности сходятся. Судьба языка не может зависеть от произвола того или другого лица. У языка есть хранитель надежный и верный: это – его же собственный дух, гений. Вот почему из множества вводимых иностранных слов удерживаются только немногие, а остальные сами собою исчезают. Тому же самому закону подлежат и новосоставляемые русские слова: одни из них удерживаются, другие исчезают. Неудачно придуманное русское слово для выражения чуждого понятия не только не лучше, но решительно хуже иностранного слова. Говорят, для слова прогресс не нужно и выдумывать нового слова, потому что оно удовлетворительно выражается словами: успех, поступательное движение и т. д. С этим нельзя согласиться. Прогресс относится только к тому, что развивается само из себя. Прогрессом может быть и то, в чем вовсе нет успеха, приобретения, даже шагу вперед; и напротив, прогрессом может быть иногда неуспех, упадок, движение назад. Это именно относится к историческому развитию. Бывают в жизни народов и человечества эпохи несчастные, в которые целые поколения как бы приносятся в жертву следующим поколениям. Проходит[4 - В «Современнике» явная ошибка: «приходит».] тяжелая година – и из зла рождается добро. Слово прогресс отличается всею определенностию и точностию научного термина, а в последнее время оно сделалось ходячим словом, его употребляют все – даже те, которые нападают на его употребление. И потому, пока не явится русского слова, которое бы вполне заменило его собою, мы будем употреблять слово прогресс.
Всякое органическое развитие совершается через прогресс, развивается же органически только то, что имеет свою историю, а имеет свою историю только то, в чем каждое явление есть необходимый результат предыдущего и им объясняется. Если можно представить себе литературу, в которой являются от времени до времени сочинения замечательные, но чуждые всякой внутренней связи и зависимости, обязанные своим появлением внешним влияниям, подражательности, – у такой, литературы не может быть истории. Ее история – каталог книг. К такой литературе слово прогресс неприложимо, и появление нового, почему-нибудь замечательного произведения в ней не есть прогресс, потому что это произведение не имеет корня в прошедшем и не даст плода в будущем. Тут время и годы ничего не значат: они могут итти себе, ничего не изменяя. Не так бывает в литературе, развивающейся исторически: тут каждый год что-нибудь да приносит с собою, – и это что-нибудь есть прогресс. Но не каждый год можно ясно увидеть и определить этот прогресс; часто он оказывается только впоследствии. Но, во всяком случае, очень полезно в определенные сроки, например, по окончании каждого года, обозревать в целом ход литературы, ее приобретения, ее богатство или ее бедность. Такие обозрения не бесполезны для настоящего времени и могут служить важным пособием для будущего историка литературы.
Отчеты о литературной деятельности за каждый истекший год начали входить у нас в обыкновение с 1823 года. Пример был подан Марлинским в знаменитом того времени альманахе.[5 - В «Полярной звезде», 1823 – органе декабристов.] И с тех пор годовые обозрения литературы почти не прерывались в альманахах в продолжение десяти лет. В журналах же они появлялись редко, но в последнее время постоянно печатаются в одном известном журнале уже лет семь сряду.[6 - Белинский имеет в виду свои обзоры в «Отечественных записках», которые начались с 1841 года статьей «Русская литература в 1840 году».] Отделение критики в «Современнике» прошлого года началось обзором русской литературы 1846 года, и каждая первая книжка его на новый год всегда будет заключать в себе такое обозрение литературной деятельности за истекший год.
Подобные обозрения с течением времени делаются истинными летописями литературы, важным пособием для ее историка. Альманачные обозрения, о которых мы сейчас говорили, имеют теперь для нас весь интерес старины, несмотря на то, что начались всего 24 года назад тому! Так быстро идет вперед наша литература! Но какою отдаленною, какою глубокою стариною отзывается «Обозрение русской литературы 1814 года», написанное г. Гречем и помещенное в «Сыне отечества» 1815 года! На нескольких жиденьких страничках исчислены все ученые и литературные приобретения и сокровища 1814 года. Год этот действительно ознаменован был появлением нескольких замечательных серьезных книг, как, например: «Собрание государственных российских грамот и договоров», обязанное своим изданием графу Н. П. Румянцеву: «История медицины в России» Рихтера и перевод Дестуниса «Плутарховых жизнеописаний». Но что за страшная бедность по части собственно так называемой изящной словесности! Перевод Делилевой поэмы «Сады» г. Палицына, описательная поэма князя Шихматова «Сельский житель», стихотворение Державина «Христос», «Ночь на размышление» князя Шихматова и «Размышление о судьбе» князя Долгорукова. Все это поэмы в дидактическом роде, который тогда был особенно в ходу, а теперь давно уже признан антипоэтическим и забыт совершенно. Потом в обозрении г. Греча упоминается об издании басен и сказок Александра Измайлова и о баснях какого-то г. Агафи, и в заключение замечено, что басни Крылова были помещаемы в журналах. Вот и все! Автор обозрения замечает, что в течение первых пяти лет XIX столетия вышло более сочинений, нежели прежде того в течение десяти лет; но что, по причине политических обстоятельств того времени, о 1806 до 1814 года, литературное движение в России почти совсем остановилось. В продолжение второй половины 1812 и первой 1813 годов не только не вышло в свет, но и не было написано ни одной страницы, которая бы не имела предметом тогдашних происшествий. «Наконец, в 1814 году, – говорит автор обозрения, – увенчавшем все напряжения и труды истекших лет, русская литература, посвящая поэзию и красноречие в честь и славу великого монарха своего, обратилась снова на путь мирный, уровненный и огражденный навсегда. В течение сего года вышли многие сочинения и переводы, которые останутся незабвенными в летописях нашей литературы». Это отчасти справедливо, только не в отношении к произведениям поэзии… Замечательно, что, признавая бедность некоторых разрядов своего обозрения, автор, как успеху русской литературы, радуется тому, что в течение 1814 года вышло в Петербурге и Москве только по одному роману (оба переведены с немецкого) да две исторические повести! Не думал он тогда, что роман и повесть скоро станут во главе всех родов поэзии и что сам он напишет некогда «Поездку в Германию» и «Черную женщину». Но вот еще характеристическая черта нашей литературы, или, лучше сказать, нашей публики, – черта, о которой, к сожалению, нельзя сказать, чтобы теперь она отзывалась стариною: известного путешествия Крузенштерна вокруг света, изданного в 1809–1813 годах, на русском и немецком языках, и путешествия вокруг света Лисянского, изданного в 1812 году, на русском и английском языках, в России разошлось, – говорит автор обозрения, – едва ли по двести экземпляров каждого, между тем как в Германии вышло три издания путешествия Крузенштерна, а в Лондоне продана в две недели половина экземпляров книги Лисянского.
Годичные обозрения появились в альманахах вследствие начинавшего возникать критического духа. Приступая к обозрению литературы известного года, критик начинал иногда очерком всей истории русской литературы. Писать эти обозрения тогда было очень легко и очень трудно. Легко потому, что все ограничивалось легкими суждениями, выражавшими личный вкус обозревателя; трудно или, лучше сказать, скучно потому, что это была работа дробная, мелкая; надо было перечислить решительно все, что появилось в течение обозреваемого года отдельно изданным в журналах и альманахах, оригинальное и переводное. А что печаталось тогда, по части изящной словесности, в журналах и альманахах? – большею частию крошечные отрывки из маленьких поэм, из романов, повестей, драм и т. п. Большею частию целых сочинений и не существовало: отрывок писался без всякого намерения написать целое. О каждой такой безделице надо было упомянуть и сказать свое мнение, потому что тогда, при начале так называемого романтизма, все было ново, все интересовало собою, все считалось важным событием – и отрывок из несуществующей поэмы в двадцать стихов счетом, и элегия, и сотое подражание какой-нибудь пьесе Ламартина, перевод романа Вальтера Скотта и перевод романа какого-нибудь Фан-дер-Фельде.
В этом отношении теперь гораздо лучше писать обозрения. Теперь уже не считается принадлежащим к литературе все, что ни выходит из-под типографских станков. Теперь многое испытано, ко многому пригляделись и привыкли. Конечно, перевод такого романа, как «Домби и Сын», и теперь замечательное явление в литературе, и обозреватель не вправе пропустить его без внимания; но зато переводы романов Сю, Дюма и других французских беллетристов, появляющихся теперь дюжинами, уже нельзя считать всегда литературными явлениями.[7 - Перевод романа Диккенса печатался в «Отечественных записках» 1847 года и одновременно выходил частями в качестве приложения к «Современнику». В письме к П. В. Анненкову в начале декабря 1847 года Белинский писал: «Читали ль вы «Домби и сын»? Если нет, спешите прочесть. Это чудо. Все, что написано до этого романа Диккенсом, кажется теперь бледно и слабо, как будто совсем другого писателя. Это что-то до того превосходное, что боюсь и говорить: у меня голова не на месте от этого романа» («Письма», т. III, стр. 320–321).] Они пишутся сплеча, их цель – выгодный сбыт, доставляемое ими наслаждение известному разряду любителей такой литературы относится, конечно, ко вкусу, но не к эстетическому, а тому, который у одних удовлетворяется сигарами, у Других – щелканием орешков… Публика нашего времени уже не та, что была прежде. Произвол критики уже не может убить хорошей книги и дать ход дурной. Французские романы наполняют собою наши журналы и издаются особо; в том и другом случае они находят себе множество читателей. Но по этому отнюдь не следует делать резких заключений о вкусе публики. Многие берутся за роман Дюма, как за сказку, вперед зная, что это такое, читают его с тем, чтобы развлечь себя на время чтения небывалыми приключениями, а потом и забыть их навсегда. В этом, разумеется, нет ничего дурного. Один любит качаться на качелях, другой – ездить верхом, третий – плавать, четвертый – курить, и многие вместе с этим любят читать вздорные сказки, хорошо рассказываемые. Поэтому переводные романы и повести уже не заслоняют собою оригинальных; напротив, общий вкус публики отдает последним решительное предпочтение, так что помещать в журналах преимущественно переводные романы и повести заставляет журналистов только одна крайность, то есть недостаток в оригинальных произведениях этого рода. И такое направление вкуса публики становится заметнее и определеннее год от году. В отношении же к оригинальным произведениям очарование имен совершенно исчезло; громкое имя, конечно, и теперь заставит каждого взяться за новое сочинение, но уже никто не придет от него в восторг, если в нем хорошего одно только имя автора. Сочинения посредственные, слабые проходят незаметными, умирают своею смертию, а не от ударов критики. Такому положению литературы, столь различному от того, в каком она находилась лет двадцать назад тому, должна соответствовать и критика. Отдавая отчет в годичном движении литературной деятельности, теперь нечего обращать внимание на количество произведений или хлопотать об оценке каждого явления из опасения, что без указаний критики публика не будет знать, что считать ей хорошим и что – дурным. Нет даже нужды останавливаться на каждом порядочном произведении и вдаваться в подробный разбор всех его красот и недостатков. Подобное внимание принадлежит теперь по праву только особенно замечательным в положительном или отрицательном смысле произведениям. Главная же задача тут – показать преобладающее направление, общий характер литературы в данное время, проследить в ее явлениях оживляющую и движущую ее мысль. Только таким образом можно если не определить, то хоть намекнуть, насколько истекший год подвинул вперед литературу, какой прогресс совершала она в нем.
Собственно новым 1847 год ничем не ознаменовал себя в литературе. Явились в преобразованном виде некоторые из старых периодических изданий, явился даже один новый листок; замечательными произведениями по части изящной словесности прошлый год был особенно богат в сравнении с предшествовавшими годами; явилось несколько новых имен, новых талантов и действователей по разным частям литературы. Но не явилось ни одного из тех ярко-замечательных произведений, которые своим появлением делают эпоху в истории литературы, дают ей новое направление. Вот почему мы говорим, что собственно новым литература прошлого года ничем не ознаменовала себя. Она шла по прежнему пути, которого нельзя назвать ни новым, потому что он успел уже обозначиться, ни старым, потому что слишком недавно открылся для литературы, – именно немного раньше того времени, когда в первый раз было кем-то выговорено слово: «натуральная школа».[8 - Первым «выговорил слово» «натуральная школа» Ф. Булгарин в «Северной пчеле», 1846, № 22. См. вводную заметку к статье «Петербургский сборник». С 1849 года в русской критике все чаще начинает употребляться название «реализм».] С тех пор прогресс русской литературы в каждом новом году состоял в более твердом ее шаге в этом направлении. Прошлый 1847 год был особенно замечателен в этом отношении в сравнении с предшествовавшими ему годами как по числу и замечательности верных этому направлению произведений, так и большею определенностию, сознательностию и силою самого направления и большим его кредитом у публики.
Натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литературы. С одной стороны, нисколько не преувеличивая дела по каким-нибудь пристрастным увлечениям, мы можем сказать, что публика, то есть большинство читателей, за нее: это факт, а не предположение. Теперь вся литературная деятельность сосредоточилась в журналах, а какие журналы пользуются большею известностию, имеют более обширный круг читателей и большее влияние на мнение публики, как не те, в которых помещаются произведения натуральной школы? Какие романы и повести читаются публикою с особенным интересом, как не те, которые принадлежат натуральной школе, или, лучше сказать, читаются ли публикою романы и повести, не принадлежащие к натуральной школе? Какая критика пользуется большим влиянием на мнение публики или, лучше сказать, какая критика более сообразна с мнением и вкусом» публики, как не та, которая стоит за натуральную школу против риторической? С другой стороны, о ком беспрестанно говорят, спорят, на кого беспрестанно нападают с ожесточением, как не на натуральную школу? Партии, ничего не имеющие между собою общего, в нападках на натуральную школу действуют согласно, единодушно, приписывают ей мнения, которых она чуждается, намерения, которых у ней никогда не было, ложно перетолковывают каждое ее слово, каждый ее шаг, то бранят ее с запальчивостию, забывая иногда приличие, то жалуются на нее чуть не со слезами. Что общего между заклятыми врагами Гоголя, представителями побежденного риторического направления, и между так называемыми славянофилами? – Ничего! и однакож последние, признавая Гоголя основателем натуральной школы, согласно с первыми, нападают, в том же тоне, теми же словами, с такими же доказательствами, на натуральную школу и почли за нужное отличиться от своих новых союзников только логическою непоследовательностию, вследствие которой они поставили Гоголю в заслугу то самое, за что преследуют его школу, на том основании, что он писал по какой-то «потребности внутреннего очищения». К этому должно прибавить, что школы, неприязненные натуральной, не в состоянии представить ни одного сколько-нибудь замечательного произведения, которое доказало бы делом, что можно писать хорошо, руководствуясь правилами, противоположными тем, которых держится натуральная школа. Все попытки их в этом роде послужили к торжеству натурализма и падению риторизма. Видя это, некоторые из противников натуральной школы пытались противопоставлять ей ее же писателей. Так, одна газета думала г. Бутковым уничтожить авторитет самого Гоголя.[9 - Речь идет о статье Ф. Булгарина в «Северной пчеле», 1845, № 243.]
Все это нисколько не ново в нашей литературе, но было не раз и всегда будет. Карамзин первый произвел разделение в едва возникавшей тогда русской литературе. До него все были согласны во всех литературных вопросах, и если бывали разногласия и споры, они выходили не из мнений и убеждений, а из мелких и беспокойных самолюбий Тредьяковского и Сумарокова. Но это согласие доказывало только безжизненность тогдашней так называемой литературы. Карамзин первый оживил ее, потому что перевел ее из книги в жизнь, из школы в общество. Тогда, естественно, явились и партии, началась война на перьях, раздались вопли, что Карамзин и его школа губят русский язык и вредят добрым русским нравам, В лице его противников, казалось, вновь восстала русская упорная старина, которая с таким судорожным и тем более бесплодным напряжением отстаивала себя от реформы Петра Великого. Но большинство было на стороне права, то есть таланта и современных нравственных потребностей, вопли противников заглушались хвалебными гимнами поклонников Карамзина. Все группировалось около него, и от него все получало свое значение и свою значительность, все – даже его противники. Он был героем, Ахиллом литературы того времени. Но что вся эта тревога в сравнении с бурею, которая поднялась с появлением Пушкина на литературном поприще? Она так памятна всем, что нет нужды распространяться о ней. Скажем только, что противники Пушкина видели в его сочинениях искажение русского языка, русской поэзии, несомненный вред не только для эстетического вкуса публики, но и – поверят ли теперь этому? – для общественной нравственности!! Не желая шевелить старые дрязги, мы удерживаемся от всяких указаний, но если у нас их потребуют, мы всегда готовы представить печатные доказательства. В одной критике на «Графа Нулина» Пушкин обвинялся в неприличии, доходящем до цинизма![10 - В статье Н. И. Надеждина в «Вестнике Европы», 1829, № 3.] Перечитывая эту критику теперь, невольно забываешь, когда и на что она писана: так и кажется, что это сейчас написанная статья против какого-нибудь произведения теперешней натуральной школы: тот же язык, те же доводы, та же манера браться за дело, какие и теперь употребляются в нападках на натуральную школу.
Что же за причина, что противники всякого движения вперед во все эпохи нашей литературы говорили одно и то же и почти одними и теми же словами?
Причина этого скрывается там же, где надо искать и происхождения натуральной школы – в истории нашей литературы. Она началась натурализмом: первый светский писатель был сатирик Кантемир. Несмотря на подражание латинским сатирикам и Буало, он умел остаться оригинальным, потому что был верен натуре и писал с нее. К несчастию, однообразие избранного им рода, грубость и необработанность языка, не свойственный нашей поэзии силлабический метр не допустили Кантемира быть образцом и законодателем в русской поэзии. Роль эта была предоставлена Ломоносову. Но как Кантемир все-таки остается человеком с необыкновенным) талантом, то его и нельзя выключить из истории русской литературы, как первого по времени ее поэта. Поэтому мы вправе сказать, не искажая фактов и не делая натяжек, что русская поэзия при самом начале своем потекла, если можно так выразиться, двумя параллельными друг другу руслами, которые чем далее, тем чаще сливались в один поток, разбегаясь после опять на два до тех пор, пока в наше время не составили одного целого. В лице Кантемира русская поэзия обнаружила стремление к действительности, к жизни, как она есть, основала свою силу на верности натуре. В лице Ломоносова она обнаружила стремление к идеалу, поняла себя, как оракула жизни высшей, выспренней, как глашатая всего высокого и великого. Оба эти направления были законны, и оба вышли не из жизни, а из теории, из книги, из школы. Но манера, с какою Кантемир взялся за дело, утверждает за первым направлением преимущество истины и реальности. В Державине, как таланте высшем, оба эти направления часто сливались, и его оды к «Фелице», «Вельможе», «На счастие» едва ли не лучшие его произведения, – по крайней мере, без всякого сомнения, в них больше оригинального, русского, нежели в его торжественных одах. В баснях Хемницера и в комедиях Фонвизина отозвалось направление, представителем которого, по времени, был Кантемир. Сатира у них уже реже переходит в преувеличение и карикатуру, становится более натуральною по мере того, как становится более поэтическою. В баснях Крылова сатира делается вполне художественною; натурализм становится отличительною характеристическою чертою его поэзии. Это был первый великий натуралист в нашей поэзии. Зато он первый и подвергся упрекам за изображения «низкой природы», особенно за басню «Свинья». Посмотрите, как натуральны его животные: это настоящие люди с резко очерченными характерами, и притом люди русские, а не другие какие-нибудь. А его басни, в которых действующие лица – русские мужички? Не есть ли это верх натуральности? И однакож теперь уже не упрекают Крылова ни за свинью, которая, «не жалея рыла, весь задний двор изрыла», ни за то, что в своих баснях он выводил мужиков, да еще заставлял их говорить самым мужицким складом. Скажут: то басня, то такой уж род поэзии. А разве законы изящного не одинаковы для всех его родов? Дмитриев писал тоже басни и в них изредка вводил, эпизодически, крестьян; но его басни, имеющие свои неотъемлемые достоинства, нисколько не отличаются натуральностию, и его крестьяне говорят в них каким-то общим, не принадлежащим исключительно ни одному сословию языком. Причина этой разницы лежит в том, что поэзия Дмитриева и в баснях его, так же как и в одах, шла от Ломоносова, а не от Кантемира, держалась идеала, а не действительности. Теория Ломоносова опиралась на древних, как понимали их тогда в Европе. Карамзин и Дмитриев, особенно последний, смотрели на искусство глазами французов XVIII века. А известно, что французы того времени понимали искусство как выражение жизни не народа, а общества, и притом только высшего, дворского, и приличие считали главным и первым условием поэзии. Оттого у них греческие и римские герои ходили в париках и говорили героиням: madame! Эта теория глубоко проникла в русскую литературу, и, как увидим далее, следы ее влияния не изгладились совсем и до сих пор…
Озеров, Жуковский и Батюшков продолжали собою направление, Данное нашей поэзии Ломоносовым. Они были верны идеалу, но этот идеал у них становится все менее и менее отвлеченным и риторическим, все больше и больше сближающимся с действительностию или по крайней мере стремившимся к этому сближению. В произведениях этих писателей, особенно двух последних, языком поэзии заговорили уже не одни официальные восторги, но и такие страсти, чувства и стремления, источником которых были не отвлеченные идеалы, но человеческое сердце, человеческая душа. Наконец явился Пушкин, поэзия которого относится к поэзии всех предшествовавших ему поэтов, как достижение относится к стремлению. В ней слились в один широкий поток оба, до того текшие раздельно, ручья русской поэзии. Русское ухо услышало в ее сложном аккорде и чисто русские звуки. Несмотря на преимущественно идеальный и лирический характер первых поэм Пушкина, в них уже вошли элементы жизни действительной, что доказывается смелостию, в то время удивившею всех, ввести в поэму не классических итальянских или испанских, а русских разбойников, не с кинжалами и пистолетами, а с широкими ножами и тяжелыми кистенями, и заставить одного из них говорить в бреду про кнут и грозных палачей. Цыганский табор, с оборванными шатрами между колесами телег, с пляшущим медведем и нагими детьми в перекидных корзинках на ослах, был тоже неслыханною дотоле сценою для кровавого трагического события. Но в «Евгении Онегине» идеалы еще более уступили место действительности или по крайней мере то и другое до того слилось во что-то новое, среднее между тем и другим, что поэма эта должна по справедливости считаться произведением, положившим начало поэзии нашего времени. Тут уже натуральность является не как сатира, не как комизм, а как верное воспроизведение действительности, со всем ее добром и злом, со всеми ее житейскими дрязгами; около двух или трех лиц, опоэтизированных или несколько идеализированных, выведены люди обыкновенные, но не на посмешище, как уроды, как исключения из общего правила, а как лица, составляющие большинство общества. И все это в романе, писанном стихами!
Что же в это время делал роман в прозе?
Он всеми силами стремился к сближению с действительностию, к натуральности. Вспомните романы и повести Нарежного, Булгарина, Марлинского, Загоскина, Лажечникова, Ушакова, Вельтмана, Полевого, Погодина. Здесь не место рассуждать о том, кто из них больше сделал, чей талант был выше; мы говорим об общем им всем стремлении – сблизить роман с действительностию, сделать его верным ее зеркалом. Между этими попытками были очень замечательные, но тем не менее все они отзывались переходною эпохою, стремились к новому, не оставляя старой колеи. Весь успех заключался в том, что, несмотря на вопли староверов, в романе стали появляться лица всех сословий, и авторы старались подделываться под язык каждого. Это называлось тогда народностью. Но эта народность слишком отзывалась маскарадностью. – русские лица низших сословий походили на переряженных бар, а бары только именами отличались от иностранцев. Нужен был гениальный талант, чтобы навсегда освободить русскую поэзию, изображающую русские нравы, русский быт, из-под чуждых ей влияний. Пушкин много сделал для этого; но докончить, довершить дело предоставлено было другому таланту. В «Северных цветах на 1829 год» явился отрывок из романа Пушкина: «Арап Петра Великого» под заглавием: «IV глава из исторического романа». Этот маленький отрывок был – верх натуральности! В такой тесной рамке такая широкая картина нравов эпохи Петра Великого! Но, к сожалению, этого романа было написано всего только шесть глав и начало седьмой (вполне они были напечатаны уже по смерти Пушкина).
С появления «Миргорода» и «Арабесок» (в 1835 году) и «Ревизора» (в 1836) начинается полная известность Гоголя и его сильное влияние на русскую литературу. Из всех суждений об этом писателе, высказанных почитателями его таланта, самое замечательное и близкое к истине едва ли не принадлежит человеку, который вовсе не принадлежит к числу его почитателей и который, как будто в каком-то внезапном вдохновении, сам не зная как, вышел на минуту из своей обычной колеи, которой был верен всю жизнь, проговоривши о Гоголе следующий дифирамб: «Все произведения Гоголя обнаруживают в нем самоуверенность, стремление к самодеятельности, какое-то умышленное, насмешливое пренебрежение к прежним знаниям, опытам и образцам, он читает только книгу природы, изучает только мир действительный; потому его идеалы слишком естественны и просты до наготы; они, по выражению Ивана Никифоровича, одного из его созданий, являются перед читателем в натуре. Красоты его созданий всегда новы, свежи, поразительны; ошибки чуть не отвратительны (!), он, как будто забыв историю, подобно древним, начинает новый мир искусств, вызывая его из небытия в простонравное (?) хаотическое (?!) состояние; потому-то его искусство как будто не знает, не понимает стыдливости; он великий художник, не знающий истории и не видавший образцов искусства».[11 - Цитата из книги В. Плаксива «Руководство к изучению истории русское литературы», Спб., 1846, изд. 2-е.]
В этом исполненном лирического беспорядка дифирамбе, без воли и сознания автора, высказана самая характеристическая черта таланта Гоголя – оригинальность и самобытность, отличающие его от всех русских писателей. Что это сделано нечаянно, по вдохновению, доказывается и параллелью, которую проводит автор между Гоголем и – кем бы вы думали? – г. Кукольником!! – и странными, противоречащими словами и выражениями в самом дифирамбе, доказывающими, что не в воле человека даже на минуту, и притом в порыве вдохновения, совершенно оторваться от обычной колеи своей жизни. Надо сказать, что автор – теоретик и всю жизнь провел в составлении и преподавании разных риторик и пиитик, которые, как и все книги этого рода, никогда и никого не научили сочинять хорошо, но с толку сбили многих. Вот почему его особенно поразила в сочинениях Гоголя их полная отрешенность и независимость от всяких школьных правил и преданий, – и если он не мог, с одной стороны, не вменить ему этого в заслугу, то, с другой, не мог того же самого не поставить ему в заслуженный упрек. Отсюда и увидал он в сочинениях Гоголя «ошибки, чуть не отвратительные», и «простонравное хаотическое состояние искусства». Спросите его, какие это ошибки, – и мы уверены, что он, прежде всего, укажет на будочника, который казнит зверя на ногте (в «Мертвых душах»), и этим фактом подтвердит окончательно, что Гоголь «не знает истории и не видал образцов искусства». А между тем Гоголю, вероятно, известнее, нежели его критику, что одна из известнейших галлерей в Европе хранит, как бесценное сокровище, картину великого Мурильо, представляющую мальчика, который с усердием и обстоятельно занимается тем, что будочник сделал спросонья и мимоходом.
Как бы то ни было, но действительно влияние теорий и школ было одною из главных причин, почему многие сначала спокойно, без всякой враждебности, искренно и добросовестно видели в Гоголе не более как писателя забавного, но тривьяльного и незначительного и вышли из себя уже вследствие восторженных похвал, расточавшихся ему другою стороною, и важного значения, которое он быстро приобретал в общественном мнении. В самом деле, как ни ново было в свое время направление Карамзина, – оно оправдывалось образцами французской литературы. Как ни странно поразили всех баллады Жуковского, с их мрачным колоритом, с их кладбищами и мертвецами, – но за них были имена корифеев немецкой литературы. Сам Пушкин, с одной стороны, был подготовлен предшествовавшими ему поэтами, и первые опыты его носили на себе легкие следы их влияния, а с другой стороны, его нововведения оправдывались общим движением во всех литературах Европы и влиянием Байрона – авторитета огромного. Но Гоголю не было образца, не было предшественников ни в русской, ни в иностранных литературах. Все теории, все предания литературные были против него, потому что он был против них. Чтобы понять его, надо было вовсе выкинуть их из головы, забыть об их существовании, – а это для многих значило бы переродиться, умереть и вновь воскреснуть. Чтобы яснее сделать нашу мысль, посмотрим, в каких отношениях находится Гоголь к другим русским поэтам. Конечно, и в тех сочинениях Пушкина, которые представляют чуждые русскому миру картины, без всякого сомнения, есть элементы русские, но кто укажет их? Как доказать, что, например, поэмы: «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Галуб» могли быть написаны только русским поэтом я что их не мог бы написать поэт другой нации? То же можно сказать и о Лермонтове. Все сочинения Гоголя посвящены исключительно изображению мира русской жизни, и у него нет соперников в искусстве воспроизводить ее во всей ее истинности. Он ничего не смягчает, не украшает вследствие любви к идеалам или каких-нибудь заранее принятых идей, или привычных пристрастий, как, например, Пушкин в «Онегине» идеализировал помещицкий быт. Конечно, преобладающий характер его сочинений – отрицание; всякое отрицание, чтоб быть живым и поэтическим, должно делаться во имя идеала – и этот идеал у Гоголя также не свой, то есть не туземный, как и у всех других русских поэтов, потому что наша общественная жизнь еще не сложилась и не установилась, чтобы могла дать литературе этот идеал. Но нельзя же не согласиться с тем, что по поводу сочинений Гоголя уже никак невозможно предположить вопроса: как доказать, что они могли быть написаны только русским поэтом и что их не мог бы написать поэт другой нации? Изображать русскую действительность, и с такою поразительною верностию и истиною, разумеется, может только русский поэт. И вот пока в этом-то более всего и состоит народность нашей литературы.
Литература наша была плодом сознательной мысли, явилась как нововведение, началась подражательностию. Но она не остановилась на этом, а постоянно стремилась к самобытности, народности, из риторической стремилась сделаться естественною, натуральною. Это стремление, ознаменованное заметными и постоянными успехами, и составляет смысл и душу истории нашей литературы. И мы не обинуясь скажем, что ни в одном русском писателе это стремление не достигло такого успеха, как в Гоголе. Это могло совершиться только через исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких идеалов. Для этого нужно было обратить все внимание на толпу, на массу, изображать людей обыкновенных, а не приятные только исключения из общего правила, которые всегда соблазняют поэтов на идеализирование и носят на себе чужой отпечаток. Это великая заслуга со стороны Гоголя, но это-то люди старого образования и вменяют ему в великое преступление перед законами искусства. Этим он совершенно изменил взгляд, на самое искусство. К сочинениям каждого из поэтов русских можно, хотя и с натяжкою, приложить старое и ветхое определение поэзии, как «украшенной природы»; но в отношении к сочинениям Гоголя этого уже невозможно сделать. К ним идет другое определение искусства – как воспроизведение действительности во всей ее истине. Тут все дело в типах, а идеал тут понимается не как украшение (следовательно, ложь), а как отношения, в которые автор становит друг к другу созданные им типы, сообразно с мыслию, которую он хочет развить своим произведением.
Искусство в наше время обогнало теорию. Старые теории потеряли весь свой кредит; даже люди, воспитанные на них, следуют не им, а какой-то странной смеси старых понятий с новыми. Так, например, некоторые из них, отвергая старую французскую теорию во имя романтизма, первые подали соблазнительный пример выводить в романе лиц низших сословий, даже негодяев, к которым шли имена Вороватиных и Ножовых, но они же потом оправдывались в этом тем, что вместе с безнравственными лицами выводили и нравственные под именем Правдолюбивых, Благотворовых и т. п.[12 - См. примеч. 506.] В первом случае видно было влияние новых идей, во втором – старых, потому что по рецепту старой пиитики необходимо было на несколько глупцов отпустить хоть одного умника, а на нескольких негодяев хоть одного, добродетельного человека[1 - Тогда слово резонёр для комедии было таким же техническим словом, как и jeune premier, первый любовник или примадонна для оперы.]. Но в обоих случаях эти междоумки совершенно упускали из виду главное, то есть искусство, потому что и не догадывались, что их и добродетельные и порочные лица были не люди, не характеры, а риторические олицетворения отвлеченных добродетелей и пороков. Это лучше всего и объясняет, почему для них теория, правило важнее дела, сущности: последнее недоступно их разумению. Впрочем, от влияния теории не всегда избегают и таланты, даже гениальные. Гоголь принадлежит к числу немногих, совершенно избегнувших всякого влияния какой бы то ни было теории. Умея понимать искусство и удивляться ему в произведениях других поэтов, он тем не менее пошел своей дорогою, следуя глубокому и верному художественному инстинкту, каким щедро одарила его природа, и не соблазняясь чужими успехами на подражание. Это, разумеется, не дало ему оригинальности, но дало ему возможность сохранить и выказать вполне ту оригинальность, которая была принадлежностью, свойством его личности и, следовательно, подобно таланту, даром природы. От этого он и показался для многих как бы извне вошедшим в русскую литературу, тогда как на самом деле он был ее необходимым явлением, требовавшимся всем предшествовавшим ее развитием.
Влияние Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только все молодые таланты бросились на указанный им путь, но и некоторые писатели, уже приобретшие известность, пошли по этому же пути, оставивши свой прежний. Отсюда появление, школы, которую противники ее думали унизить названием натуральной. После «Мертвых душ» Гоголь ничего не написал. На сцене литературы теперь только его школа. Все упреки и обвинения, которые прежде устремлялись на него, теперь обращены на натуральную школу, и если еще делаются выходки против него, то по поводу этой школы. В чем же обвиняют ее? Обвинений не много, и они всегда одни и те же. Сперва нападали на нее за ее будто бы постоянные нападки на чиновников. В ее изображениях быта этого сословия одни искренно, другие умышленно видели злонамеренные карикатуры. С некоторого времени эти обвинения замолкли. Теперь обвиняют писателей натуральной школы за то, что они любят изображать людей низкого звания, делают героями своих повестей мужиков, дворников, извозчиков, описывают углы, убежища голодной нищеты и часто всяческой безнравственности. Чтобы устыдить новых писателей, обвинители с торжеством указывают на прекрасные времена русской литературы, ссылаются на имена Карамзина и Дмитриева, избиравших для своих сочинений предметы высокие и благородные, и приводят в пример забытого теперь изящества чувствительную песенку: «Всех цветочков боле розу я любил». Мы же напомним им, что первая замечательная русская повесть была написана Карамзиным, и ее героиня была обольщенная петиметром крестьянка – бедная Лиза… Но там, скажут они, все опрятно и чисто, и подмосковная крестьянка не уступит самой благовоспитанной барышне. Вот мы и дошли до причины спора: тут виновата, как видите, старая пиитика. Она позволяет изображать, пожалуй, и мужиков, но не иначе, как одетых в театральные костюмы, обнаруживающих чувства и понятия, чуждые их быту, положению и образованию, и объясняющихся таким языком, которым никто не говорит, а тем менее крестьяне, – языком литературным, украшенным сими, оными, коими, таковыми и т. п. Да чего же лучше: пастушки и пастушки французских писателей XVIII века представляют готовый и прекрасный образец для изображения русских крестьян и крестьянок; берите целиком: вот вам и соломенные шляпы с голубыми и розовыми лентами, пудра, мушки, фижмы, корсеты, юбки с ретрусманами, башмаки на высоких красных, каблуках. Только в языке держитесь домашних литературных привычек, потому что французы никогда не любили щеголять обветшалыми, неупотребляемыми в разговоре словами. Это замашка чисто русская; у нас даже первоклассные таланты любят брега, младость, перси, очи, выю, стопы, чело, главу, глас и тому подобные принадлежности так называемого «высшего слога». Короче: старая пиитика позволяет изображать все, что вам угодно, но только предписывает при этом изображаемый предмет так украсить, чтобы не было никакой возможности узнать, что вы хотели изобразить. Следуя строго ее урокам, поэт может пойти дальше прославленного Дмитриевым маляра Ефрема, который Архипа писал Сидором, а Луку – Кузьмою: он может снять с Архипа такой портрет, который не будет походить не только на Сидора, но и ни на что на свете, даже на комок земли.[13 - См. примеч. 9.] Натуральная школа следует совершенно противному правилу: возможно, близкое сходство изображаемых ею лиц с их образцами в действительности не составляет в ней всего, но есть первое ее требование, без выполнения которого уже не может быть в сочинении ничего хорошего. Требование тяжелое, выполнимое только для таланта! Как же после этого не любить и не чтить старой пиитики тем писателям, которые когда-то умели и без таланта е успехом подвизаться на поприще поэзии? Как не считать им натуральной школы самым ужасным врагом своим, когда она ввела такую манеру писать, которая им недоступна? Это, конечно, относится только к людям, у которых в этот вопрос вмешалось самолюбие; но найдется много и таких, которые по искреннему убеждению не любят естественности в искусстве вследствие влияния на них старой пиитики. Эти люди с особенною горечью жалуются еще на то, что теперь искусство забыло свое прежнее назначение. «Бывало, – говорят они, – поэзия поучала, забавляя, заставляла читателя забывать о тягостях и страданиях жизни, представляла ему только картины приятные и смеющиеся. Прежние поэты представляли и картины бедности, но бедности опрятной, умытой, выражающейся скромно и благородно; притом же к концу повести всегда являлась чувствительная молодая дама или девица, дочь богатых и благородных родителей, а не то благодетельный молодой человек, – и во имя милого или милой сердца водворяли довольство и счастье там, где была бедность и нищета, и благодарные слезы орошали благодетельную руку – и читатель невольно подносил свой батистовый платок к глазам и чувствовал, что он становится добрее и чувствительнее… А теперь! – посмотрите, что теперь пишут! мужики в лаптях и сермягах, часто от них несет сивухою, баба – род центавра, по одежде не вдруг узнаешь, какого это пола существо; углы – убежища нищеты, отчаяния и разврата, до которых надо доходить по двору грязному по колени; какой-нибудь пьянюшка – подьячий или учитель из семинаристов, выгнанный из службы, – все это списывается с натуры, в наготе страшной истины, так что если прочтешь – жди ночью тяжелых снов…» Так или почти так говорят маститые питомцы старой пиитики. В сущности, их жалобы состоят в том, зачем поэзия перестала бесстыдно лгать, из детской сказки превратилась в быль, не всегда приятную, зачем отказалась она быть гремушкою, под которую детям приятно и прыгать, и засыпать. Странные люди, счастливые люди! им удалось на всю жизнь остаться детьми и даже в старости быть несовершеннолетними, недорослями, – и вот они требуют, чтобы и все походили на них! Да читайте свои старые сказки – никто вам! не мешает; а другим оставьте занятия, свойственные совершеннолетию. Вам ложь – нам истина: разделимся без спору, благо вам не нужно нашего пая, а мы даром не возьмем вашего… Но этому полюбовному разделу мешает другая причина – эгоизм, который считает себя добродетелью. В самом деле, представьте себе человека обеспеченного, может быть, богатого; он сейчас пообедал сладко, со вкусом (повар у него прекрасный), уселся в спокойных вольтеровских креслах с чашкою кофе, перед пылающим камином, тепло и хорошо ему, чувство благосостояния делает его веселым, – и вот берет он книгу, лениво переворачивает ее листы, – и брови его надвигаются на глаза, улыбка исчезает о румяных губ, он взволнован, встревожен, раздосадован… И есть от чего! книга говорит ему, что не все на свете живут так хорошо, как он, что есть углы, где под лохмотьями дрожит от холоду целое семейство, может быть, недавно еще знавшее довольство, что есть на свете люди, рождением, судьбою обреченные на нищету, что последняя копейка идет на зелено вино не всегда от праздности и лени, но и от отчаяния. И нашему счастливцу неловко, как будто совестно своего комфорта. А все виновата скверная книга: он взял ее для удовольствия, а вычитал тоску и скуку. Прочь ее! «Книга должна приятно развлекать; я и без того знаю, что в жизни много тяжелого и мрачного, и если читаю, так для того, чтобы забыть это!» – восклицает он. – Так, милый, добрый сибарит, для твоего спокойствия и книги должны лгать, и бедный забывать свое горе, голодный – свой голод, стоны страдания должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтоб не испортился твой аппетит, не нарушился твой сон[14 - В «Современнике» ошибка: «стон».]… Представьте теперь в таком же положении другого любителя приятного чтения. Ему надо было дать бал, срок приближался, а денег не было; управляющий его, Никита Федорыч, что-то замешкался высылкою. Но сегодня деньги получены, бал можно дать; с сигарой в зубах, веселый и довольный, лежит он на диване, и от нечего делать руки его лениво протягиваются к книге. Опять та же история! Проклятая книга рассказывает ему подвиги его Никиты Федорыча, подлого холопа, с детства привыкшего подобострастно служить чужим страстям и прихотям, женатого на отставной любовнице родителя своего барина. И ему-то, незнакомому ни с каким человеческим чувством, поручена судьба и участь всех Антонов… Скорее прочь ее, скверную книгу!.. Представьте теперь еще в таком комфортном состоянии человека, который в детстве бегал босиком, бывал на посылках, а лет под пятьдесят как-то очутился в чинах, имеет «малую толику». Все читают – надо и ему читать; но что находит он в книге? – свою биографию, да еще как верно рассказанную, хотя, кроме его самого, темные похождения его жизни – тайна для всех, и ни одному сочинителю неоткуда было узнать их… И вот он уже не взволнован, а просто взбешен и о чувством достоинства облегчает свою досаду таким рассуждением: «Вот как пишут ныне! вот до чего дошло вольнодумство! Так ли писали прежде? Штиль ровный, гладкий, все о предметах нежных или возвышенных, читать сладко и обидеться нечем!»
Есть особенный род читателей, который, по чувству аристократизма, не любит встречаться даже в книгах с людьми низших классов, обыкновенно не знающими приличия и хорошего тона, не любит грязи и нищеты по их противоположности с роскошными салонами, будуарами и кабинетами. Эти отзываются о натуральной школе не иначе, как с высокомерным презрением, ироническою улыбкою… Кто они такие, эти феодальные бароны, гнушающиеся «подлою чернью», которая в их глазах ниже хорошей лошади? Не спешите справляться о них в геральдических книгах или при дворах европейских: вы не найдете их гербов, они не ездят ко двору и если видали большой свет, то не иначе, как с улицы, сквозь ярко освещенные окна, насколько позволяли шторы и занавески… Предками они не могут похвалиться; они обыкновенно – или чиновники, или из нового дворянства, богатого только плебейскими преданиями о дедушке управляющем, о дядюшке откупщике, а иногда и о бабушке просвирне и тетушке торговке. Автор этой статьи считает при этом обязанностию довести до сведения своих читателей, что упрекать ближнего незнатностью происхождения вовсе не в его привычках и положительно противно всем его убеждениям и что он сам отнюдь не может похвалиться знатностью происхождения и отнюдь не стыдится признаться в этом. Но он думает, – и вероятно, читатели его согласятся с ним, – что ничего нет приятнее, как оборвать с вороны павлиные перья и доказать ей, что она принадлежит к той породе, которую вздумала презирать. Человек простого звания еще не ворона потому, что он простого звания; вороною делает не звание, а природа, и вороны так же бывают во всех званиях, как во всех же званиях бывают и орлы; но, конечно, только вороне свойственно рядиться в павлиные перья и величаться ими. Так почему же не сказать вороне, что она – ворона? Презрение к низшим сословиям в наше время отнюдь не есть порок высших сословий; напротив, это болезнь выскочек, порождение невежества, грубости чувств и понятий. Умный и образованный человек, если б он был одержим этою болезнью, никогда не обнаружит ее, потому что она не в духе времени, потому что показать ее – значит каркнуть о себе во все воронье горло. Нам кажется, что как ни гадко лицемерие, но в этом случае оно даже лучше вороньей откровенности, потому что свидетельствует об уме. Павлин, горделиво распускающий пышный хвост свой перед другими птицами, слывет животным красивым, но не умным. Что же сказать о вороне, спесиво выказывающей заимствованный наряд? Подобная спесь всегда чужда ума и есть порок по преимуществу плебейский. Где больше ломанья и притязаний, как не в тех слоях общества, которые начинаются тотчас после самых низших? А это потому, что тут всего больше невежества. Посмотрите, как глубоко презирает лакей мужика, который во всех отношениях лучше, благородней, человечнее его! Откуда эта гордость в лакее? – Он перенял пороки своего барина и оттого считает себя далеко образованнее мужика. Внешний лоск грубыми натурами всегда принимается за образованность.