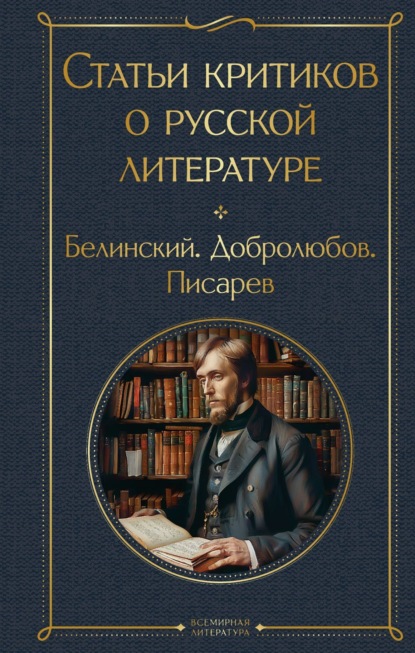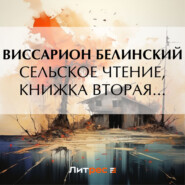По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Статьи критиков о русской литературе. Белинский. Добролюбов. Писарев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Статьи критиков о русской литературе. Белинский. Добролюбов. Писарев
Виссарион Григорьевич Белинский
Николай Александрович Добролюбов
Дмитрий Иванович Писарев
Всемирная литература (с картинкой)
Русская критика XIX века – особое явление в истории русской литературы, значительная составляющая культурного наследия прошлого. Напряженная литературная жизнь России середины XIX столетия, яростная полемика материалистического, эстетического, органического направлений критики отражала расцвет русской литературы, появление писателей мирового уровня – А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева и др.
В состав настоящей книги включены основные работы русских литературных критиков, вошедшие в школьную программу.
В формате А4 PDF сохранён издательский макет.
Виссарион Григорьевич Белинский, Николай Александрович Добролюбов, Николай Гаврилович Чернышевский, Дмитрий Иванович Писарев, Аполлон Александрович Григорьев, Николай Николаевич Страхов, Александр Васильевич Дружинин
Статьи критиков о русской литературе
Белинский. Добролюбов. Писарев
Сборник
* * *
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Оформление. 000 «Издательство „Эксмо“», 2024
Виссарион Григорьевич Белинский
О русской повести и повестях г. Гоголя
Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют – простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств заключается в одном источнике: г. Гоголь – поэт, поэт жизни действительной… Скажите, какое впечатление прежде всего производит на вас каждая повесть г. Гоголя? Не заставляет ли она вас говорить: «Как всё это просто, обыкновенно, естественно и верно и, вместе, как оригинально и ново!» Не удивляетесь ли вы и тому, почему вам самим не пришла в голову та же самая идея, почему вы сами не могли выдумать этих же самых лиц, так обыкновенных, так знакомых вам, так часто виденных вами, и окружить их этими самыми обстоятельствами, так повседневными, так общими, так наскучившими вам в жизни действительной и так занимательными, очаровательными в поэтическом представлении? Вот первый признак истинно художественного произведения. Потом, не знакомитесь ли вы с каждым персонажем его повести так коротко, как будто вы его давно знали, долго жили с ним вместе? Не дополняете ли вы своим воображением его портрета, и без того уже нарисованного автором во весь рост? Не в состоянии ли прибавить к нему новые черты, как будто забытые автором, не в состоянии ли вы рассказать об этом лице несколько анекдотов, как будто бы опущенных автором? Не верите ли вы на слово, не готовы ли вы побожиться, что все рассказанное автором есть сущая правда без всякой примеси вымысла? Какая этому причина? Та, что эти создания ознаменованы печатию истинного таланта, что они созданы по непреложным законам творчества. Эта простота вымысла, эта нагота действия, эта скудость драматизма, самая эта мелочность и обыкновенность описываемых автором происшествий – суть верные, необманчивые признаки творчества; это поэзия реальная, поэзия жизни действительной, жизни, коротко знакомой нам… Когда посредственный талант берется рисовать сильные страсти, глубокие характеры, он может стать на дыбы, натянуться, наговорить громких монологов, насказать прекрасных вещей, обмануть читателя блестящею отделкою, красивыми формами, самим содержанием, мастерским рассказом, цветистою фразеологиею – плодами своей начитанности, ума, образованности, опыта жизни. Но возьмись он за изображение повседневных картин жизни, жизни обыкновенной, прозаической – о, поверьте, для него это будет истинным камнем преткновения, и его вялое, холодное и бездушное сочинение уморит вас зевотою. В самом деле, заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, ничтожностию и юродством этих живых пасквилей на человечество – это удивительно; но заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души, заставить нас расстаться с ними с каким-то глубоко грустным чувством, заставить нас воскликнуть вместе с собою: «Скучно на этом свете, господа!» – вот, вот оно, то божественное искусство, которое называется творчеством; вот он, тот художнический талант, для которого где жизнь, там и поэзия! И возьмите почти все повести г. Гоголя: какой отличительный характер их? Что такое почти каждая из его повестей? Смешная комедия, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами и которая, наконец, называется жизнию. И таковы все его повести: сначала смешно, потом грустно! И такова жизнь наша: сначала смешно, потом грустно! Сколько тут поэзии, сколько философии, сколько истины!..
В каждом человеке должно различать две стороны: общую, человеческую, и частную, индивидуальную; всякий человек прежде всего человек и потом уже Иван, Сидор и т. д. Точно так же и в художественных созданиях должно различать два характера: характер творчества, общий всем изящным произведениям, и характер колорита, сообщенный индивидуальностию автора. Я уже коснулся в общих чертах первого характера в повестях г. Гоголя; теперь рассмотрю его подробнее; потом буду говорить об индивидуальном характере его созданий и, наконец, заключу мою статью беглым взглядом на те из его повестей, о которых можно будет сказать что-нибудь в частности.
Я уже сказал, что отличительные черты характера произведений г. Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность – все это черты общие; потом комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния, – черта индивидуальная.
Простота вымысла в поэзии реальной есть один из самых верных признаков истинной поэзии, истинного и притом зрелого таланта. Возьмите любую драму Шекспира, возьмите, например, его «Тимона Афинского»: эта пьеса так проста, так немногосложна, так скудна путаницею происшествий, что, право, невозможно и рассказать ее содержания. Люди обманули человека, который любил людей, надругались над его святыми чувствованиями, лишили его веры в человеческое достоинство, и этот человек возненавидел людей и проклял их: вот вам и все тут, больше ничего нет. И что ж? Составили ли вы себе, по моим словам, какое-нибудь понятие об этом великом создании великого гения? О, верно, никакого! Ибо эта идея слишком обыкновенна, слишком известна всем, каждому, слишком истерта и истреплена в тысячах сочинений, хороших и дурных… Но форма, в которой выражена эта идея, но содержание пьесы и ее подробности? Последние так мелочны, так пусты и притом так всякому известны, что я наскучил бы вам смертельно, если бы вздумал их пересказывать. И, однако ж, у Шекспира эти подробности так занимательны, что вы не оторветесь от них, и, однако ж, у него мелочность и пустота этих подробностей приготовляет ужасную катастрофу, от которой волосы встают дыбом, – сцену в лесу, где Тимон в бешеных проклятиях, в горьких, язвительных сарказмах, с сосредоточенною, спокойною яростию рассчитывается с человечеством. И потом, как выразить вам то чувство, которое возбуждает в душе известие о смерти добровольного отверженца от людей! И вся эта ужасная, хотя и бескровная трагедия, ужасная даже в своей простоте, в своем спокойствии, приготовляется глупою комедиею, отвратительною картиною, как люди обжирают человека, помогают ему разориться и потом забывают о нем, эти люди, которые
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей![1 - Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы».]
И вот вам жизнь или, лучше сказать, прототип жизни, созданный величайшим из поэтов! Тут нет эффектов, нет сцен, нет драматических вычур, все просто и обыкновенно, как день мужика, который в будень ест и пашет, спит и пашет, а в праздник ест, пьет и напивается пьян. Но в том-то и состоит задача реальной поэзии, чтобы извлекать поэзию жизни из прозы жизни и потрясать души верным изображением этой жизни. И как сильна и глубока поэзия г. Гоголя в своей наружной простоте и мелкости! Возьмите его «Старосветских помещиков»: что в них? Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится исстари, умирают. Но отчего же это очарование? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, и между тем принимаете такое участие в персонажах повести, смеетесь над ними, но без злости, и потом рыдаете с Филемоном о его Бавкиде, сострадаете его глубокой, неземной горести и сердитесь на негодяя-наследника, промотавшего достояние двух простаков! И потом, вы так живо представляете себе актеров этой глупой комедии, так ясно видите всю их жизнь, вы, который, может быть, никогда не бывал в Малороссии, никогда не видал таких картин и не слыхал о такой жизни! Отчего это? Оттого, что это очень просто и, следовательно, очень верно; оттого, что автор нашел поэзию и в этой пошлой и нелепой жизни, нашел человеческое чувство, двигавшее и оживлявшее его героев: это чувство – привычка. Знаете ли вы, что такое привычка, это странное чувство, о котором Пушкин сказал:
Привычка небом нам дана:
Замена счастия она!
Можете ли вы предположить возможность мужа, который рыдает над гробом своей жены, с которой сорок лет грызся, как кошка с собакою? Понимаете ли вы, что можно грустить о дурной квартире, в которой вы жили много лет, к которой вы привыкли, как душа к телу, и с которою у вас соединяются воспоминания о простой, однообразной жизни, о живом труде и сладком досуге и, может быть, о нескольких сценах любви и наслаждения, и которую вы меняете на великолепные палаты? Понимаете ли вы, что можно грустить о собаке, которая десять лет сидела на цепи и десять лет вертела хвостом, когда вы мимо нее проходили?.. О, привычка – великая психологическая задача, великое таинство души человеческой. Холодному сыну земли, сыну забот и помыслов житейских, заменяет она чувства человеческие, которых лишила его природа или обстоятельства жизни. Для него она истинное блаженство, истинный дар провидения, единственный источник его радостей и (дивное дело!) радостей человеческих! Но что она для человека в полном смысле этого слова? Не насмешка ли судьбы? И он платит ей свою дань, и он прилепляется к пустым вещам и пустым людям и горько страдает, лишаясь их! И что же еще? Г-н Гоголь сравнивает ваше глубокое, человеческое чувство, вашу высокую, пламенную страсть с чувством привычки жалкого получеловека и говорит, что его чувство привычки сильнее, глубже и продолжительнее вашей страсти, и вы стоите перед ним, потупя глаза и не зная, что отвечать, как ученик, не знающий урока, перед своим учителем!.. Так вот где часто скрываются пружины лучших наших действий, прекраснейших наших чувств! О бедное человечество! жалкая жизнь! И, однако ж, вам все-таки жаль Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны! Вы плачете о них, о них, которые только пили и ели и потом умерли! О, г. Гоголь истинный чародей, и вы не можете представить, как я сердит на него за то, что он и меня чуть не заставил плакать о них, которые только пили и ели и потом умерли!
Совершенная истина жизни в повестях г. Гоголя тесно соединяется с простотою вымысла. Он не льстит жизни, но и не клевещет на нее; он рад выставить наружу все, что есть в ней прекрасного, человеческого, и в то же время не скрывает нимало и ее безобразия. В том и другом случае он верен жизни до последней степени. Она у него настоящий портрет, в котором все схвачено с удивительным сходством, начиная от экспрессии[2 - Экспрессия – выразительность.] оригинала до веснушек лица его; начиная от гардероба Ивана Никифоровича до русских мужиков, идущих по Невскому проспекту, в сапогах, запачканных известью; от колоссальной физиономии богатыря Бульбы, который не боялся ничего в свете, с люлькою в зубах и с саблею в руках, до стоического философа[3 - Стоический философ – твердый, мужественно переносящий испытания (от названия древнегреческой школы философов-стоиков).] Хомы, который не боялся ничего в свете, даже чертей и ведьм, когда у него люлька в зубах и рюмка в руках. «Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Гапке принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начинает кушать. Потом велит принести Гапке чернильницу и сам, собственною рукою, сделает надпись над бумажкою с семенами: сия дыня съедена такого-то числа. Если при этом был какой-нибудь гость, то: участвовал такой-то…» «Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться и, когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар и очень любит пить чай в такой прохладе». Скажите, бога ради, можно ли язвительнее, злобнее и, вместе с тем, добродушнее и любезнее надругаться над бедным человечеством?.. И все оттого, что слишком верно! А вот посмотрите на жизнь Филемона и Бавкиды: «Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу ты, но всегда вы: „вы, Афанасий Иванович“; „вы, Пульхерия Ивановна“. – „Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?“ – „Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я“… Или: „После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне: „А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?“ – „Чего же бы теперь закусить, Афанасий Иванович? Разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых!“ – „Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков“, – отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками. За час до обеда Афанасий Иванович закусывал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду. „Мне кажется, будто эта каша, – говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, – немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?“ – „Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней“. – „Пожалуй, – говорил Афанасий Иванович и подставлял свою тарелку, – попробуем, как оно будет…“ – „Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз“. – „Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный, – говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть, – бывает, что и красный, да не хороший“». Замечаете ли вы здесь всю тонкость Афанасия Ивановича, который хочет рваными околичностями отвести глаза своей сожительницы от своего ужасного аппетита, которого он как будто сам стыдится? Но посмотрим на его дальнейшие подвиги. «После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. Пришедши домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом… Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной и говорил: „Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?“ – „Чего же бы такого? – говорила Пульхерия Ивановна, – разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить“. – „И то добре“, – отвечал Афанасий Иванович… „Или, может быть, вы съели бы киселику?“ – „И то хорошо“, – отвечал Афанасий Иванович. После чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо. Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать… Ночью иногда Афанасий Иванович, ходя по спальне[4 - Так как подробные выписки были бы длиннее самой статьи, которая в без того длинна, то я позволил себе делать пропуски и, для связи, некоторые перемены в словах. (Прим. В. Г. Белинского.).], стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала: „Чего вы стонете, Афанасий Иванович?“ – „Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так как будто немного живот болит“, – говорил Афанасий Иванович. „Может быть, вы бы чего-нибудь съели, Афанасий Иванович?..“ – „Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! впрочем, чего ж бы такого съесть?“ – „Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами“. – „Пожалуй, разве только попробовать“, – говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку. После чего он обыкновенно говорил: „Теперь так как будто сделалось легче“.
Как вы думаете об этом? По-моему, так в этом очерке весь человек, вся жизнь его, с ее прошедшим, настоящим и будущим! А супружеская любовь двух старцев, а насмешечки Афанасия Ивановича над своею сожительницею касательно внезапного пожара в их доме или, что еще ужаснее, касательно его намерения идти на войну; страх доброй Пульхерии Ивановны, ее возражения, ее легкая досада и, наконец, чувство самодовольствия, испытываемое Афанасием Ивановичем при мысли, что ему удалось подшутить над своею дражайшею половиною! О, эти картины, эти черты – сутьтакие драгоценные перлы поэзии, в сравнении с которыми все прекрасные фразы наших доморощенных Бальзаков настоящий горох!.. И все это не придумано, не списано с рассказов или с действительности, но угадано чувством, в минуту поэтического откровения! Если бы я вздумал выписывать все места, доказывающие, что г. Гоголь уловил идею описываемой жизни и верно воспроизвел ее, то мне пришлось бы списать почти все его повести, от слова до слова.
Повести г. Гоголя народны в высочайшей степени; но я не хочу слишком распространяться о их народности, ибо народность есть не достоинство, а необходимое условие истинно художественного произведения, если под народностию должно разуметь верность изображения нравов, обычаев и характера того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякого народа проявляется в своих, ей одной свойственных, формах, следовательно, если изображение жизни верно, то и народно. Народность, чтобы отразиться в поэтическом произведении, не требует такого глубокого изучения со стороны художника, как обыкновенно думают. Поэту стоит только мимоходом взглянуть на ту или другую жизнь, и она уже усвоена им. Как малороссу, г. Гоголю с детства знакома жизнь малороссийская, но народность его поэзии не ограничивается одною Малороссиею. В его „Записках сумасшедшего“, в его „Невском проспекте“ нет ни одного хохла, все русские, и вдобавок еще немцы; а каково изображены им эти русские и эти немцы! Каков Шиллер и Гофман? Замечу здесь мимоходом, что, право, пора бы нам перестать хлопотать о народности, также как пора бы перестать писать, не имея таланта; ибо эта народность очень похожа на тень в басне Крылова: г. Гоголь о ней нимало не думает, и она сама напрашивается к нему, тогда как многие из всех сил гоняются за нею и ловят – одну тривиальность[5 - Тривиальность – избитость, пошлость.].
Почти то же самое можно сказать и об оригинальности; как и народность, она есть необходимое условие истинного таланта. Два человека могут сойтись в заказной работе, но никогда в творчестве, ибо если одно вдохновение не посещает двух раз одного человека, то еще менее одинаковое вдохновение может посетить двух человек. Вот почему мир творчества так неистощим и безграничен. Поэт никогда не скажет: „О чем мне писать? уж все переписано!“ – или:
О боги, для чего я поздно так родился?
Один из самых отличительных признаков творческой оригинальности или, лучше сказать, самого творчества состоит в этом типизме, если можно так выразиться, который есть гербовая печать автора. У истинного таланта каждое лицо – тип, и каждый тип, для читателя, есть знакомый незнакомец. Не говорите: вот человек с огромною душою, с пылкими страстями, с обширным умом, но ограниченным рассудком, который до такого бешенства любит свою жену, что готов удавить ее руками при малейшем подозрении в неверности, – скажите проще и короче: вот Отелло! Не говорите: вот человек, который глубоко понимает назначение человека и цель жизни, который стремится делать добро, но, лишенный энергии души, не может сделать ни одного доброго дела и страдает от сознания своего бессилия, – скажите: вот Гамлет! Не говорите: вот чиновник, который подл по убеждению, зловреден благонамеренно, преступен добросовестно, – скажите: вот Фамусов! Не говорите: вот человек, который подличает из выгод, подличает бескорыстно, по одному влечению души, – скажите: вот Молчалин! Не говорите: вот человек, который во всю жизнь не ведал ни одной человеческой мысли, ни одного человеческого чувства, который во всю жизнь не знал, что у человека есть страдания и горести, кроме холода, бессонницы, клопов, блох, голода и жажды, есть восторги и радости, кроме спокойного сна, сытного стола, цветочного чаю, что в жизни человека бывают случаи поважнее съеденной дыни, что у него есть занятия и обязанности, кроме ежедневного осмотра своих сундуков, анбаров и хлевов, есть честолюбие выше уверенности, что он первая персона в каком-нибудь захолустье; о, не тратьте так много фраз, так много слов, – скажите просто: вот Иван Иванович Перерепенко, или: вот Иван Никифорович Довгочхун! И поверьте, вас скорее поймут все. В самом деле, Онегин, Ленский, Татьяна, Зарецкий, Репетилов, Хлестова, Тугоуховский, Платон Михайлович Горич, княжна Мими, Пульхерия Ивановна, Афанасий Иванович, Шиллер, Пискарев, Пирогов – разве все эти собственные имена теперь уже не нарицательные? И, боже мой! как много смысла заключает в себе каждое из них! Это повесть, роман, история, поэма, драма, многотомная книга, короче: целый мир в одном, только в одном слове!.. И какой мастер г. Гоголь выдумывать такие слова! Не хочу говорить о тех, о которых и так уже много говорил, скажу только об одном таком его словечке, это – Пирогов!.. Святители! да это целая каста, целый народ, целая нация! О единственный, несравненный Пирогов, тип из типов, первообраз из первообразов! Ты многообъемлющее, чем Шайлок, многозначительнее, чем Фауст! Ты представитель просвещения и образованности всех людей, которые „любят потолковать об литературе, хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове“. Да, господа, дивное словцо этот – Пирогов! Это символ, мистический миф, это, наконец, кафтан, который так чудно скроен, что придет по плечам тысячи человек! О, г. Гоголь большой мастер выдумывать такие слова, отпускать такие bons mots![6 - Острые, меткие словечки (фр.).] А отчего он такой мастер на них? Оттого, что оригинален. А отчего оригинален? Оттого, что поэт.
Но есть еще другая оригинальность, проистекающая из индивидуальности автора, следствие цвета очков, сквозь которые смотрит он на мир. Такая оригинальность у г. Гоголя состоит, как я уже сказал выше, в комическом одушевлении, всегда побеждаемом чувстве глубокой грусти. В этом отношении русская поговорка: „Начал во здравие, а свел за упокой“ – может быть девизом его повестей. В самом деле, какое чувство остается у вас, когда пересмотрите вы все эти картины жизни, пустой, ничтожной, во всей ее наготе, во всем ее чудовищном безобразии, когда досыта нахохочетесь, наругаетесь над нею? Я уже говорил о „Старосветских помещиках“ – об этой слезной комедии во всем смысле этого слова. Возьмите „Записки сумасшедшего“, этот уродливый гротеск[7 - Гротеск – особый вид комизма: преувеличенное до карикатурности изображение явлений действительности.], эту странную, прихотливую грезу художника, эту добродушную насмешку над жизнию и человеком, жалкою жизнию, жалким человеком, эту карикатуру, в которой такая бездна поэзии, такая бездна философии, эту психическую историю болезни, изложенную в поэтической форме, удивительную по своей истине и глубокости, достойную кисти Шекспира: вы еще смеетесь над простаком, но уже ваш смех растворен горечью; это смех над сумасшедшим, которого бред и смешит, и возбуждает сострадание. Я уже говорил также и о „Ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем“ в сем отношении; прибавлю еще, что, с этой стороны, эта повесть всего удивительнее. В „Старосветских помещиках“ вы видите людей пустых, ничтожных и жалких, но, по крайней мере, добрых и радушных; их взаимная любовь основана на одной привычке: но ведь и привычка все же человеческое чувство, но ведь всякая любовь, всякая привязанность, на чем бы она ни основывалась, достойна участия, следовательно, еще понятно, почему вы жалеете об этих стариках. Но Иван Иванович и Иван Никифорович существа совершенно пустые, ничтожные и притом нравственно гадкие и отвратительные, ибо в них нет ничего человеческого; зачем же, спрашиваю я вас, зачем вы так горько улыбаетесь, так грустно вздыхаете, когда доходите до трагикомической развязки? Вот она, эта тайна поэзии! Вот они, эти чары искусства! Вы видите жизнь, а кто видел жизнь, тот не может не вздыхать!..
Комизм или гумор[8 - Гумор – употребительная в 30-40-х годах XIX в. форма слова «юмор».] г. Гоголя имеет свой, особенный характер: это гумор чисто русский, гумор спокойный, простодушный, в котором автор как бы прикидывается простачком. Г-н Гоголь с важностию говорит о бекеше Ивана Ивановича, и иной простак не шутя подумает, что автор и в самом деле в отчаянии оттого, что у него нет такой прекрасной бекеши. Да, г. Гоголь очень мило прикидывается; и хотя надо быть слишком глупым, чтобы не понять его иронии, но эта ирония чрезвычайно как идет к нему. Впрочем, это только манера, и истинный-то гумор г. Гоголя все-таки состоит в верном взгляде на жизнь и, прибавлю еще, нимало не зависит от карикатурности представляемой им жизни. Он всегда одинаков, никогда не изменяет себе, даже и в таком случае, когда увлекается поэзиею описываемого им предмета. Беспристрастие его идол. Доказательством этого может служить „Тарас Бульба“, эта дивная эпопея, написанная кистию смелою и широкою, этот резкий очерк героической жизни младенчествующего народа, эта огромная картина в тесных рамках, достойная Гомера. Бульба герой, Бульба человек с железным характером, железною волею: описывая подвиги его кровавой мести, автор возвышается до лиризма и в то же время делается драматиком в высочайшей степени, и все это не мешает ему по местам смешить вас своим героем. Вы содрогаетесь Бульбы, хладнокровно лишающего мать детей, убивающего собственною рукою родного сына, ужасаетесь его кровавых тризн над гробом детей, и вы же смеетесь над ним, дерущимся на кулачки с своим сыном, пьющим горелку с своими детьми, радующимся, что в этом ремесле они не уступают батюшке, и изъявляющим свое удовольствие, что их добре пороли в бурсе. И причина этого комизма, этой карикатурности изображений заключается не в способности или направлении автора находить во всем смешные стороны, но в верности жизни. Если г. Гоголь часто и с умыслом подшучивает над своими героями, то без злобы, без ненависти; он понимает их ничтожность, но не сердится на нее; он даже как будто любуется ею, как любуется взрослый человек на игры детей, которые для него смешны своею наивностию, но которых он не имеет желания разделить. Но тем не менее это все-таки гумор, ибо не щадит ничтожества, не скрывает и не скрашивает его безобразия, ибо, пленяя изображением этого ничтожества, возбуждает к нему отвращение. Это гумор спокойный и, может быть, тем скорее достигающий своей цели… После „Горя от ума“ я не знаю ничего на русском языке, что бы отличалось такою чистейшею нравственностию и что бы могло иметь сильнейшее и благодетельней шее влияние на нравы, как повести г. Гоголя. О, пред такою нравственностию я всегда готов падать на колена! В самом деле, кто поймет Ивана Ивановича Перерепенко, тот верно рассердится, если его назовут Иваном Ивановичем Перерепенком… Факты говорят громче слов: верное изображение нравственного безобразия могущественнее всех выходок против него…
…Г-н Гоголь сделался известным своими „Вечерами на хуторе“. Это были поэтические очерки Малороссии, очерки, полные жизни и очарования. Все, что может иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов обольстительного, все, что народ может иметь оригинального, типического, все это радужными цветами блестит в этих первых поэтических грезах г. Гоголя. Это была поэзия юная, свежая, благоуханная, роскошная, упоительная, как поцелуй любви… Читайте вы его „Майскую ночь“, читайте ее в зимний вечер у пылающего камелька, и вы забудете о зиме с ее морозами и метелями; вам будет чудиться эта светлая, прозрачная ночь благословенного юга, полная чудес и тайн; вам будет чудиться эта юная, бледная красавица, жертва ненависти злой мачехи, это оставленное жилище с одним растворенным окном, это пустынное озеро, на тихих водах которого играют лучи месяца, на зеленых берегах которого пляшут вереницы бесплотных красавиц… Это впечатление очень похоже на то, которое производит на воображение „Сон в летнюю ночь“ Шекспира. „Ночь пред Рождеством Христовым“ есть целая, полная картина домашней жизни народа, его маленьких радостей, его маленьких горестей, словом, тут вся поэзия его жизни. „Страшная месть“ составляет теперь pendant[9 - Соответствие (фр.).] к „Тарасу Бульбе“, и обе эти огромные картины показывают, до чего может возвышаться талант г. Гоголя. Но я никогда бы не кончил, если бы стал разбирать „Вечера на хуторе“! „Арабески“ и „Миргород“ носят на себе все признаки зреющего таланта. В них меньше этого упоения, этого лирического разгула, но больше глубины и верности в изображении жизни. Сверх того, он здесь расширил свою сцену действия и, не оставляя своей любимой, своей прекрасной, своей ненаглядной Малороссии, пошел искать поэзии в нравах среднего сословия в России. И, боже мой, какую глубокую и могучую поэзию нашел он тут! Мы, москали, и не подозревали ее!.. „Невский проспект“ есть создание столь же глубокое, сколько и очаровательное; это две полярные стороны одной и той же жизни, это высокое и смешное обок друг другу. На одной стороне этой картины бедный художник, беспечный и простодушный, как дитя, замечает на Невском проспекте женщину-ангела, одно из тех дивных созданий, которые могло производить только его художническое воображение; он следит за нею, он дрожит, он не смеет дохнуть, ибо он еще не знает ее, но уже обожает ее, а всякое обожание робко и трепетно; он замечает ее благосклонную улыбку, и „кареты казались ему недвижны, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка и алебарда часового, вместе с золотыми словами и нарисованными ножницами, блестела, казалось, на самой реснице его глаз“. Задыхаясь от упоения и трепетного предчувствия блаженства, он входит за нею в третий этаж большого дома, и что же представляется ему?.. Она, все так же прекрасная, очаровательная, она смотрит на него глупо, нагло, как бы говоря ему: „Ну! что же ты?..“ Он бросается вон. Я не хочу пересказывать его сна, этого дивного, драгоценного перла нашей поэзии, второго и единственного, после сна Татьяны Пушкина: здесь г. Гоголь поэт в высочайшей степени. Кто читает эту повесть в первый раз, для того в этом дивном сне действительность и поэзия, реальное и фантастическое так тесно сливаются, что читатель изумляется, узнавши, что все это только сон. Представьте себе бедного оборванного, запачканного художника, потерянного в толпе звезд, крестов и всякого рода советников: он толкается между ними, уничтожающими его своим блеском, он стремится к ней, и они беспрестанно разлучают его с ней, они, эти кресты и звезды, которые смотрят на нее без всякого упоения, без всякого трепета, как на свои золотые табакерки… И какое пробуждение после этого сна! и как можно жить после такого пробуждения? И он точно не живет более в действительности, он весь в грезах… Наконец в его душе блеснул обманчивый, но радужный луч надежды: он решается на самоотвержение, он хочет принести ей в жертву, как Молоху, даже честь свою… „А я только что теперь проснулась, меня привезли в семь часов утра, я была совсем пьяна“, – это говорит ему она, все так же прекрасная, очаровательная… После этого можно ли было жить даже и в грезах?.. И нет художника, он сошел в темную могилу, никем не оплаканный, и мир не знал, какая высокая и ужасная драма была разыграна в этой грешной, страдальческой душе…
На другой стороне этой картины вы видите Пирогова и Шиллера, того Пирогова, о котором я уже говорил, того Шиллера, который хотел отрезать себе нос, чтобы избавиться от излишних расходов на табак; того Шиллера, который говорит с гордостью, что он швабский немец, а не русская свинья, и что у него есть король в Германии; того Шиллера, который „еще с двадцатилетнего возраста, с того времени, которое русский живет на фуфу, измерил всю свою жизнь и положил себе, в течение 10 лет, составить капитал из 50 тысяч и у которого, это было уже так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец решится переменить свое слово“; наконец, того Шиллера, который „положил целовать жену свою в сутки не более двух раз и, чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз, никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп“. Чего вам еще? Тут весь человек, вся история его жизни!.. А Пирогов?.. 0, об нем об одном можно написать целую книгу!.. Вы помните его волокитство за глупою блондинкою, с которою он составляет такую отличную пару, его ссору и отношения с Шиллером; помните, какие ужасные побои претерпел он от флегматического Отелло, помните, каким негодованием, какою жаждою мести закипело сердце поручика, и помните, как скоро прошла его досада от съеденных кондитерских пирожков и прочтения „Пчелы“?» Чудные пирожки! Чудная «Пчела»! Пискарев и Пирогов – какой контраст! Оба они начали, в один день, в один час, преследования своих красавиц, и как различны для обоих них были следствия этих преследований! 0, какой смысл скрыт в этом контрасте! И какое действие производит этот контраст! Пискарев и Пирогов, один в могиле, другой доволен и счастлив, даже после неудачного волокитства и ужасных побоев!.. Да, господа, скучно на этом свете!..
Я еще мало говорил о «Тарасе Бульбе» и не буду слишком распространяться о нем, ибо, в таком случае, у меня вышла бы еще статья, не менее самой повести… «Тарас Бульба» есть отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого народа. Если в наше время возможна гомерическая[10 - Гомерическая – то же, что гомеровская.] эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип!.. Если говорят, что в «Илиаде» отражается вся жизнь греческая в ее героический период, то разве одни пиитики и риторики прошлого века запретят сказать то же самое и о «Тарасе Бульбе» в отношении к Малороссии XVI века?.. И в самом деле, разве здесь не все козачество, с его странною цивилизациею, его удалою, разгульною жизнию, его беспечностию и ленью, неутомимостью и деятельностию, его буйными оргиями и кровавыми набегами?.. Скажите мне, чего нет в этой картине? Чего недостает к ее полноте? Не выхвачено ли все это со дна жизни, не бьется ли здесь огромный пульс всей этой жизни? Этот богатырь Бульба с своими могучими сыновьями; эта толпа запорожцев, дружно отдирающая на площади трепака, этот козак, лежащий в луже, для показания своего презрения к дорогому платью, которое на нем надето, и как бы вызывающий на драку всякого дерзкого, кто бы осмелился дотронуться до него хоть пальцем; этот кошевой, поневоле говорящий красноречивую, витиеватую речь о необходимости войны с бусурманами, потому что «многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры неймет»; эта мать, которая является как бы мимоходом, чтобы заживо оплакать детей своих, как всегда являлась в тот век женщина и мать в козацкой жизни… А жиды и ляхи, а любовь Андрия и кровавая месть Бульбы, а казнь Остапа, его воззвание к отцу и «слышу»[11 - Впрочем, я не ставлю в слишком большую заслугу г. Гоголю этого «слышу» и не думаю, подобно некоторым, что если бы г. Гоголь и не изобрел ничего другого, кроме этого славного «слышу», то одним им мог бы заставить молчать злонамеренность критики; ибо, во-первых, злонамеренность критики нельзя обезоружить изящными созданиями, чему примером может служить этот же самый г. Гоголь, некоторыми благонамеренными критиками пожалованный в Поль де Коки; потом, это славное «слышу» не имело бы никакого смысла без отношения к целой повести и без связи с нею; и, наконец, теперь уже прошло то время, когда в пример высокого представляли: «Qu'il mourut», «Moi!», «Ax, я Эдип!», «Я Росс!» и т. п., зачем же обогащать педантов новым примером высокого в выражении? (Прим. В. Г. Белинского.).] Бульбы и, наконец, героическая гибель старого фанатика, который не чувствовал своих ужасных мук, потому что чувствовал одну жажду мести к враждебному народу?.. И это не эпопея?.. Да что же такое эпопея?.. И какая кисть, широкая, размашистая, резкая, быстрая! Какие краски, яркие и ослепительные!.. И какая поэзия, энергическая, могучая, как эта Запорожская Сечь, «то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы, откуда разливается воля и козачество на всю Украину!..».
Что еще сказать вам? Может быть, вы мало удовлетворены и тем, что я уже сказал: что делать? Гораздо легче чувствовать и понимать прекрасное, нежели заставлять других чувствовать и понимать его! Если одни из читателей, прочтя мою статью, скажут: «Это правда», или по крайней мере: «Во всем этом есть и правда»; если другие, прочтя ее, захотят прочесть и разобранные в ней сочинения, – мой долг выполнен, цель достигнута.
Но какой же общий результат выведу я из всего сказанного мною? Что такое г. Гоголь в нашей литературе? Где его место в ней? Чего должно ожидать нам от него, от него, еще только начавшего свое поприще, и как начавшего? Не мое дело раздавать венки бессмертия поэтам, осуждать на жизнь или смерть литературные произведения; если я сказал, что г. Гоголь поэт, я уже все сказал, я уже лишил себя права делать ему судейские приговоры. Теперь у нас слово «поэт» потеряло свое значение: его смешали с словом «писатель». У вас много писателей, некоторые даже с дарованием, но нет поэтов. Поэт – высокое и святое слово; в нем заключается неумирающая слава! Но дарование имеет свои степени; Козлов, Жуковский, Пушкин, Шиллер: эти люди поэты, но равны ли они? Разве не спорят еще и теперь, кто выше: Шиллер или Гете? Разве общий голос не назвал Шекспира царем поэтов, единственным и несравненным? И вот задачи критика: определить степень, занимаемую художником в кругу своих собратий. Но г. Гоголь еще только начал свое поприще; следовательно, наше дело высказать свое мнение о его дебюте и о надеждах в будущем, которые подает этот дебют. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным. Предоставим времени решить, чем и как кончится поприще г. Гоголя, а теперь будем желать, чтобы этот прекрасный талант долго сиял на небосклоне нашей литературы, чтобы его деятельность равнялась его силе.
В «Арабесках» помещены два отрывка из романа. Об этих отрывках нельзя судить как об отдельном и целом создании; но о них можно сказать, что они вполне могут служить залогом тех надежд, о которых я говорил. Поэты бывают двух родов: одни только доступны поэзии, и она у них бывает более способностию, чем даром или талантом, и много зависит от внешних обстоятельств жизни; у других дар поэзии есть нечто положительное, нечто составляющее нераздельную часть их бытия. Первые, иногда один раз в целую жизнь, выскажут какую-нибудь прекрасную поэтическую грезу и, как будто обессиленные тяжестью свершенного ими подвига, ослабевают и падают в последующих своих произведениях; и вот отчего у них первый опыт, по большей части, бывает прекрасен, а последующие постепенно подрывают их славу. Другие с каждым новым произведением возвышаются и крепнут; г. Гоголь принадлежит к числу этих последних поэтов: этого довольно!
Я забыл еще об одном достоинстве его произведений; это лиризм, которым проникнуты его описания таких предметов, которыми он увлекается. Описывает ли он бедную мать, это существо высокое и страждущее, это воплощение святого чувства любви, – сколько тоски, грусти и любви в его описании! Описывает ли он юную красоту – сколько упоения, восторга в его описании! Описывает ли он красоту своей родной, своей возлюбленной Малороссии – это сын, ласкающийся к обожаемой матери! Помните ли вы его описание безбрежных степей днепровских? Какая широкая, размашистая кисть! Какой разгул чувства! Какая роскошь и простота в этом описании! Черт вас возьми, степи, как вы хороши у г. Гоголя!..
Сочинения Александра Пушкина
Статья пятая
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйной,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шепот речки тихоструйной.
Пафос поэзии Пушкина вообще. —
Разбор лирических произведений Пушкина.
Каждое поэтическое произведение есть плод могучей мысли, овладевшей поэтом. Если б мы допустили, что эта мысль есть только результат деятельности его рассудка, мы убили бы этим не только искусство, но и самую возможность искусства. В самом деле, что мудреного было бы сделаться поэтом, и кто бы не в состоянии был сделаться поэтом по нужде, по выгоде или по прихоти, если б для этого стоило только придумать какую-нибудь мысль, да и втискать ее в придуманную же форму? Нет, не так это делается поэтами по натуре и призванию! У того, кто не поэт по натуре, пусть придуманная им мысль будет глубока, истинна, даже свята, – произведение все-таки выйдет мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое – и никого не убедит оно, а скорее разочарует каждого в выраженной им мысли, несмотря на всю ее правдивость! Но между тем так-то именно и понимает толпа искусство, этого-то именно и требует она от поэтов! Придумайте ей, на досуге, мысль получше да потом и обделайте ее в какой-нибудь вымысел, словно брильянт в золото! Вот и дело с концом! Нет, не такие мысли и не так овладевают поэтом и бывают живыми зародышами живых созданий! Искусство не допускает к себе отвлеченных философских, а тем менее рассудочных идей: оно допускает только идеи поэтические, а поэтическая идея – это не силлогизм, не догмат, не правило, это – живая страсть, это – пафос… Что такое пафос? – Творчество – не забава, и художественное произведение – не плод досуга или прихоти; оно стоит художнику труда; он сам не знает, как западает в его душу зародыш нового произведения; он носит и вынашивает в себе зерно поэтической мысли, как носит и вынашивает мать младенца в утробе своей; процесс творчества имеет аналогию с процессом деторождения и не чужд мук, разумеется духовных, этого физического акта. И потому, если поэт решится на труд и подвиг творчества, значит, что его к этому движет, стремит какая-то могучая сила, какая-то непобедимая страсть. Эта сила, эта страсть – пафос. В пафосе поэт является влюбленным в идею, как в прекрасное, живое существо, страстно проникнутым ею, – и он созерцает ее не разумом, не рассудком, не чувством и не какою-либо одною способностью своей души, но всею полнотою и целостью своего нравственного бытия, – и потому идея является в его произведении не отвлеченною мыслью, не мертвою формою, а живым созданием, в котором живая красота формы свидетельствует о пребывании в ней божественной идеи и в котором нет черты, свидетельствующей о сшивке или спайке, – нет границы между идеею и формою, но та и другая являются целым и единым органическим созданием. Идеи истекают из разума; но живое творит и рождает не разум, а любовь. Отсюда ясно видна разница между идеею отвлеченною и поэтическою: первая – плод ума, вторая – плод любви как страсти. Но отчего же, скажут, называть это пафосом, а не страстью? – Оттого, что слово «страсть» заключает в себе понятие более чувственное, тогда как слово «пафос» заключает в себе понятие более нравственное. В страсти много индивидуального, личного, своекорыстного, темного, в ней может быть даже низкое и подлое; потому что можно питать страсть не только к женщине, но и к женщинам, не только к славе, но и к почестям, можно питать страсть к деньгам, к вину, к гастрономии. В страсти много чисто чувственного, кровного, нервического, телесного, земного. Под «пафосом» разумеется тоже страсть, и притом соединенная с волнением крови, с потрясением всей нервной системы, как и всякая другая страсть; но пафос всегда есть страсть, возжигаемая в душе человека идеею и всегда стремящаяся к идее, – следовательно, страсть чисто духовная, нравственная, небесная. Пафос простое умственное постижение идеи превращает в любовь к идее, полную энергии и страстного стремления. В философии идея является бесплотною; через пафос она превращается в дело, в действительный факт, в живое создание. От слова пафос, или патос (pathos), происходит слово патетический, наиболее употребляемое в отношении к драматической поэзии, как к наиболее исполненной пафоса по своей сущности. Но мы лучше объясним значение пафоса указанием на него в великих произведениях искусства. Пафос Шекспировой драмы «Ромео и Джульетта» составляет идея любви, – и потому пламенными волнами, сверкающими ярким светом звезд, льются из уст любовников восторженные патетические речи… Это пафос любви, потому что в лирических монологах Ромео и Джульетты видно не одно только любование друг другом, но и торжественное, гордое, исполненное упоения признание любви, как божественного чувства. В тех монологах Ромео и Джульетты, когда их любви начало угрожать несчастье, бурным потоком изливается энергия раздраженного чувства, вдруг встретившего препятствие своему вольному и широкому разливу. Пафос «Гамлета» составляет борьба негодования на порок и преступление с бессилием вступить с ними в открытый и отчаянный бой, как того требует сознание долга… Таких примеров можно было бы привести много, но для объяснения нашей мысли довольно и этих двух.
Итак, каждое поэтическое произведение должно быть плодом пафоса, должно быть проникнуто им. Без пафоса нельзя понять, что заставило поэта взяться за перо и дало ему силу и возможность начать и кончить иногда довольно большое сочинение. Поэтому выражения: в этом произведении есть идея, а в этом нет идеи, не совсем точны и определенны. Вместо этого должно говорить: в чем состоит пафос этого произведения? или: в этом произведении есть пафос, а в этом нет. Это будет гораздо определеннее и точнее, потому что многие ошибочно принимают за идею то, что может быть идеею везде, кроме произведения, где ее думают видеть и где она, в самом-то деле, является просто резонерством, кое-как прикрытым сшивными лохмотьями бедной формы, из-под которой так и сквозит его нагота. Пафос – другое дело. Надо быть совершенно лишенным всякого эстетического такта, чтоб увидеть пафос в произведении холодном, мертвом, в котором идея с формою слиты, как масло с водою, или сшиты на живую нитку белыми стежками.
Виссарион Григорьевич Белинский
Николай Александрович Добролюбов
Дмитрий Иванович Писарев
Всемирная литература (с картинкой)
Русская критика XIX века – особое явление в истории русской литературы, значительная составляющая культурного наследия прошлого. Напряженная литературная жизнь России середины XIX столетия, яростная полемика материалистического, эстетического, органического направлений критики отражала расцвет русской литературы, появление писателей мирового уровня – А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева и др.
В состав настоящей книги включены основные работы русских литературных критиков, вошедшие в школьную программу.
В формате А4 PDF сохранён издательский макет.
Виссарион Григорьевич Белинский, Николай Александрович Добролюбов, Николай Гаврилович Чернышевский, Дмитрий Иванович Писарев, Аполлон Александрович Григорьев, Николай Николаевич Страхов, Александр Васильевич Дружинин
Статьи критиков о русской литературе
Белинский. Добролюбов. Писарев
Сборник
* * *
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Оформление. 000 «Издательство „Эксмо“», 2024
Виссарион Григорьевич Белинский
О русской повести и повестях г. Гоголя
Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют – простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств заключается в одном источнике: г. Гоголь – поэт, поэт жизни действительной… Скажите, какое впечатление прежде всего производит на вас каждая повесть г. Гоголя? Не заставляет ли она вас говорить: «Как всё это просто, обыкновенно, естественно и верно и, вместе, как оригинально и ново!» Не удивляетесь ли вы и тому, почему вам самим не пришла в голову та же самая идея, почему вы сами не могли выдумать этих же самых лиц, так обыкновенных, так знакомых вам, так часто виденных вами, и окружить их этими самыми обстоятельствами, так повседневными, так общими, так наскучившими вам в жизни действительной и так занимательными, очаровательными в поэтическом представлении? Вот первый признак истинно художественного произведения. Потом, не знакомитесь ли вы с каждым персонажем его повести так коротко, как будто вы его давно знали, долго жили с ним вместе? Не дополняете ли вы своим воображением его портрета, и без того уже нарисованного автором во весь рост? Не в состоянии ли прибавить к нему новые черты, как будто забытые автором, не в состоянии ли вы рассказать об этом лице несколько анекдотов, как будто бы опущенных автором? Не верите ли вы на слово, не готовы ли вы побожиться, что все рассказанное автором есть сущая правда без всякой примеси вымысла? Какая этому причина? Та, что эти создания ознаменованы печатию истинного таланта, что они созданы по непреложным законам творчества. Эта простота вымысла, эта нагота действия, эта скудость драматизма, самая эта мелочность и обыкновенность описываемых автором происшествий – суть верные, необманчивые признаки творчества; это поэзия реальная, поэзия жизни действительной, жизни, коротко знакомой нам… Когда посредственный талант берется рисовать сильные страсти, глубокие характеры, он может стать на дыбы, натянуться, наговорить громких монологов, насказать прекрасных вещей, обмануть читателя блестящею отделкою, красивыми формами, самим содержанием, мастерским рассказом, цветистою фразеологиею – плодами своей начитанности, ума, образованности, опыта жизни. Но возьмись он за изображение повседневных картин жизни, жизни обыкновенной, прозаической – о, поверьте, для него это будет истинным камнем преткновения, и его вялое, холодное и бездушное сочинение уморит вас зевотою. В самом деле, заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, ничтожностию и юродством этих живых пасквилей на человечество – это удивительно; но заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души, заставить нас расстаться с ними с каким-то глубоко грустным чувством, заставить нас воскликнуть вместе с собою: «Скучно на этом свете, господа!» – вот, вот оно, то божественное искусство, которое называется творчеством; вот он, тот художнический талант, для которого где жизнь, там и поэзия! И возьмите почти все повести г. Гоголя: какой отличительный характер их? Что такое почти каждая из его повестей? Смешная комедия, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами и которая, наконец, называется жизнию. И таковы все его повести: сначала смешно, потом грустно! И такова жизнь наша: сначала смешно, потом грустно! Сколько тут поэзии, сколько философии, сколько истины!..
В каждом человеке должно различать две стороны: общую, человеческую, и частную, индивидуальную; всякий человек прежде всего человек и потом уже Иван, Сидор и т. д. Точно так же и в художественных созданиях должно различать два характера: характер творчества, общий всем изящным произведениям, и характер колорита, сообщенный индивидуальностию автора. Я уже коснулся в общих чертах первого характера в повестях г. Гоголя; теперь рассмотрю его подробнее; потом буду говорить об индивидуальном характере его созданий и, наконец, заключу мою статью беглым взглядом на те из его повестей, о которых можно будет сказать что-нибудь в частности.
Я уже сказал, что отличительные черты характера произведений г. Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность – все это черты общие; потом комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния, – черта индивидуальная.
Простота вымысла в поэзии реальной есть один из самых верных признаков истинной поэзии, истинного и притом зрелого таланта. Возьмите любую драму Шекспира, возьмите, например, его «Тимона Афинского»: эта пьеса так проста, так немногосложна, так скудна путаницею происшествий, что, право, невозможно и рассказать ее содержания. Люди обманули человека, который любил людей, надругались над его святыми чувствованиями, лишили его веры в человеческое достоинство, и этот человек возненавидел людей и проклял их: вот вам и все тут, больше ничего нет. И что ж? Составили ли вы себе, по моим словам, какое-нибудь понятие об этом великом создании великого гения? О, верно, никакого! Ибо эта идея слишком обыкновенна, слишком известна всем, каждому, слишком истерта и истреплена в тысячах сочинений, хороших и дурных… Но форма, в которой выражена эта идея, но содержание пьесы и ее подробности? Последние так мелочны, так пусты и притом так всякому известны, что я наскучил бы вам смертельно, если бы вздумал их пересказывать. И, однако ж, у Шекспира эти подробности так занимательны, что вы не оторветесь от них, и, однако ж, у него мелочность и пустота этих подробностей приготовляет ужасную катастрофу, от которой волосы встают дыбом, – сцену в лесу, где Тимон в бешеных проклятиях, в горьких, язвительных сарказмах, с сосредоточенною, спокойною яростию рассчитывается с человечеством. И потом, как выразить вам то чувство, которое возбуждает в душе известие о смерти добровольного отверженца от людей! И вся эта ужасная, хотя и бескровная трагедия, ужасная даже в своей простоте, в своем спокойствии, приготовляется глупою комедиею, отвратительною картиною, как люди обжирают человека, помогают ему разориться и потом забывают о нем, эти люди, которые
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей![1 - Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы».]
И вот вам жизнь или, лучше сказать, прототип жизни, созданный величайшим из поэтов! Тут нет эффектов, нет сцен, нет драматических вычур, все просто и обыкновенно, как день мужика, который в будень ест и пашет, спит и пашет, а в праздник ест, пьет и напивается пьян. Но в том-то и состоит задача реальной поэзии, чтобы извлекать поэзию жизни из прозы жизни и потрясать души верным изображением этой жизни. И как сильна и глубока поэзия г. Гоголя в своей наружной простоте и мелкости! Возьмите его «Старосветских помещиков»: что в них? Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится исстари, умирают. Но отчего же это очарование? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, и между тем принимаете такое участие в персонажах повести, смеетесь над ними, но без злости, и потом рыдаете с Филемоном о его Бавкиде, сострадаете его глубокой, неземной горести и сердитесь на негодяя-наследника, промотавшего достояние двух простаков! И потом, вы так живо представляете себе актеров этой глупой комедии, так ясно видите всю их жизнь, вы, который, может быть, никогда не бывал в Малороссии, никогда не видал таких картин и не слыхал о такой жизни! Отчего это? Оттого, что это очень просто и, следовательно, очень верно; оттого, что автор нашел поэзию и в этой пошлой и нелепой жизни, нашел человеческое чувство, двигавшее и оживлявшее его героев: это чувство – привычка. Знаете ли вы, что такое привычка, это странное чувство, о котором Пушкин сказал:
Привычка небом нам дана:
Замена счастия она!
Можете ли вы предположить возможность мужа, который рыдает над гробом своей жены, с которой сорок лет грызся, как кошка с собакою? Понимаете ли вы, что можно грустить о дурной квартире, в которой вы жили много лет, к которой вы привыкли, как душа к телу, и с которою у вас соединяются воспоминания о простой, однообразной жизни, о живом труде и сладком досуге и, может быть, о нескольких сценах любви и наслаждения, и которую вы меняете на великолепные палаты? Понимаете ли вы, что можно грустить о собаке, которая десять лет сидела на цепи и десять лет вертела хвостом, когда вы мимо нее проходили?.. О, привычка – великая психологическая задача, великое таинство души человеческой. Холодному сыну земли, сыну забот и помыслов житейских, заменяет она чувства человеческие, которых лишила его природа или обстоятельства жизни. Для него она истинное блаженство, истинный дар провидения, единственный источник его радостей и (дивное дело!) радостей человеческих! Но что она для человека в полном смысле этого слова? Не насмешка ли судьбы? И он платит ей свою дань, и он прилепляется к пустым вещам и пустым людям и горько страдает, лишаясь их! И что же еще? Г-н Гоголь сравнивает ваше глубокое, человеческое чувство, вашу высокую, пламенную страсть с чувством привычки жалкого получеловека и говорит, что его чувство привычки сильнее, глубже и продолжительнее вашей страсти, и вы стоите перед ним, потупя глаза и не зная, что отвечать, как ученик, не знающий урока, перед своим учителем!.. Так вот где часто скрываются пружины лучших наших действий, прекраснейших наших чувств! О бедное человечество! жалкая жизнь! И, однако ж, вам все-таки жаль Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны! Вы плачете о них, о них, которые только пили и ели и потом умерли! О, г. Гоголь истинный чародей, и вы не можете представить, как я сердит на него за то, что он и меня чуть не заставил плакать о них, которые только пили и ели и потом умерли!
Совершенная истина жизни в повестях г. Гоголя тесно соединяется с простотою вымысла. Он не льстит жизни, но и не клевещет на нее; он рад выставить наружу все, что есть в ней прекрасного, человеческого, и в то же время не скрывает нимало и ее безобразия. В том и другом случае он верен жизни до последней степени. Она у него настоящий портрет, в котором все схвачено с удивительным сходством, начиная от экспрессии[2 - Экспрессия – выразительность.] оригинала до веснушек лица его; начиная от гардероба Ивана Никифоровича до русских мужиков, идущих по Невскому проспекту, в сапогах, запачканных известью; от колоссальной физиономии богатыря Бульбы, который не боялся ничего в свете, с люлькою в зубах и с саблею в руках, до стоического философа[3 - Стоический философ – твердый, мужественно переносящий испытания (от названия древнегреческой школы философов-стоиков).] Хомы, который не боялся ничего в свете, даже чертей и ведьм, когда у него люлька в зубах и рюмка в руках. «Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Гапке принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начинает кушать. Потом велит принести Гапке чернильницу и сам, собственною рукою, сделает надпись над бумажкою с семенами: сия дыня съедена такого-то числа. Если при этом был какой-нибудь гость, то: участвовал такой-то…» «Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться и, когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар и очень любит пить чай в такой прохладе». Скажите, бога ради, можно ли язвительнее, злобнее и, вместе с тем, добродушнее и любезнее надругаться над бедным человечеством?.. И все оттого, что слишком верно! А вот посмотрите на жизнь Филемона и Бавкиды: «Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу ты, но всегда вы: „вы, Афанасий Иванович“; „вы, Пульхерия Ивановна“. – „Это вы продавили стул, Афанасий Иванович?“ – „Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна: это я“… Или: „После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне: „А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?“ – „Чего же бы теперь закусить, Афанасий Иванович? Разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых!“ – „Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков“, – отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками. За час до обеда Афанасий Иванович закусывал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду. „Мне кажется, будто эта каша, – говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, – немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?“ – „Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней“. – „Пожалуй, – говорил Афанасий Иванович и подставлял свою тарелку, – попробуем, как оно будет…“ – „Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз“. – „Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный, – говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть, – бывает, что и красный, да не хороший“». Замечаете ли вы здесь всю тонкость Афанасия Ивановича, который хочет рваными околичностями отвести глаза своей сожительницы от своего ужасного аппетита, которого он как будто сам стыдится? Но посмотрим на его дальнейшие подвиги. «После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. Пришедши домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом… Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной и говорил: „Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?“ – „Чего же бы такого? – говорила Пульхерия Ивановна, – разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить“. – „И то добре“, – отвечал Афанасий Иванович… „Или, может быть, вы съели бы киселику?“ – „И то хорошо“, – отвечал Афанасий Иванович. После чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо. Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать… Ночью иногда Афанасий Иванович, ходя по спальне[4 - Так как подробные выписки были бы длиннее самой статьи, которая в без того длинна, то я позволил себе делать пропуски и, для связи, некоторые перемены в словах. (Прим. В. Г. Белинского.).], стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала: „Чего вы стонете, Афанасий Иванович?“ – „Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так как будто немного живот болит“, – говорил Афанасий Иванович. „Может быть, вы бы чего-нибудь съели, Афанасий Иванович?..“ – „Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! впрочем, чего ж бы такого съесть?“ – „Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами“. – „Пожалуй, разве только попробовать“, – говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку. После чего он обыкновенно говорил: „Теперь так как будто сделалось легче“.
Как вы думаете об этом? По-моему, так в этом очерке весь человек, вся жизнь его, с ее прошедшим, настоящим и будущим! А супружеская любовь двух старцев, а насмешечки Афанасия Ивановича над своею сожительницею касательно внезапного пожара в их доме или, что еще ужаснее, касательно его намерения идти на войну; страх доброй Пульхерии Ивановны, ее возражения, ее легкая досада и, наконец, чувство самодовольствия, испытываемое Афанасием Ивановичем при мысли, что ему удалось подшутить над своею дражайшею половиною! О, эти картины, эти черты – сутьтакие драгоценные перлы поэзии, в сравнении с которыми все прекрасные фразы наших доморощенных Бальзаков настоящий горох!.. И все это не придумано, не списано с рассказов или с действительности, но угадано чувством, в минуту поэтического откровения! Если бы я вздумал выписывать все места, доказывающие, что г. Гоголь уловил идею описываемой жизни и верно воспроизвел ее, то мне пришлось бы списать почти все его повести, от слова до слова.
Повести г. Гоголя народны в высочайшей степени; но я не хочу слишком распространяться о их народности, ибо народность есть не достоинство, а необходимое условие истинно художественного произведения, если под народностию должно разуметь верность изображения нравов, обычаев и характера того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякого народа проявляется в своих, ей одной свойственных, формах, следовательно, если изображение жизни верно, то и народно. Народность, чтобы отразиться в поэтическом произведении, не требует такого глубокого изучения со стороны художника, как обыкновенно думают. Поэту стоит только мимоходом взглянуть на ту или другую жизнь, и она уже усвоена им. Как малороссу, г. Гоголю с детства знакома жизнь малороссийская, но народность его поэзии не ограничивается одною Малороссиею. В его „Записках сумасшедшего“, в его „Невском проспекте“ нет ни одного хохла, все русские, и вдобавок еще немцы; а каково изображены им эти русские и эти немцы! Каков Шиллер и Гофман? Замечу здесь мимоходом, что, право, пора бы нам перестать хлопотать о народности, также как пора бы перестать писать, не имея таланта; ибо эта народность очень похожа на тень в басне Крылова: г. Гоголь о ней нимало не думает, и она сама напрашивается к нему, тогда как многие из всех сил гоняются за нею и ловят – одну тривиальность[5 - Тривиальность – избитость, пошлость.].
Почти то же самое можно сказать и об оригинальности; как и народность, она есть необходимое условие истинного таланта. Два человека могут сойтись в заказной работе, но никогда в творчестве, ибо если одно вдохновение не посещает двух раз одного человека, то еще менее одинаковое вдохновение может посетить двух человек. Вот почему мир творчества так неистощим и безграничен. Поэт никогда не скажет: „О чем мне писать? уж все переписано!“ – или:
О боги, для чего я поздно так родился?
Один из самых отличительных признаков творческой оригинальности или, лучше сказать, самого творчества состоит в этом типизме, если можно так выразиться, который есть гербовая печать автора. У истинного таланта каждое лицо – тип, и каждый тип, для читателя, есть знакомый незнакомец. Не говорите: вот человек с огромною душою, с пылкими страстями, с обширным умом, но ограниченным рассудком, который до такого бешенства любит свою жену, что готов удавить ее руками при малейшем подозрении в неверности, – скажите проще и короче: вот Отелло! Не говорите: вот человек, который глубоко понимает назначение человека и цель жизни, который стремится делать добро, но, лишенный энергии души, не может сделать ни одного доброго дела и страдает от сознания своего бессилия, – скажите: вот Гамлет! Не говорите: вот чиновник, который подл по убеждению, зловреден благонамеренно, преступен добросовестно, – скажите: вот Фамусов! Не говорите: вот человек, который подличает из выгод, подличает бескорыстно, по одному влечению души, – скажите: вот Молчалин! Не говорите: вот человек, который во всю жизнь не ведал ни одной человеческой мысли, ни одного человеческого чувства, который во всю жизнь не знал, что у человека есть страдания и горести, кроме холода, бессонницы, клопов, блох, голода и жажды, есть восторги и радости, кроме спокойного сна, сытного стола, цветочного чаю, что в жизни человека бывают случаи поважнее съеденной дыни, что у него есть занятия и обязанности, кроме ежедневного осмотра своих сундуков, анбаров и хлевов, есть честолюбие выше уверенности, что он первая персона в каком-нибудь захолустье; о, не тратьте так много фраз, так много слов, – скажите просто: вот Иван Иванович Перерепенко, или: вот Иван Никифорович Довгочхун! И поверьте, вас скорее поймут все. В самом деле, Онегин, Ленский, Татьяна, Зарецкий, Репетилов, Хлестова, Тугоуховский, Платон Михайлович Горич, княжна Мими, Пульхерия Ивановна, Афанасий Иванович, Шиллер, Пискарев, Пирогов – разве все эти собственные имена теперь уже не нарицательные? И, боже мой! как много смысла заключает в себе каждое из них! Это повесть, роман, история, поэма, драма, многотомная книга, короче: целый мир в одном, только в одном слове!.. И какой мастер г. Гоголь выдумывать такие слова! Не хочу говорить о тех, о которых и так уже много говорил, скажу только об одном таком его словечке, это – Пирогов!.. Святители! да это целая каста, целый народ, целая нация! О единственный, несравненный Пирогов, тип из типов, первообраз из первообразов! Ты многообъемлющее, чем Шайлок, многозначительнее, чем Фауст! Ты представитель просвещения и образованности всех людей, которые „любят потолковать об литературе, хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове“. Да, господа, дивное словцо этот – Пирогов! Это символ, мистический миф, это, наконец, кафтан, который так чудно скроен, что придет по плечам тысячи человек! О, г. Гоголь большой мастер выдумывать такие слова, отпускать такие bons mots![6 - Острые, меткие словечки (фр.).] А отчего он такой мастер на них? Оттого, что оригинален. А отчего оригинален? Оттого, что поэт.
Но есть еще другая оригинальность, проистекающая из индивидуальности автора, следствие цвета очков, сквозь которые смотрит он на мир. Такая оригинальность у г. Гоголя состоит, как я уже сказал выше, в комическом одушевлении, всегда побеждаемом чувстве глубокой грусти. В этом отношении русская поговорка: „Начал во здравие, а свел за упокой“ – может быть девизом его повестей. В самом деле, какое чувство остается у вас, когда пересмотрите вы все эти картины жизни, пустой, ничтожной, во всей ее наготе, во всем ее чудовищном безобразии, когда досыта нахохочетесь, наругаетесь над нею? Я уже говорил о „Старосветских помещиках“ – об этой слезной комедии во всем смысле этого слова. Возьмите „Записки сумасшедшего“, этот уродливый гротеск[7 - Гротеск – особый вид комизма: преувеличенное до карикатурности изображение явлений действительности.], эту странную, прихотливую грезу художника, эту добродушную насмешку над жизнию и человеком, жалкою жизнию, жалким человеком, эту карикатуру, в которой такая бездна поэзии, такая бездна философии, эту психическую историю болезни, изложенную в поэтической форме, удивительную по своей истине и глубокости, достойную кисти Шекспира: вы еще смеетесь над простаком, но уже ваш смех растворен горечью; это смех над сумасшедшим, которого бред и смешит, и возбуждает сострадание. Я уже говорил также и о „Ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем“ в сем отношении; прибавлю еще, что, с этой стороны, эта повесть всего удивительнее. В „Старосветских помещиках“ вы видите людей пустых, ничтожных и жалких, но, по крайней мере, добрых и радушных; их взаимная любовь основана на одной привычке: но ведь и привычка все же человеческое чувство, но ведь всякая любовь, всякая привязанность, на чем бы она ни основывалась, достойна участия, следовательно, еще понятно, почему вы жалеете об этих стариках. Но Иван Иванович и Иван Никифорович существа совершенно пустые, ничтожные и притом нравственно гадкие и отвратительные, ибо в них нет ничего человеческого; зачем же, спрашиваю я вас, зачем вы так горько улыбаетесь, так грустно вздыхаете, когда доходите до трагикомической развязки? Вот она, эта тайна поэзии! Вот они, эти чары искусства! Вы видите жизнь, а кто видел жизнь, тот не может не вздыхать!..
Комизм или гумор[8 - Гумор – употребительная в 30-40-х годах XIX в. форма слова «юмор».] г. Гоголя имеет свой, особенный характер: это гумор чисто русский, гумор спокойный, простодушный, в котором автор как бы прикидывается простачком. Г-н Гоголь с важностию говорит о бекеше Ивана Ивановича, и иной простак не шутя подумает, что автор и в самом деле в отчаянии оттого, что у него нет такой прекрасной бекеши. Да, г. Гоголь очень мило прикидывается; и хотя надо быть слишком глупым, чтобы не понять его иронии, но эта ирония чрезвычайно как идет к нему. Впрочем, это только манера, и истинный-то гумор г. Гоголя все-таки состоит в верном взгляде на жизнь и, прибавлю еще, нимало не зависит от карикатурности представляемой им жизни. Он всегда одинаков, никогда не изменяет себе, даже и в таком случае, когда увлекается поэзиею описываемого им предмета. Беспристрастие его идол. Доказательством этого может служить „Тарас Бульба“, эта дивная эпопея, написанная кистию смелою и широкою, этот резкий очерк героической жизни младенчествующего народа, эта огромная картина в тесных рамках, достойная Гомера. Бульба герой, Бульба человек с железным характером, железною волею: описывая подвиги его кровавой мести, автор возвышается до лиризма и в то же время делается драматиком в высочайшей степени, и все это не мешает ему по местам смешить вас своим героем. Вы содрогаетесь Бульбы, хладнокровно лишающего мать детей, убивающего собственною рукою родного сына, ужасаетесь его кровавых тризн над гробом детей, и вы же смеетесь над ним, дерущимся на кулачки с своим сыном, пьющим горелку с своими детьми, радующимся, что в этом ремесле они не уступают батюшке, и изъявляющим свое удовольствие, что их добре пороли в бурсе. И причина этого комизма, этой карикатурности изображений заключается не в способности или направлении автора находить во всем смешные стороны, но в верности жизни. Если г. Гоголь часто и с умыслом подшучивает над своими героями, то без злобы, без ненависти; он понимает их ничтожность, но не сердится на нее; он даже как будто любуется ею, как любуется взрослый человек на игры детей, которые для него смешны своею наивностию, но которых он не имеет желания разделить. Но тем не менее это все-таки гумор, ибо не щадит ничтожества, не скрывает и не скрашивает его безобразия, ибо, пленяя изображением этого ничтожества, возбуждает к нему отвращение. Это гумор спокойный и, может быть, тем скорее достигающий своей цели… После „Горя от ума“ я не знаю ничего на русском языке, что бы отличалось такою чистейшею нравственностию и что бы могло иметь сильнейшее и благодетельней шее влияние на нравы, как повести г. Гоголя. О, пред такою нравственностию я всегда готов падать на колена! В самом деле, кто поймет Ивана Ивановича Перерепенко, тот верно рассердится, если его назовут Иваном Ивановичем Перерепенком… Факты говорят громче слов: верное изображение нравственного безобразия могущественнее всех выходок против него…
…Г-н Гоголь сделался известным своими „Вечерами на хуторе“. Это были поэтические очерки Малороссии, очерки, полные жизни и очарования. Все, что может иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов обольстительного, все, что народ может иметь оригинального, типического, все это радужными цветами блестит в этих первых поэтических грезах г. Гоголя. Это была поэзия юная, свежая, благоуханная, роскошная, упоительная, как поцелуй любви… Читайте вы его „Майскую ночь“, читайте ее в зимний вечер у пылающего камелька, и вы забудете о зиме с ее морозами и метелями; вам будет чудиться эта светлая, прозрачная ночь благословенного юга, полная чудес и тайн; вам будет чудиться эта юная, бледная красавица, жертва ненависти злой мачехи, это оставленное жилище с одним растворенным окном, это пустынное озеро, на тихих водах которого играют лучи месяца, на зеленых берегах которого пляшут вереницы бесплотных красавиц… Это впечатление очень похоже на то, которое производит на воображение „Сон в летнюю ночь“ Шекспира. „Ночь пред Рождеством Христовым“ есть целая, полная картина домашней жизни народа, его маленьких радостей, его маленьких горестей, словом, тут вся поэзия его жизни. „Страшная месть“ составляет теперь pendant[9 - Соответствие (фр.).] к „Тарасу Бульбе“, и обе эти огромные картины показывают, до чего может возвышаться талант г. Гоголя. Но я никогда бы не кончил, если бы стал разбирать „Вечера на хуторе“! „Арабески“ и „Миргород“ носят на себе все признаки зреющего таланта. В них меньше этого упоения, этого лирического разгула, но больше глубины и верности в изображении жизни. Сверх того, он здесь расширил свою сцену действия и, не оставляя своей любимой, своей прекрасной, своей ненаглядной Малороссии, пошел искать поэзии в нравах среднего сословия в России. И, боже мой, какую глубокую и могучую поэзию нашел он тут! Мы, москали, и не подозревали ее!.. „Невский проспект“ есть создание столь же глубокое, сколько и очаровательное; это две полярные стороны одной и той же жизни, это высокое и смешное обок друг другу. На одной стороне этой картины бедный художник, беспечный и простодушный, как дитя, замечает на Невском проспекте женщину-ангела, одно из тех дивных созданий, которые могло производить только его художническое воображение; он следит за нею, он дрожит, он не смеет дохнуть, ибо он еще не знает ее, но уже обожает ее, а всякое обожание робко и трепетно; он замечает ее благосклонную улыбку, и „кареты казались ему недвижны, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка и алебарда часового, вместе с золотыми словами и нарисованными ножницами, блестела, казалось, на самой реснице его глаз“. Задыхаясь от упоения и трепетного предчувствия блаженства, он входит за нею в третий этаж большого дома, и что же представляется ему?.. Она, все так же прекрасная, очаровательная, она смотрит на него глупо, нагло, как бы говоря ему: „Ну! что же ты?..“ Он бросается вон. Я не хочу пересказывать его сна, этого дивного, драгоценного перла нашей поэзии, второго и единственного, после сна Татьяны Пушкина: здесь г. Гоголь поэт в высочайшей степени. Кто читает эту повесть в первый раз, для того в этом дивном сне действительность и поэзия, реальное и фантастическое так тесно сливаются, что читатель изумляется, узнавши, что все это только сон. Представьте себе бедного оборванного, запачканного художника, потерянного в толпе звезд, крестов и всякого рода советников: он толкается между ними, уничтожающими его своим блеском, он стремится к ней, и они беспрестанно разлучают его с ней, они, эти кресты и звезды, которые смотрят на нее без всякого упоения, без всякого трепета, как на свои золотые табакерки… И какое пробуждение после этого сна! и как можно жить после такого пробуждения? И он точно не живет более в действительности, он весь в грезах… Наконец в его душе блеснул обманчивый, но радужный луч надежды: он решается на самоотвержение, он хочет принести ей в жертву, как Молоху, даже честь свою… „А я только что теперь проснулась, меня привезли в семь часов утра, я была совсем пьяна“, – это говорит ему она, все так же прекрасная, очаровательная… После этого можно ли было жить даже и в грезах?.. И нет художника, он сошел в темную могилу, никем не оплаканный, и мир не знал, какая высокая и ужасная драма была разыграна в этой грешной, страдальческой душе…
На другой стороне этой картины вы видите Пирогова и Шиллера, того Пирогова, о котором я уже говорил, того Шиллера, который хотел отрезать себе нос, чтобы избавиться от излишних расходов на табак; того Шиллера, который говорит с гордостью, что он швабский немец, а не русская свинья, и что у него есть король в Германии; того Шиллера, который „еще с двадцатилетнего возраста, с того времени, которое русский живет на фуфу, измерил всю свою жизнь и положил себе, в течение 10 лет, составить капитал из 50 тысяч и у которого, это было уже так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец решится переменить свое слово“; наконец, того Шиллера, который „положил целовать жену свою в сутки не более двух раз и, чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз, никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп“. Чего вам еще? Тут весь человек, вся история его жизни!.. А Пирогов?.. 0, об нем об одном можно написать целую книгу!.. Вы помните его волокитство за глупою блондинкою, с которою он составляет такую отличную пару, его ссору и отношения с Шиллером; помните, какие ужасные побои претерпел он от флегматического Отелло, помните, каким негодованием, какою жаждою мести закипело сердце поручика, и помните, как скоро прошла его досада от съеденных кондитерских пирожков и прочтения „Пчелы“?» Чудные пирожки! Чудная «Пчела»! Пискарев и Пирогов – какой контраст! Оба они начали, в один день, в один час, преследования своих красавиц, и как различны для обоих них были следствия этих преследований! 0, какой смысл скрыт в этом контрасте! И какое действие производит этот контраст! Пискарев и Пирогов, один в могиле, другой доволен и счастлив, даже после неудачного волокитства и ужасных побоев!.. Да, господа, скучно на этом свете!..
Я еще мало говорил о «Тарасе Бульбе» и не буду слишком распространяться о нем, ибо, в таком случае, у меня вышла бы еще статья, не менее самой повести… «Тарас Бульба» есть отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого народа. Если в наше время возможна гомерическая[10 - Гомерическая – то же, что гомеровская.] эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип!.. Если говорят, что в «Илиаде» отражается вся жизнь греческая в ее героический период, то разве одни пиитики и риторики прошлого века запретят сказать то же самое и о «Тарасе Бульбе» в отношении к Малороссии XVI века?.. И в самом деле, разве здесь не все козачество, с его странною цивилизациею, его удалою, разгульною жизнию, его беспечностию и ленью, неутомимостью и деятельностию, его буйными оргиями и кровавыми набегами?.. Скажите мне, чего нет в этой картине? Чего недостает к ее полноте? Не выхвачено ли все это со дна жизни, не бьется ли здесь огромный пульс всей этой жизни? Этот богатырь Бульба с своими могучими сыновьями; эта толпа запорожцев, дружно отдирающая на площади трепака, этот козак, лежащий в луже, для показания своего презрения к дорогому платью, которое на нем надето, и как бы вызывающий на драку всякого дерзкого, кто бы осмелился дотронуться до него хоть пальцем; этот кошевой, поневоле говорящий красноречивую, витиеватую речь о необходимости войны с бусурманами, потому что «многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры неймет»; эта мать, которая является как бы мимоходом, чтобы заживо оплакать детей своих, как всегда являлась в тот век женщина и мать в козацкой жизни… А жиды и ляхи, а любовь Андрия и кровавая месть Бульбы, а казнь Остапа, его воззвание к отцу и «слышу»[11 - Впрочем, я не ставлю в слишком большую заслугу г. Гоголю этого «слышу» и не думаю, подобно некоторым, что если бы г. Гоголь и не изобрел ничего другого, кроме этого славного «слышу», то одним им мог бы заставить молчать злонамеренность критики; ибо, во-первых, злонамеренность критики нельзя обезоружить изящными созданиями, чему примером может служить этот же самый г. Гоголь, некоторыми благонамеренными критиками пожалованный в Поль де Коки; потом, это славное «слышу» не имело бы никакого смысла без отношения к целой повести и без связи с нею; и, наконец, теперь уже прошло то время, когда в пример высокого представляли: «Qu'il mourut», «Moi!», «Ax, я Эдип!», «Я Росс!» и т. п., зачем же обогащать педантов новым примером высокого в выражении? (Прим. В. Г. Белинского.).] Бульбы и, наконец, героическая гибель старого фанатика, который не чувствовал своих ужасных мук, потому что чувствовал одну жажду мести к враждебному народу?.. И это не эпопея?.. Да что же такое эпопея?.. И какая кисть, широкая, размашистая, резкая, быстрая! Какие краски, яркие и ослепительные!.. И какая поэзия, энергическая, могучая, как эта Запорожская Сечь, «то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы, откуда разливается воля и козачество на всю Украину!..».
Что еще сказать вам? Может быть, вы мало удовлетворены и тем, что я уже сказал: что делать? Гораздо легче чувствовать и понимать прекрасное, нежели заставлять других чувствовать и понимать его! Если одни из читателей, прочтя мою статью, скажут: «Это правда», или по крайней мере: «Во всем этом есть и правда»; если другие, прочтя ее, захотят прочесть и разобранные в ней сочинения, – мой долг выполнен, цель достигнута.
Но какой же общий результат выведу я из всего сказанного мною? Что такое г. Гоголь в нашей литературе? Где его место в ней? Чего должно ожидать нам от него, от него, еще только начавшего свое поприще, и как начавшего? Не мое дело раздавать венки бессмертия поэтам, осуждать на жизнь или смерть литературные произведения; если я сказал, что г. Гоголь поэт, я уже все сказал, я уже лишил себя права делать ему судейские приговоры. Теперь у нас слово «поэт» потеряло свое значение: его смешали с словом «писатель». У вас много писателей, некоторые даже с дарованием, но нет поэтов. Поэт – высокое и святое слово; в нем заключается неумирающая слава! Но дарование имеет свои степени; Козлов, Жуковский, Пушкин, Шиллер: эти люди поэты, но равны ли они? Разве не спорят еще и теперь, кто выше: Шиллер или Гете? Разве общий голос не назвал Шекспира царем поэтов, единственным и несравненным? И вот задачи критика: определить степень, занимаемую художником в кругу своих собратий. Но г. Гоголь еще только начал свое поприще; следовательно, наше дело высказать свое мнение о его дебюте и о надеждах в будущем, которые подает этот дебют. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным. Предоставим времени решить, чем и как кончится поприще г. Гоголя, а теперь будем желать, чтобы этот прекрасный талант долго сиял на небосклоне нашей литературы, чтобы его деятельность равнялась его силе.
В «Арабесках» помещены два отрывка из романа. Об этих отрывках нельзя судить как об отдельном и целом создании; но о них можно сказать, что они вполне могут служить залогом тех надежд, о которых я говорил. Поэты бывают двух родов: одни только доступны поэзии, и она у них бывает более способностию, чем даром или талантом, и много зависит от внешних обстоятельств жизни; у других дар поэзии есть нечто положительное, нечто составляющее нераздельную часть их бытия. Первые, иногда один раз в целую жизнь, выскажут какую-нибудь прекрасную поэтическую грезу и, как будто обессиленные тяжестью свершенного ими подвига, ослабевают и падают в последующих своих произведениях; и вот отчего у них первый опыт, по большей части, бывает прекрасен, а последующие постепенно подрывают их славу. Другие с каждым новым произведением возвышаются и крепнут; г. Гоголь принадлежит к числу этих последних поэтов: этого довольно!
Я забыл еще об одном достоинстве его произведений; это лиризм, которым проникнуты его описания таких предметов, которыми он увлекается. Описывает ли он бедную мать, это существо высокое и страждущее, это воплощение святого чувства любви, – сколько тоски, грусти и любви в его описании! Описывает ли он юную красоту – сколько упоения, восторга в его описании! Описывает ли он красоту своей родной, своей возлюбленной Малороссии – это сын, ласкающийся к обожаемой матери! Помните ли вы его описание безбрежных степей днепровских? Какая широкая, размашистая кисть! Какой разгул чувства! Какая роскошь и простота в этом описании! Черт вас возьми, степи, как вы хороши у г. Гоголя!..
Сочинения Александра Пушкина
Статья пятая
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйной,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шепот речки тихоструйной.
Пафос поэзии Пушкина вообще. —
Разбор лирических произведений Пушкина.
Каждое поэтическое произведение есть плод могучей мысли, овладевшей поэтом. Если б мы допустили, что эта мысль есть только результат деятельности его рассудка, мы убили бы этим не только искусство, но и самую возможность искусства. В самом деле, что мудреного было бы сделаться поэтом, и кто бы не в состоянии был сделаться поэтом по нужде, по выгоде или по прихоти, если б для этого стоило только придумать какую-нибудь мысль, да и втискать ее в придуманную же форму? Нет, не так это делается поэтами по натуре и призванию! У того, кто не поэт по натуре, пусть придуманная им мысль будет глубока, истинна, даже свята, – произведение все-таки выйдет мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое – и никого не убедит оно, а скорее разочарует каждого в выраженной им мысли, несмотря на всю ее правдивость! Но между тем так-то именно и понимает толпа искусство, этого-то именно и требует она от поэтов! Придумайте ей, на досуге, мысль получше да потом и обделайте ее в какой-нибудь вымысел, словно брильянт в золото! Вот и дело с концом! Нет, не такие мысли и не так овладевают поэтом и бывают живыми зародышами живых созданий! Искусство не допускает к себе отвлеченных философских, а тем менее рассудочных идей: оно допускает только идеи поэтические, а поэтическая идея – это не силлогизм, не догмат, не правило, это – живая страсть, это – пафос… Что такое пафос? – Творчество – не забава, и художественное произведение – не плод досуга или прихоти; оно стоит художнику труда; он сам не знает, как западает в его душу зародыш нового произведения; он носит и вынашивает в себе зерно поэтической мысли, как носит и вынашивает мать младенца в утробе своей; процесс творчества имеет аналогию с процессом деторождения и не чужд мук, разумеется духовных, этого физического акта. И потому, если поэт решится на труд и подвиг творчества, значит, что его к этому движет, стремит какая-то могучая сила, какая-то непобедимая страсть. Эта сила, эта страсть – пафос. В пафосе поэт является влюбленным в идею, как в прекрасное, живое существо, страстно проникнутым ею, – и он созерцает ее не разумом, не рассудком, не чувством и не какою-либо одною способностью своей души, но всею полнотою и целостью своего нравственного бытия, – и потому идея является в его произведении не отвлеченною мыслью, не мертвою формою, а живым созданием, в котором живая красота формы свидетельствует о пребывании в ней божественной идеи и в котором нет черты, свидетельствующей о сшивке или спайке, – нет границы между идеею и формою, но та и другая являются целым и единым органическим созданием. Идеи истекают из разума; но живое творит и рождает не разум, а любовь. Отсюда ясно видна разница между идеею отвлеченною и поэтическою: первая – плод ума, вторая – плод любви как страсти. Но отчего же, скажут, называть это пафосом, а не страстью? – Оттого, что слово «страсть» заключает в себе понятие более чувственное, тогда как слово «пафос» заключает в себе понятие более нравственное. В страсти много индивидуального, личного, своекорыстного, темного, в ней может быть даже низкое и подлое; потому что можно питать страсть не только к женщине, но и к женщинам, не только к славе, но и к почестям, можно питать страсть к деньгам, к вину, к гастрономии. В страсти много чисто чувственного, кровного, нервического, телесного, земного. Под «пафосом» разумеется тоже страсть, и притом соединенная с волнением крови, с потрясением всей нервной системы, как и всякая другая страсть; но пафос всегда есть страсть, возжигаемая в душе человека идеею и всегда стремящаяся к идее, – следовательно, страсть чисто духовная, нравственная, небесная. Пафос простое умственное постижение идеи превращает в любовь к идее, полную энергии и страстного стремления. В философии идея является бесплотною; через пафос она превращается в дело, в действительный факт, в живое создание. От слова пафос, или патос (pathos), происходит слово патетический, наиболее употребляемое в отношении к драматической поэзии, как к наиболее исполненной пафоса по своей сущности. Но мы лучше объясним значение пафоса указанием на него в великих произведениях искусства. Пафос Шекспировой драмы «Ромео и Джульетта» составляет идея любви, – и потому пламенными волнами, сверкающими ярким светом звезд, льются из уст любовников восторженные патетические речи… Это пафос любви, потому что в лирических монологах Ромео и Джульетты видно не одно только любование друг другом, но и торжественное, гордое, исполненное упоения признание любви, как божественного чувства. В тех монологах Ромео и Джульетты, когда их любви начало угрожать несчастье, бурным потоком изливается энергия раздраженного чувства, вдруг встретившего препятствие своему вольному и широкому разливу. Пафос «Гамлета» составляет борьба негодования на порок и преступление с бессилием вступить с ними в открытый и отчаянный бой, как того требует сознание долга… Таких примеров можно было бы привести много, но для объяснения нашей мысли довольно и этих двух.
Итак, каждое поэтическое произведение должно быть плодом пафоса, должно быть проникнуто им. Без пафоса нельзя понять, что заставило поэта взяться за перо и дало ему силу и возможность начать и кончить иногда довольно большое сочинение. Поэтому выражения: в этом произведении есть идея, а в этом нет идеи, не совсем точны и определенны. Вместо этого должно говорить: в чем состоит пафос этого произведения? или: в этом произведении есть пафос, а в этом нет. Это будет гораздо определеннее и точнее, потому что многие ошибочно принимают за идею то, что может быть идеею везде, кроме произведения, где ее думают видеть и где она, в самом-то деле, является просто резонерством, кое-как прикрытым сшивными лохмотьями бедной формы, из-под которой так и сквозит его нагота. Пафос – другое дело. Надо быть совершенно лишенным всякого эстетического такта, чтоб увидеть пафос в произведении холодном, мертвом, в котором идея с формою слиты, как масло с водою, или сшиты на живую нитку белыми стежками.