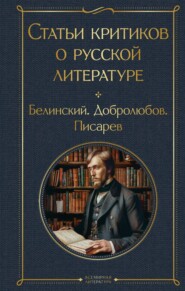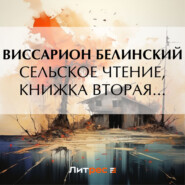По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сочинения Зенеиды Р-вой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сочинения Зенеиды Р-вой
Виссарион Григорьевич Белинский
Для Белинского творчество Ган интересно прежде всего как выражение художественной одаренности женщины. В краткой рецензии, предшествующей его большой статье о Ган, он писал: «Между русскими писательницами нет ни одной, которая достигла бы такой высоты творчества и идеи и которая в то же время до такой степени отразила бы, в своих сочинениях, все недостатки, свойственные русским женщинам-писательницам».
Виссарион Григорьевич Белинский
Сочинения Зенеиды Р-вой
Санкт-Петербург. 1843. Четыре части.
В России женщины мало пишут. Впрочем, этому нечего удивляться: в России и мужчины почти совсем не пишут. Смотря с этой точки зрения, вы увидите, что у нас женщины пишут именно не больше и не меньше того, сколько могут они писать. Звание писательницы пока еще контрабанда не у одних нас. Лживый взгляд на женщину осуждает ее на молчание. Этот взгляд, запрещающий женщине выходить из заколдованного круга простых светских отношений, не есть принадлежность собственно русского общества: он равно принадлежит и просвещенному Западу Европы. Правда, там, как и у нас, женщина давно уже приобрела право говорить печатно, – но как и о чем говорить? вот вопрос, подробное решение которого завело бы нас далеко-далеко… в самую Азию. Никакая пишущая женщина в Европе не избегнет пошлых намеков и названия синего чулка[1 - Выражение «синий чулок» возникло в Англии в конце XVIII века и особенно распространилось после того, как Байрон использовал его в своей сатире «The Blues» (1820) – «Синие». Белинский выделяет выражение курсивом, вероятно, потому, что в России к тому времени оно лишь начинало становиться известным.], каков бы ни был ее талант, равно всеми признанный. Никто там не оспоривает у женщины права высказываться печатно и возможности быть одаренною даже великим творческим талантом; никого не оскорбляет и не соблазняет зрелище пишущей женщины; но в то же время едва ли кто упустит случай, говоря о пишущей женщине, посмеяться над ограниченностию женского ума, более будто бы приноровленного для кухни, детской, шитья и вязанья, чем для мысли и творчества. Это уже такая привычка у мужчин: если они давно перестали бить женщин, то еще не отстали от привычки грозить им кулаком или дразнить языком, в ознаменование права своей силы. Привычка – вторая натура, и потому отстать от нее трудно. Для женщины-писательницы – это первое, и притом еще самое меньшее зло. Хуже всего, что она осуждена общественным мнением на самые невинные литературные занятия, именно – вечно повторять старые обветшалые истины, которым не верят даже и дети, но которые тем не менее считаются почтенными. Нельзя употребить большего насилия над женщиною, нельзя оказать ей большего презрения! Конечно, ей не воспрещается законом быть оригинальною и глубокою в своих мыслях, могущественною и великою в творчестве, – по крайней мере настолько, насколько не воспрещается это законом мужчине; но если закон оставит женщину в покое, тогда против нее действует общественное мнение. Тысячеглавое чудовище объявляет ее безнравственною и беспутною, грязнит ее благороднейшие чувства, чистейшие помыслы и стремления, возвышеннейшие мысли, – грязнит их грязью своих комментариев; объявляет ее безобразною кометою, чудовищным явлением, самовольно вырвавшимся из сферы своего пола, из круга своих обязанностей, чтоб упоить свои разнузданные страсти и наслаждаться шумною и позорною известностью. Не правда ли, что это возмутительно несправедливо?.. А вот вам и смешное: то же самое общество не читает женщин, пишущих в духе его же собственной морали, и обходит их самым презрительным невниманием, потому что оно само не верит своей морали и смеется над нею. Впрочем, оно противоречит таким образом самому себе не в отношении к одним только женщинам. Возьмем, например, современное французское общество. Представители его – набитые золотом мешки, приобретатели, люди поклоняющиеся золотому тельцу. Кого читает это общество? – писателей в духе чуждой ему морали. Это общество недавно восхищалось двумя романами Эжена Сю «Mathilde»[1 - «Матильда» (фр.). – Ред.] и «Mysteres de Paris»[2 - «Парижские тайны» (фр.). – Ред.], а эти романы не что иное, как страшный донос на это общество[2 - Роману «Матильда» (1841, русский пер. 1846) посвящена рецензия Белинского 1847 г. (см.: Белинский, АН СССР., т… X, с. 102), «Парижским тайнам» (1842–1843, русский пер. 1844) – специальная большая статья (1844; см. наст. изд., т. 7).]. Это же общество не хочет уже читать какого-нибудь мосье де-Бальзака, до сих пор верного моральному принципу выскочившего в люди богатого мещанства; оно смеется над ним, презирает его и вместо его читает Жорж Занд, в котором имело бы право видеть своего обвинителя, изобличителя и нравственную кару[3 - См. примеч. 9 и 10 к статье «Речь о критике».]. После этого извольте угождать обществу и сообразоваться с его моралью! Все явления действительности внутри себя самих заключают всю необходимость: вот отчего люди толкуют свое, а действительность идет своею дорогою, не спрашиваясь у людей, но заставляя людей спрашиваться у нее. Привычка мало-помалу делает людей равнодушными к явлению, которое вначале поразило их, и со временем они начинают не только считать это явление естественным, но даже и приносить ему дань удивления и восторженных похвал. Таково теперь во Франции положение Жоржа Занда как писательницы; но не таково было ее положение назад тому несколько лет. И что же? – явись другая писательница с таким же гением, – и на нее сперва польется обильный дождь клевет, браней, оскорблений, лжей, – и все это во имя будто бы оскорбленной ею морали, и при всем этом будут раскупать ее сочинения и твердить их наизусть; а потом клеветы, лжи и брани умолкнут, сменившись на восторг и удивление… А в то же время сколько женщин-писательниц в духе общественной морали, пичкающих свои сочинения пошлыми сентенциями, пройдут незамеченные, не удостоенные ничьего внимания!..
Сказанное нами не может иметь применения к русской литературе. У нас литература имеет совсем другое значение, чем в старой Европе. Там она – выражение мысли, служащей источником жизни для общества в каждую эпоху его исторического развития. У нас литература – приятное и полезное, невинное и благородное препровождение времени, и для писателя и для читателя. Исключения из этого правила так редки, что не стоит упоминать о них. Наши писатели (и то далеко не все) только одною ступенью выше обыкновенных изобретателей и приобретателей; наши читатели (и то далеко не все) только одною ступенью выше людей, которые в преферансе и сплетнях видят самое естественное препровождение времени. Оттого у нас все писатели, и хорошие и худые, равно читаются и почитаются, равно имеют ограниченный круг нравственного влияния и равно скоро забываются. Исключение остается только за писателями, которые уж слишком по плечу обществу и слишком хорошо угодили его вкусу, удовлетворили его потребностям: таковы, например, гг. Марлинский и Бенедиктов, которых и теперь еще очень любят даже в столицах, а в провинции знают наизусть. Поэтому женщина у нас смело может пускаться в писательство: если она не всегда может надеяться стать слишком высоко, зато никогда не должна бояться затеряться в задних рядах писак. Это тем вернее, что женщины, которые когда-либо пускались на Руси в авторство, всегда обладали известною степенью образованности, знанием хоть французского языка; при этом им немало служит и врожденный женской натуре такт приличия и здравого смысла; тогда как несравненно большая часть пишущих в России мужчин попали в писатели нечаянно и без всякого приготовления, а потому и не знают даже первых оснований грамматики своего родного языка, да и принадлежат еще к такому кругу понятий, из которого совсем не следовало бы показываться в печати. В доказательство справедливости наших слов указываем на длинную вереницу сочинителей вроде гг. Милькеева, Славина, Кузьмичева, Зотова, Воскресенского, Классена, Сигова, Антипы Огородника, Тимофеева, Зражевской, Бурачка, Мартынова, Кропоткина, Скосырева, Жданова, Шелехова, Куражсковского, Ильина и многих иных, которых перечесть недостанет ни терпения, ни времени, ни места в статье. Скажут: бездарные люди всегда заваливали литературу мусором своих сочинений. Правда, и прежде – в доброе классическое время нашей литературы, бездарных писак, так же как и теперь, было больше, чем даровитых писателей; но тогда не было между пишущим народом людей безграмотных; тогда все старались писать в тоне порядочного общества, и не воспевали в стихах российского сиволдая[4 - Сиволдай (сивалдай) – неуклюжий, грубый человек; забулдыга.] и кабаков (как это недавно сделал г. Милькеев), и не восхищались тем, что Ломоносов был подвержен несчастной страсти невоздержания, от которой и погиб рано. В прежние времена пришли бы в ужас от такого романтизма. Но в наше время так называемый романтизм освободил писак от здравого смысла, вкуса, грамматики, логики, порядочного тона, даже опрятности и чистоплотности, – и все эти господа-сочинители стали выезжать в своих романтически-народных произведениях на разбитых носах, фонарях под глазами, зипунах, лаптях, мужицких речах и поговорках, кабаках и харчевнях. И все это ими представляется и описывается без всякого юмора, без всякой сатирической цели, но с добродушным и добросовестным восторгом и удивлением к своим неопрятным вымыслам: ссылаемся опять на того же г. Милькеева, который, вдохновившись сивухою, воспел ее в дифирамбе без всякой иронии, важным, торжественным и патетическим тоном[5 - См. рецензию на «Стихотворения Милькесва» (наст. т., с. 468), где Белинский говорит об этом же.].
К чести русских женщин-писательниц надобно сказать, что между ними примеры подобного романтизма, или безграмотности, составляют исключения из общего правила, – исключения, которые остаются за немногими, теми, которые, соблазнившись некоторыми журналами, пустились гуторить в них народною (то есть огородническою) речью…[6 - Речь идет об А. В. Зражевской и журнале «Маяк», в котором она сотрудничала.] Все другие, обладая большим или меньшим талантом, все-таки отличаются большею или меньшею грамотностью, уважением к приличию и отвращением к площадной и харчевенной народности. Между тем в их последовательном явлении одна за другою есть нечто вроде прогресса, – и Анна Бунина и Зенеида Р-ва представляют две совершенные противоположности, не по одному таланту, но и по направлению и духу их произведений. Здесь мы считаем кстати сделать короткое обозрение литературной деятельности русских женщин. В каталоге Смирдина[7 - «Каталог Смирдина» — «Роспись российским книгам для чтения, из библиотеки Александра Смирдина, систематическим порядком расположенная. В четырех частях, с приложением азбучной росписи имен сочинителей и переводчиков и краткой росписи книгам по азбучному порядку». СПб., тип. А. Смирдина, 1828. Первое прибавление к Росписи… СПб., 1829. Второе прибавление… СПб., 1832. Кроме «Росписи…», Белинский, вероятно, использовал «Библиографический каталог российским писательницам», составленный С. В. Руссовым. СПб., 1826.] мы встречаем имена следующих женщин, занимавшихся переводами с иностранных языков на русский: Марья Сушкова (перевела «Инки» Мармонтеля в 1778 году), Марья Орлова (1788), Катерина и Анна Волконские (1792), Корсакова (1792), Нилова (1793), Баскакова (1796), Марья Базилевичева (1799), Марья Иваненко (1800), Лихарева (1801), Настасья Плещеева (1808), Марья Фрейтах (1810), Катерина де ла Map (1815), Татищева (1818), Беклемишева (1819), Бровина (1820), Вишлинская, А. и Катерина Воейковы, Анна и Пелагея Вельяшевы-Волынцовы, Вера и Надежда Кусовниковы, Настасья Гагина, Катерина Меньшикова, А. Мухина[8 - Полное название перевода М. В. Сушковой «Инки, или Разрушение перуанской империи, сочинение Мармонтеля», ч. I–II. М., 1778. В скобках Белинский всюду указывает год перевода писательницей того или иного произведения. Например: Н. И. Плещеева перевела с французского «Училище бедных, работников, слуг, ремесленников и всех нижнего класса людей, сочинение г-жи Ле-Препс де Бомонт», ч. I–II. М., 1808; А. Воейковой принадлежит перевод «Опыта о вкусе в произведениях природы и художеств, или Рассуждение о причинах удовольствий, которые возбуждают в нас произведения разума и изящные художества, из сочинений г. Монтескье». СПб., 1805; А. В. Мухина перевела «Новые семейственные картины, или Жизнь бедного священника одной немецкой деревни и его детей, сочинение Августа Лафонтена», ч. I–V. М., 1805–1806.]. Из этого списка видно, что наши дамы рано приняли участие в отечественной литературе. В 1789 году были изданы «Лучшие часы жизни моей» Марьи Поспеловой[9 - Названное сочинение М. А. Поспеловой вышло не в 1789, а в 1798 г. во Владимире.]; а в 1801 г. ее же «Черты природы и истины, или Оттенки мыслей и чувств моих»., Еще ранее, именно в 1774 г. (стало быть, шестьдесят девять лет назад тому), Катерина Урусова издала свою эпическую поэму в пяти песнях «Полной, или Просветившийся нелюдим», Александра Хвостова издала в 1796 году «Камин и ручеек». Г-жи Москвины издали свои стихотворения, под заглавием «Аония», в 1802 году. Девица Волкова издала в 1807 <году> свои стихотворения. Г-жа Наумова издала свои стихотворения в 1819 году под именем «Уединенной музы закамских берегов». Г-жа Любовь Кричевская обнаружила особенную плодовитость, в сравнении с исчисленными нами писательницами: она издала «Мои свободные минуты, или Собрание сочинений в стихах и прозе, Любови Кричевской» (Харьков, 1818); драму в трех действиях «Нет добра без награды» (Харьков, 1826); «Две повести» (Москва, 1827) и «Исторические анекдоты и избранные изречения известных людей» (Харьков, 1827). Хотя сочинение г-жи Анны Волковой «Утренняя беседа слепого старца с своею дочерью» издано в 1824 году, но по наивному заглавию и, вероятно, по такому же содержанию оно может быть смело отнесено к произведениям семисот семидесятых годов. Впрочем, это произведение той же самой г-жи Волковой, которая в 1807 году издала свои стихотворения и в 1826 еще писала стихи. Г-жа Титова издала в 1810 году драму в пяти действиях «Густав Ваза, или Торжествующая невинность»; г-жа Катерина Пучкова – «Первые опыты в прозе» (Москва, 1812); а в 1817 году г-жа Марья Болотникова издала «Деревенскую лиру, или Часы уединения». Но что все эти писательницы перед знаменитою в свое время г-жою Анною Буниною? Она писала в журналах и потом отдельно издавала труды свои, писала и переводила в стихах и в прозе, занималась не только поэзнею, но и теориею поэзии. В 1808 году она издала труд свой под названием «Правила поэзии, сокращенный перевод аббата Бате, с присовокуплением российского стопосложения»; в 1810 году издала она «О счастии, дидактическое стихотворение»; в 1811 издала она свои «Сельские вечера»; в 1809–1812 – «Неопытную музу Анны Буниной» в двух частях; в 1819–1821 вышло «Собрание стихотворений Анны Буниной» в трех частях. Знаменитейшее произведение г-жи Буниной была нравственная поэма ее «Фаетон». Она, кажется, перевела также и «Науку о стихотворстве» Буало и вообще не уступала графу Дмитрию Ивановичу Хвостову ни в таланте, ни в трудолюбии, ни в выборе предметов для своих песнопений[10 - Поэма «Падающий Фаэтон» (а не «Фаэтон», как называет ее Белинский) вошла в сборник произведений А. П. Буниной «Сельские вечера», О том, переводила ли Бунина Буало, сведений не обнаружено. С Д. И. Хвостовым Белинский сравнивает ее потому, что ему принадлежит перевод «Науки о стихотворстве» (СПб., 1808).]. Собрание стихотворений г-жи Анны Буниной было издано Российскою академиею. Но и г-жою Буниной не оканчивается еще блистательный список старинных наших писательниц. Есть еще одна, не менее знаменитая, хотя и менее известная. Знаете ли вы девицу Марью Извекову, читали ли вы романы девицы Марьи Извековой?.. Если нет, то бегите в книжную лавку, попросите книгопродавца порыться в его погребах и кладовых – этих книжных кладбищах – и отыскать вам романы девицы Марьи Извековой, если их еще не съели мыши, и прочтите их как можно скорее. Чтоб помочь вам в ваших поисках, мы поименуем ее романы. Их немного, всего три, да зато куда хороши! «Эмилия, или Печальные следствия безрассудной любви» (4 ч., 1806); «Милена, или Редкий пример великодушия» (1809); «Торжествующая добродетель над коварством и злобою» (3 ч., 1809). Каковы одни заглавия – так и дышат чистейшею нравственностью! А содержание – еще лучше, еще нравственнее, хотя, надо признаться, и невообразимо скучно. Его составляют происшествия, в которых действуют лица без образа; герои, а особенно героини, отличаются необыкновенною говорливостью. Так, например, вы уже знаете через самого автора, что тогда-то и тогда-то было с героинею: нет, она сама начнет вам пересказывать, и гораздо длиннее, чем автор уже рассказал вам, хотя и сам автор не любит выражаться коротко. Романы г-жи Извековой, кроме чистейшей нравственности, насквозь проникнуты еще и нежнейшею чувствительностью, и, вероятно, многих слез стоили они прекрасным читательницам того времени, теперешним почтенным нашим тетушкам и бабушкам. И неблагодарное потомство забыло девицу Марью Извекову, забыло совсем!.. Что ж после этого прочно под луною? Где Греция, где Рим? – спрашивал Байрон в своем «Чайльд Гарольде»; где романы девицы Марьи Извековой – часто спрашиваю я самого себя с глубокою тоскою и печально смотрю на современные произведения русской литературы…[11 - Творчество М. Е. Извековой всегда служило мишенью для иронии Белинского. См., например, его отзыв о ней в статье «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» (наст. изд., т. 1, с. 306).] Увы! везде мрачное царство смерти, везде ее ужасное владычество, везде – даже и в книжном мире! Эта мысль с особенною силою поражает нас, которые столько пережили, еще не успев состареться, которые с такою надеждою, такою гордостью встретили столько великих произведений, теперь уже умерших для света. Где теперь все эти «киргизские» и другие «пленники», где все это множество романтических поэм, длинною вереницею потянувшихся за «Кавказским пленником» Пушкина[12 - См. примеч. 150 к статье «Литературные мечтания» (наст. изд., т. 1, с. 643).] и «Чернецом» Козлова? Увы! не только эти скороспелые произведения недопеченного романтизма, тогда так восхищавшие нас, не только они не могут теперь останавливать нашего внимания, но мы не нашли бы в себе достаточной отваги, чтоб перечесть «Чернеца»; и даже «Руслана и Людмилу» и «Кавказского пленника» мы теперь перелистываем с улыбкою… Где теперь нравоописательные и нравственно-сатирические романы г-на Булгарина, где его пресловутый «Иван Выжигин», которого так сильно бранили назад тому лет четырнадцать? Где «Черная женщина» г-на Греча и «Фантастические путешествия» Барона Брамбеуса? Все там же, где и «Корсар» г. Олина, и «Князь Курбский» г. Бориса Ф(?)едорова, и романы девицы Марьи Извековой!.. Давно ли «Московский телеграф» казался чудом учености, глубокой философии и здравой критики; давно ли казалось, что в своем ходе он опережал самое время? Давно ли «Юрий Милославский» считался великим национальным романом? А где слава наших романтических поэтов? И кто не считался назад тому около двадцати лет, кто не считался тогда великим романтическим поэтом? Даже г. Шевырев и сам считал себя и другими многими считался поэтом – и все это за довольно плохие стишонки. Давно ли сей великий муж российской словесности хлопотал о введении в русское стихосложение скрипучих октав? И как напрасно теперь силится он, помня старину, блеснуть то плохим стихотворением, то неслыханно оригинальною критическою статьею![13 - Мнение о Шевыреве-поэте было высказано Белинским еще в «Литературных мечтаниях». Позже он не раз возвращался к этой теме, упрекая, в частности, И. В. Киреевского в переоценке поэтического дарования Шевырева (см. статью «Русская литература в 1842 году»). Шевыреву принадлежит трактат «О возможности ввести италианскую октаву в русское стихосложение» (1831).] И как напрасно вместе с ним, помня доброе старое время, гг. Языков и Хомяков стараются спастись от волн Леты, хватаясь за обломки утлого в славянской журналистике челнока – «Москвитянина»…[14 - Н. М. Языков и А. С. Хомяков были активными участниками враждебного Белинскому и «Отечественным запискам» журнала «Москвитянин», а Хомяков, кроме того, и крупнейшим идеологом славянофильства. О поэзии Языкова и Хомякова – более подробно в статье Белинского «Русская литература в 1844 году». Белинский писал В. П. Боткину о Хомякове 6 февраля 1843 г.: «Я знаю, что Х<омяков> – человек не глупый, много читал и, вообще, образован; но мне было бы гадко его слышать, и он не надул бы меня своею диалектикою». Частые нападки Белинского на Языкова и Хомякова заставили Герцена написать Краевскому 19 января 1845 г.: «Мне досадно, что в 1 № (речь идет о статье Белинского «Русская литература в 1844 году») так много о Языкове и Хомякове; они гордятся этим и воображают, что их направление так сильно, что с ними борются…» (Герцен, т. XXII, с. 224). Однако в «Былом и думах» Герцен признал правоту Белинского-публициста (там же, т. IX, с. 167). В декабре 1844 г. Языковым написано стихотворение «К не нашим», в котором современники увидели «пасквиль на главнейших представителей западного направления» (Б. Н. Чичерин. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1929, с. 22).] А колоссальная слава гг. Марлинского и Бенедиктова – где же теперь она, если не там, где и слава романов девицы Марьи Извековой?
С появления Пушкина гораздо больше стало являться на Руси женщин-писательниц; но известных имен между ними стало меньше. Это оттого, что имена людей, действовавших в начале зарождающейся литературы, пользуются известностью даже и без отношения к их таланту. Когда же литература уже сколько-нибудь установится, тогда, чтоб получить в ней почетное имя, нужно иметь замечательный талант. Итак, мы помним, в пушкинский период русской литературы, только четыре женские имени; княгини З. А. Волконской, которой Пушкин посвятил своих «Цыган», г-ж Лисицыной, Готовцевой и Тепловой. В стихотворениях трех последних проглядывает чувство, особливо в стихотворениях г-жи Тепловой; это уже большая разница от произведений прежних стихотвориц: то были плоды невинных досугов, поэтическое вязание чулков, рифмотворное шитье, а здесь уже проблескивала поэзия. Правда, помянутые нами стихотворицы мало писали, и только стихотворения одной г-жи Тепловой собраны в отдельную книжку-малютку;[15 - К моменту написания статьи был опубликован ряд произведений З. А. Волконской: «Quatres nouvelles», M., 1819; «Славянская картина пятого века». М., 1825 и др. М. Лисицыной принадлежит сборник «Стихи и проза». М., 1829 и несколько произведений, опубликованных в «Дамском журнале» («Моя отрада», «Романс», «К родине» и др.). А. И. Готовцева – автор нескольких стихотворений, публиковавшихся в «Сыне отечества», «Московском телеграфе» и альманахах. Под «книжкой-малюткой» Белинский, видимо, имеет в виду издание: Н. С. Теплова. Стихотворения. М., 1838, в 24-ю д. л. Первое издание вышло в 1833 г. в 16-ю д. л.] но может ли быть плодовита поэзия, основанная не на мысли, а на одном непосредственном чувстве?.. Чувства никак нельзя отнять у стихотворений г-жи Тепловой, и это чувство высказывалось у ней в более или менее поэтических стихах. Напомним здесь нашим читателям хоть одно стихотворение г-жи Тепловой; возьмем наудачу так называющееся «К сестре»:
Когда наступит час желанный
Разлуки с жизнию туманной,
И от земных тяжелых уз
Я равнодушно отложусь, —
Мир вечной жизни тихий, ясный,
Тогда почиет на челе;
Но пережить тебя ужасно,
Покинуть тяжко на земле!
Тогда в душе для услажденья
Минуты смертного томленья
Я положу завет святой…
И жди меня в часы полночи,
Когда людей смежатся очи
И месяц встанет над рекой.
Приду на краткое свиданье,
Скажу, что я узнала там,
И замогильные желанья
И тайну неба передам.
Оставя в стороне ребяческую мысль этого стихотворения, кто, однако же, не согласится, что оно вылилось из души и полно чувства?
Теперь скажем по нескольку слов о женщинах-писательницах, явившихся в последнее время. Елисавета Кульман оставила после себя претолстую книгу, свидетельствующую о ее необыкновенно возвышенной душе, страстной к изящному и умевшей через строгое и основательное изучение обрести в эллинской поэзии осуществленный идеал этого изящного, но вместе с тем свидетельствующую и о том, что любовь к поэзии и способность понимать ее и наслаждаться ею не всегда одно и то же с талантом поэзии…[16 - Белинский имеет в виду «Полное собрание русских, немецких и итальянских стихов Елизаветы Кульман. Пиитические опыты», чч. I–III. СПб., 1839. Творчеству Кульман посвящена рецензия Белинского на Книгу: «Елисавета Кульман. Фантазия» А. В. Тимофеева (1836; см. наст. изд., т. 1, с. 464) и рецензия на ее «Пиитические опыты» (1841; см.: Белинский, АН СССР, т. IV, с. 570). Мнение Белинского об отсутствии поэтического таланта у Кульман отнюдь не было общепринятым. Так, В. Громов в «Обозрении книг, вышедших в России» ставил имя Кульман рядом с именем Пушкина, называя ее стихотворения «прекрасными» («Журнал министерства народного просвещения», 1842, ч. XXXVI, отд. VI, с. 240). Позже взгляд Белинского на творчество Кульман развивается Е. С. Некрасовой в статье «Елизавета Кульман» («Исторический вестник», 1886, т. XXVI, декабрь, с. 552–553).] Г-жа Павлова (урожденная Яниш) обладает необыкновенным даром переводить стихами с одного языка на другой; с равным успехом переводит она с английского, немецкого и французского языков на русский и с русского языка на немецкий и французский. Жаль только, что этому превосходному таланту г-жи Павловой переводить не соответствует ее талант выбирать пьесы для перевода. Так, например, с английского она перевела на русский несколько шотландских и английских народных баллад, которые, несмотря на превосходный перевод, не могут иметь на русском никакого значения именно потому, что они – народные. На немецкий язык, вместе с некоторыми пьесами Пушкина, перевела она некоторые пьесы гг. Языкова и Хомякова и тем самым, несмотря на превосходный перевод, отбила охоту у немцев интересоваться русскою поэзиею. И в то же время г-жа Павлова с таким удивительным искусством передала на французский язык, стихами, «Полководца» Пушкина и «Орлеанскую деву» Шиллера. Одним словом, если б способность выбора соответствовала ее таланту, г-жа Павлова своими превосходными переводами усвоила бы себе прочную славу не в одной только русской литературе[17 - Кроме переводов, К. К. Павловой принадлежат и оригинальные произведения. Незадолго до статьи Белинского вышел ее сборник «Les preludes par m-me Caroline Pavloff nee Jaenisch», P., 1839.]. – Графиня Е. П. Ростопчина, выступившая на литературное поприще с 1835 года,[18 - Первое произведение Е. П. Ростопчиной появилось в печати в 1830 г.] в первых опытах своей поэтической деятельности обнаружила много чувства и одушевления, при отсутствии, впрочем, какой бы то ни было могучей мысли, которая проникала бы собою все ее произведения. То, что в стихотворениях графини Ростопчиной может иным показаться мыслию, есть не что иное, как отвлеченные понятия, одетые в более или менее удачный стих. Это особенно заметно в ее последних стихотворениях (начиная с 1837 года по сие время), в которых нельзя узнать прежнего стиха даровитой стихотворицы и в которых все мысли и чувства кружатся, словно под музыку Штрауса, и скачут, словно под музыку модного галопа, или около я автора, или в заколдованном кругу светской жизни, не выходя в сферу общечеловеческих интересов, которые только одни могут быть живым источником истинной поэзии. – В 1839–1840 годах были изданы, в прозаическом русском переводе, стихотворения графини Сары Толстой, писанные ею на немецком, английском и французском языках. Эти стихотворения понятны только в целом и в связи с жизнию юной стихотворицы, похищенной смертию на восьмнадцатом году ее жизни. Все эти стихотворения проникнуты одним чувством, одною думою, и то чувство – меланхолия, та дума – мысль о близком конце, о тихом покое могилы, украшенной весенними цветами… У Сары Толстой это монотонное чувство и эта однообразная дума высказались поэтически. Стихотворения Сары Толстой нельзя читать как только произведения поэзии, но и вместе с тем как поэтическую биографию одной из самых странных, самых оригинальных, самых поэтических, и по натуре, и по судьбе, и по таланту, и по духу, личностей. Это прекрасное явление промелькнуло без следа и памяти… Да и кому нужда у нас замечать такие явления, не состоящие ни в каком классе?.. Может быть, в этом случае, заслуженная известность Сары Толстой много потеряла от того, что ее стихотворения изданы не для публики, а для тесного круга ее родных и знакомых, и притом в довольно плохом переводе и с дурно написанным предисловием…[19 - Речь идет об издании: «Сочинения в стихах и прозе графини Сарры Толстой», ч. I–II. М., 1839, 1840. Талантом юной поэтессы восхищался и Герцен, рассказавший о трагических обстоятельствах ее короткой жизни (см. Герцен, т. VIII, с. 243). Суждения Белинского о поэзии С. Толстой содержат скрытую полемику со статьей М. Н. Каткова «Сочинения в стихах и прозе графини С. Ф. Толстой», где декларировался подсознательный характер поэтического творчества («Отечественные записки», 1840, № 10).Автором предисловия к «Сочинениям» С. Толстой был М. Н. Лихонин. Ему же принадлежит и перевод, по которому, как справедливо замечает Белинский, трудно судить о действительных поэтических достоинствах произведений Толстой. Это сознавал и сам Лихонин. В «Предисловии переводчика» он писал: «Переводчик, исполняя волю ее родителя (отцом Сарры был знаменитый Ф. И. Толстой-»Американец». – Г. Е.), должен был переводить подлинник слово в слово, и потому не мог вполне передать нежных оттенков чувств и мыслей» (С. Ф. Толстая. Сочинения в стихах и прозе, ч. I. M., 1839, с. LXXIII).] – К замечательным явлениям последнего времени русской литературы принадлежат повести г-жи Жуковой. В них много чувства, и они отличаются прекрасным рассказом: вот их неотъемлемые достоинства. Но вместе с тем они чужды иронии, жизнь в них представляется не в ее собственном цвете, а раскрашенная розовою краскою поддельной идеализации, и оттого характеры действующих лиц иногда не выдержаны, а иногда и вовсе ложны, и замечается отсутствие целого при прекрасных частностях. Одним словом, даровитая г-жа Жукова принадлежит к тому разряду писателей, которые изображают жизнь не такою, какова она есть, следовательно, не в ее истине и действительности, а такою, какою им хотелось бы ее видеть. Но при всем этом в повестях г-жи Жуковой уже видно как бы невольное стремление, вследствие духа времени, – искать сюжетов в действительной современной жизни и заботиться о естественном изображении подробностей быта и ежедневной жизни героев, сообразно с их положением в обществе и степенью их образованности. Вообще, главное достоинство повестей г-жи Жуковой – теплота чувства, и главный их недостаток – отсутствие такта действительности[20 - Белинскому принадлежат рецензии на след. выпуски сочинений М. С. Жуковой: «Вечера на Карповке» (ч. I–II. СПб., 1837, 1838; см. Белинский, АН СССР, т. II, с. 566); «Повести Марьи Жуковой», СПб., 1840 – см. наст. изд., т. 3; «Русские повести» (СПб., 1841; см.: Белинский, АН СССР, т. V, с. 477).].
Нельзя сказать, чтоб в повестях Зенеиды Р-вой русская повесть достигла талантом женщины своего полного развития, чтоб она стала выражением созревшей мысли и верною картиною современного общества; но в то же время нельзя не сказать, что ни одна из русских писательниц не обладала такою силою мысли, таким тактом действительности, таким замечательным талантом, как Зенеида Р-ва. Созданная ею повесть, как ее талант и жизнь, остановились на полудороге и не дошли до своего полного и конечного развития[21 - Е. А. Ган скончалась 28-ми лет от чахотки.]. Мы не хотим и упоминать о полноте чувства, которою проникнуты повести Зенеиды Р-вой; это должно само собою подразумеваться, когда дело идет о сильном таланте: какого же порядочного математика хвалят за способность комбинировать и соображать? И потому мы прямо приступим к тому, что составляет существенное достоинство повестей Зенеиды Р-вой, – к их мысли.
В истинно поэтических произведениях мысль не является отвлеченным понятием, выраженным догматически, но составляет их душу, разлитая в них, как свет в хрустале. Мысль в поэтических созданиях – это их пафос, или патос. Что такое пафос? – страстное проникновение и увлечение какою-нибудь идеето. Отсюда происходит и слово «патетический». Что называется «патетическим» в драме? – Энергия раздраженного чувства, которое бурными волнами огненной речи изливается из уст действующего лица. В таких монологах всегда видно трепетное, страстное проникновение действующего лица тою идеею, которая составляет собою невидимую пружину всей его деятельности, всей энергии его воли, готовой на все для достижения своей цели. Вот этот-то пафос и составляет собою базис и фон творений всякого замечательного поэта. Что же составляет пафос повестей Зенеиды Р-вой? Без сомнения, любовь, ибо все ее повести основаны исключительно на одном этом чувстве. Но любовь есть понятие слишком общее, которое у всякого истинного таланта должно принять более или менее индивидуальный оттенок или представляться под особенною точкою зрения. Посему мало сказать, что любовь составляет пафос повестей Зенеиды Р-вой: надо прибавить – любовь женщины. Все повести этой даровитой писательницы проникнуты одним страстным чувством, одною живою идеею, одним могучим созерцанием, не дающим покоя автору и тревожно его наполняющим, созерцанием, которое можно выразить такими словами: как умеют любить женщины и как не умеют любить мужчины.
Итак, основная мысль, источник вдохновения и заветное слово поэзии Зенеиды Р-вой есть апология женщины и протест против мужчины… Обвиним ли мы ее в пристрастии, или признаем ее мысль справедливою?.. Мы думаем, что справедливость ее слишком очевидна и что нам лучше попытаться объяснить причину такого явления, чем доказывать его действительность.
Окинем беглым взглядом содержание всех повестей Зенеиды Р-вой. Первая – «Идеал»[22 - «Библиотека для чтения», 1837, т. XXI.]. Прекрасная, исполненная ума, души и сердца женщина, закабаленная волею родных в позорное рабство продажного брака, обращает всю силу страстного стремления своей любящей натуры на восхитившего ее своими созданиями поэта и потом самым ужасным для себя образом узнает, что этот поэт, этот ее идеал, бессовестно играл ею, завлекая ее мнимою своею взаимностию. Это открытие стоило ей злой горячки и потом полного разочарования в возможности какого бы то ни было счастия на земле; а поэту, идеалу, это ровно ничего не стоило – он остался здоров и счастлив вполне… Вот каковы мужчины в любви! А женщины? – посмотрите, как описывает автор своим цветистым и энергическим языком состояние бедной, разочарованной героини ее повести:
Я видела молодую птичку в весне ее жизни: она в первый раз выпорхнула из теплого гнезда; ей представились небо, красное солнце и мир божий: как радостно забилось ее сердце, как затрепетали крылья! Заранее она обнимает ими пространство; заранее готовится жить и с первым стремлением попадается в руки ловчего, который не оковывает ее цепями, не запирает в клетке, нет, он выкалывает ей глаза, подрезывает крылья, и бедная живет в том же мире, где были ей обещаны свобода и столько радостей; ее греет то же солнце, она дышит тем же воздухом, но рвется, тоскует и, прикованная к холодной земле, может только твердить: не для меня, не для меня! Если б заперли ее в железную клетку, она бы исклевала ее и пробилась на волю или, метаясь, израненная острием железа, без сожаления рассталась бы с остальною половиною жизни, когда лучшая половина у нее отнята. Но она не в клетке; не крепкие стены окружают ее; она свободна, и между тем вечная мгла, вечное бездействие – вот удел моей птички! Вот удел Ольги!
Героиня повести «Утбалла»[23 - «Библиотека для чтения», 1838, т. XXVI.] всем жертвует – даже жизнию, решаясь на страшную смерть от руки диких извергов, чтоб доставить милому минуту упоения любовью… И Утбалла – эта очаровательная калмычка – гибнет жертвою своей великодушной решимости, а ее возлюбленный, тот, кому принесла она в жертву молодую жизнь свою? – Через несколько лет его видели в Петербурге, в чине полковника, гуляющего по Английской набережной под руку с прелестною женщиною… Кто она, эта женщина, – родственница или подруга жизни? «Которому известию верить!.. (говорит автор) кажется, второе достовернее!..»
В повести «Медальон»[24 - Полное название: «Медальон, записки одной больной на теплых водах» («Библиотека для чтения», 1839, т. XXXIV).] представлены две великодушные, любящие женщины против одного негодяя, изверга-мужчины. Одна из них, жертва обольщения коварного светского человека, ослепла от слез, узнав его вероломство; другая, сестра ее, завлекает его тонким кокетством, влюбляет в себя, и, когда он готов на все, даже жениться на ней, отказываясь от выгодной партии, она читает ему, при многочисленном обществе, будто бы сочиненную ею повесть, а в самом деле рассказ о его преступном поступке с ее сестрою, открывает медальон и показывает ему портрет его жертвы, своей слепой сестры… Модный изверг, смущенный и взбешенный, вполне почувствовал ядовитую горечь женского мщения…
В повести «Суд света»[25 - «Библиотека для чтения», 1840, т. XXXVIII.] представлен мужчина, способный к любви на жизнь и на смерть, но все-таки не умеющий любить: недостаток доверенности и дикая, зверская ревность к любимой женщине увлекают его к безумному убийству и губят навсегда предмет его любви. А эта женщина умела любить – и за то погибла жертвою того, кого любила…
«Теофания Аббиаджио» – решительно лучшая из всех повестей Зенеиды Р-вой, есть самая злая сатира на мужчин, самая неумолимая улика им в их тупости и близорукости в деле любви[26 - «Библиотека для чтения», 1841, т. XLIX.]. Александр Долиньи, герой повести, человек с глубоким чувством, с благородною душою, с характером не только возвышенным, но и сосредоточенным, непоколебимо твердым, – и, несмотря на все это, в вопросе о любви он так же ничтожен, так же пошл, как и все вообще мужчины. – И зато в каком колоссальном величии является перед ним Теофания, которую он, в мужской слепоте своей, считал за натуру холодную и неспособную к любви, и которую он променял на светскую кокетку, правда, не лишенную страсти, но пустую и мелочную… Как жалок и смешон этот Долиньи, сконфузившийся от вопроса своего знакомого о висевшем у него на фраке ордене и догадавшийся, из рассказа знакомого, какою глубокою страстью горела к нему Теофания… И как возвышенна эта Теофания в ее молчаливом и гордом страдании, в ее свободном примирении с мыслию о бесплодно погибшей жизни и о разрушенных навеки лучших надеждах ее!..
В «Любиньке»[27 - Повесть опубликована под названием «Любонька». См. примеч. к наст. статье (вводная заметка).] опять мужчина не умеющий понять любимой им женщины, слепой и ограниченный в деле любви, несмотря на все свои достоинства в других отношениях, несмотря на то, что он человек благородный, душа восторженная и любящая… И опять женщина подавляет мужчину своим великодушием, своею безграничною преданностию и светлым самопожертвованием в деле любви…
И вот мы насчитали уже шесть повестей, проникнутых все одною и тою же мыслию. Есть, правда, у Зенеиды Р-вой две повести, в которых мужчины показаны даже очень и очень порядочными людьми. В «Джеллаледине»[28 - «Библиотека для чтения», 1838, т. XXX.] дело представлено даже совсем наоборот. Пламенный, мечтательный, благородный татарский князь делается жертвою своей безумной страсти к пустой, легкой женщине. Сочинительница говорит от себя в конце, что она встретила героиню своей повести уже бабушкою и старою сплетницею, лицемерного моралисткою. Но не доверяйте в этом случае искренности сочинительницы: подле пустой женщины она, в своей картине, искусно поместила интересную фигуру молодой татарки Эмины, которая… но мы лучше напомним о ней читателям словами самого автора. Описавши погребение ошибкою убитого Джеллаледином Белоградова, сочинительница продолжает:
Неподалеку оттуда, у взморья, где между грудами камней растут можжевельник и колючий терн, валялось другое тело, не удостоенное даже погребения… Ужасны были черты покойника, в которых самая смерть не могла восстановить спокойствия; на посинелом лице, в полуоткрытых глазах еще отражались страсти и горе; одежда его была изорвана, грудь обнажена и облита кровью, в широкой ране торчало еще лезвие кинжала, пальцы замерли и окостенели, крепко сжимая рукоять…
Напрасно Эмина молила татар и русских предать тело несчастного земле: магометане видели в нем вероотступника и справедливое мщение пророка; християне отвергали как преступника и самоубийцу… Сердце, истерзанное заживо людьми, осуждено было и по смерти на истерзание хищным птицам. Одна, верная подруга, не покинула его; без слез, без стона она сидела у трупа на камне, сметала сухие листья, падавшие ему на голову, и порой отгоняла ворона, который с криком опускался к своей добыче. Не скоро один старый казак, тронувшись положением молодой девушки, вырыл на том же месте могилу и с молитвой опустил в нее полуистлевшее тело. Девушку отвели в деревню, она убежала; ее заперли, она избилась, порываясь на волю. Татары решили, что ею овладел шайтан, который загрыз их князя, и выпустили ее из деревни. Безумная поселилась у взморья; ни осенние бури, ни зимние метели не могли прогнать ее; днем и ночью она стерегла могилу; иногда кордонные казаки, проезжая мимо, бросали ей хлеб и спешили удалиться… Долго белое покрывало веяло у взморья и пугало суеверных, наконец и оно исчезло. Девушку нашли лежащею ниц на могиле; пальцы ее врылись в землю, даже рот был полон земли: видно, бедняжка, в припадке безумия, хотела отнять у могилы ее достояние – своего незабвенного, вечно милого друга…
И этот Джеллаледин при жизни своей никогда не догадывался и не подозревал, что Эмина любит его со всем пылом восточной страсти, хотя это и не мудрено было бы заметить ему, – и вместо Эмины привязался всею силою глубокого, энергического чувства к пустой, легкомысленной девчонке… Знаете ли что? – нам кажется, что мы, назвав эту повесть исключением из общего направления всех повестей Зенеиды Р-вой, должны взять назад наше слово. Нет, это еще более злая сатира на мужчин, чем все прочие повести…
Вот другое дело повесть – «Номерованная ложа»;[29 - Альманах «Дагерротип», тетрадь седьмая. СПб., 1842, с названием «Ложа в Одесской опере».] ее искренности можно поверить, хотя в ней мужчина представлен очень и очень порядочным человеком в его отношениях к любимой им женщине. Но зато эта повесть, с такою счастливою развязкою, уж чересчур сладенька, а потому и недостойна имени своего автора. Счастливая развязка, как всякая ложь, часто портит повесть…
Содержание семи повестей, так, как оно изложено нами, достаточно знакомит читателя с пафосом поэзии Зенеиды Р-вой. Теперь мы укажем на места, в которых прямо и сознательно выговаривается задушевная мысль сочинительницы.
Вот что говорит она в конце повести «Джеллаледин»:
Отрадна мысль, что наши заботы, тревоги пролетают, как гул в безграничности пустыни, вздымая лишь несколько песчинок, пробуждая только слабый отголосок эха, и оставляют по себе едва заметное потрясение в воздухе, которое, разбегаясь в невидимых кругах, все слабее, чем далее от точки ударения, исчезает, подобно самому звуку, в пространстве.
Но грустно думать, что в этой бедной связке дней, называемых жизнию, так мало мгновений, достойных названия жизни! Грустно видеть, как часто души чистые, возвышенные, прекрасные, сродняются с душами слабыми, мелочными, созданными только для материального прозябания в болотах земных. Опутанная нерасторгаемыми узами своих собственных чувств, сильная не может покинуть своей ничтожной подруги, она порывается с ней к поднебесью, хочет унесть ее в свою родину, отогреть ее лучами любви своей, облить ее своим блаженством… Напрасно! Душа слабая не окрилится, не взлетит из холодных долин в страны заоблачные; порой на миг, восторженная любовью прекрасной подруги своей, она стремится взорам к небесам, но ее пугают и блеск солнца и стрелы молнии; она страшится доли сына Дедалова и, притягивая к себе свою невинную добычу, медленно губит ее или безжалостно разрывает узы, связывающие ее с нею, не помышляя о том, что узы те срослись с жизнью ее подруги, составлены из фибров сердца ее и что, расторгая их насильственной рукой, она убивает ее существование!.. Вот почти обыкновенная доля душ, которых люди называют возвышенными, прекрасными и которым провидение, давая все способности, всю силу постигать, чувствовать и ценить счастие жизни, отказывает только… в самом счастии!..
И роль чистых, возвышенных и прекрасных душ, по мнению сочинительницы, выпала преимущественно на долю женщин, тогда как роль души слабой досталась исключительно мужчинам. Хотите ли доказательства, что так именно думала даровитая Зенеида Р-ва? – Вот ее собственные слова:
Любовались ли вы иногда облаками в час вечерний, когда они стелются на небосклоне, развиваются беспредельною цепью и сквозь сумрак обманывают взор наблюдателя, рисуясь то синими горами, то лесом, то воздушным дворцом феи? И вот они сжимаются, теснятся и образуют одну грозную, черную тучу. Издалека несется глухой рокот; он вырывается из груди ее, будто стон людского предчувствия, и вдруг огненная струя прорезывает мглу, извивается змеем, гаснет, изрыгнув пожар и воду на оробевшую землю. Беспрерывные удары грома потрясают воздух, окрестность вторит его перекатам, дождь льет ручьями, вихрь ломает деревья, люди с трепетом думают, что настал последний день мира. Но проходит час, – гроза умолкла, черная туча рассеялась и не осталось никаких следов мятежа стихий: небо опять чисто и ясно, и земля, как испуганное дитя, улыбается сквозь слезы, которые еще дрожат на ее лице. Еще час, и все возвратится к прежнему спокойствию.
Поэты до сих пор доискиваются тайного, нравственного смысла этого великого представления природы; а я так думаю, что это просто – пародия печали и отчаяния мужчин.
Но есть облако другого рода: оно медленно скопляется из паров сухой, бесплодной почвы; ни один живой источник, ни одно озеро не посылают ему должной доли, и, незаметное, как тень, оно скитается по поднебесью, не имея силы ни жить, ни умереть. С зарей вы видите его на востоке: оно ожидает появления солнца и, кажется, молит светило, чтоб первые лучи истребили его, чтоб огонь полудня растопил несчастную горсть паров. Солнце всходит и гордо совершает свой путь, не замечая бледного облака. В час вечера, когда шар без лучей опускается в морскую пучину, вы видите то же самое облако на западе: оно просится в бездну, жаждет утонуть в ее холодных объятиях. Солнце снова отталкивает его, бросается в лазоревое ложе, а облако, по-прежнему печальное, одинокое, идет скитаться в пустыне поднебесной.
Это облако – печаль и отчаяние женщины.
Тоска женщины не пугает людей бурными порывами: ее никто не видит и не замечает; она западает глубоко в сердце и точит его, как червь точит корень водяной лилии. Если веселие мелькнет случайно на лице страдалицы, ее улыбкой полюбуется равнодушный прохожий, как белоснежными листьями цветка, плавающего на поверхности вод, не думая даже о том, что в корень бедной лилии всосался болотный червь, что в груди ее губительный недуг, что яд струится по всем ее жилам и что этот червь умрет только под гнетом камня могильного.
Мы совершенно согласны с автором насчет превосходства женщин над мужчинами в деле любви; мы принимаем это превосходство за факт, по подлежащий никакому сомнению, и только постараемся, как сумеем, объяснить причину такого явления.
Начнем с того, что женщина более, чем мужчина, создана для любви самою природою. Женщина – представительница земного, производительного и хранительного начала, тогда как мужчина представитель начала умственного, отвлеченного, олимпийского. Отсюда происходит великая разница в семейственном значении женщины и мужчины. Женщина – мать по призванию, по душе и по крови. Мать есть понятие живое, действительное, фактически существующее, тогда как отец есть понятие более или менее условное, более или менее относительное. Мать любит свое дитя сердцем, кровью, нервами, любит его всем существом своим; ее любовь прежде всего физическая, естественная, следовательно, любовь по преимуществу, любовь как любовь. Она носит свое дитя у себя под сердцем, девять месяцев питает и растит его своею кровью, чувствует в себе первые жизненные его движения; оно, это дитя – плоть от плоти ее и кость от костей ее; она рождает его на свет в муках и страданиях и, вместо того чтоб возненавидеть именно за них-то, за эти муки и страдания, еще более любит его. Это маленькое, слабое, крикливое, неопрятное и деспотическое существо с первого дня своего появления на свет делается предметом нежнейших попечений и неусыпных забот своей матери: она любуется его безобразием, как красотою; его красная морщиноватая кожа только манит ее поцелуи; в его бессмысленной улыбке она видит чуть не разумную речь и готова начать с ним говорить; ей не противно наблюдать за чистотою этого маленького животного; ей не тяжело не спать ночи, бодрствуя над его ложем. И она – бедная мать – будет любить его всегда, и прекрасного и безобразного, и умного и глупого, и доброго и злого, и добродетельного и порочного, и славного и неизвестного… Она равно рыдает и над гробом своего дитяти-младенца и над гробом своего сына-старика или своей дочери-старухи. Ангел-хранитель младенчества детей своих, она друг их юности, возмужалости и старости. Нет жертвы, которой бы не принесла она для детей; их счастие – ее счастие; их несчастие – ее несчастие. Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна в сравнении с нею! Любовница, жена любит вас для себя самой, ваша мать любит вас для вас самих. Ее высочайшее счастие видеть вас подле себя, и она посылает вас туда, где, по ее мнению, вам веселее; для вашей пользы, вашего счастия она готова решиться на всегдашнюю разлуку с вами.
Конечно, таких матерей немного на белом свете; но ведь и женщин тоже мало в этом мире, а много в нем самок…
Совсем иначе любит отец своих детей. Во-первых, он любит их только тогда, когда и мать их любима им: во-вторых, он начинает их любить только с тех пор, как они начнут становиться и милы и забавны. Их крика и докуки он не любит. Источник любви отца к детям всегда или эгоизм, или рефлексия, и никогда – природа. «Они мои дети – они на меня похожи – они продолжат мое имя – я прижил их от моей милой – они обнаруживают большие способности – они много обещают в будущем», – думает про себя дражайший родитель, – и он в восторге от мысли, что он любит своих детей, что он не только нежный супруг, но и примерный отец! Правда, и отец может страстно любить детей своих, когда его с ними соединит нравственное, духовное родство; но так же точно может он любить и приемыша, даже еще больше, чем собственных детей.
Виссарион Григорьевич Белинский
Для Белинского творчество Ган интересно прежде всего как выражение художественной одаренности женщины. В краткой рецензии, предшествующей его большой статье о Ган, он писал: «Между русскими писательницами нет ни одной, которая достигла бы такой высоты творчества и идеи и которая в то же время до такой степени отразила бы, в своих сочинениях, все недостатки, свойственные русским женщинам-писательницам».
Виссарион Григорьевич Белинский
Сочинения Зенеиды Р-вой
Санкт-Петербург. 1843. Четыре части.
В России женщины мало пишут. Впрочем, этому нечего удивляться: в России и мужчины почти совсем не пишут. Смотря с этой точки зрения, вы увидите, что у нас женщины пишут именно не больше и не меньше того, сколько могут они писать. Звание писательницы пока еще контрабанда не у одних нас. Лживый взгляд на женщину осуждает ее на молчание. Этот взгляд, запрещающий женщине выходить из заколдованного круга простых светских отношений, не есть принадлежность собственно русского общества: он равно принадлежит и просвещенному Западу Европы. Правда, там, как и у нас, женщина давно уже приобрела право говорить печатно, – но как и о чем говорить? вот вопрос, подробное решение которого завело бы нас далеко-далеко… в самую Азию. Никакая пишущая женщина в Европе не избегнет пошлых намеков и названия синего чулка[1 - Выражение «синий чулок» возникло в Англии в конце XVIII века и особенно распространилось после того, как Байрон использовал его в своей сатире «The Blues» (1820) – «Синие». Белинский выделяет выражение курсивом, вероятно, потому, что в России к тому времени оно лишь начинало становиться известным.], каков бы ни был ее талант, равно всеми признанный. Никто там не оспоривает у женщины права высказываться печатно и возможности быть одаренною даже великим творческим талантом; никого не оскорбляет и не соблазняет зрелище пишущей женщины; но в то же время едва ли кто упустит случай, говоря о пишущей женщине, посмеяться над ограниченностию женского ума, более будто бы приноровленного для кухни, детской, шитья и вязанья, чем для мысли и творчества. Это уже такая привычка у мужчин: если они давно перестали бить женщин, то еще не отстали от привычки грозить им кулаком или дразнить языком, в ознаменование права своей силы. Привычка – вторая натура, и потому отстать от нее трудно. Для женщины-писательницы – это первое, и притом еще самое меньшее зло. Хуже всего, что она осуждена общественным мнением на самые невинные литературные занятия, именно – вечно повторять старые обветшалые истины, которым не верят даже и дети, но которые тем не менее считаются почтенными. Нельзя употребить большего насилия над женщиною, нельзя оказать ей большего презрения! Конечно, ей не воспрещается законом быть оригинальною и глубокою в своих мыслях, могущественною и великою в творчестве, – по крайней мере настолько, насколько не воспрещается это законом мужчине; но если закон оставит женщину в покое, тогда против нее действует общественное мнение. Тысячеглавое чудовище объявляет ее безнравственною и беспутною, грязнит ее благороднейшие чувства, чистейшие помыслы и стремления, возвышеннейшие мысли, – грязнит их грязью своих комментариев; объявляет ее безобразною кометою, чудовищным явлением, самовольно вырвавшимся из сферы своего пола, из круга своих обязанностей, чтоб упоить свои разнузданные страсти и наслаждаться шумною и позорною известностью. Не правда ли, что это возмутительно несправедливо?.. А вот вам и смешное: то же самое общество не читает женщин, пишущих в духе его же собственной морали, и обходит их самым презрительным невниманием, потому что оно само не верит своей морали и смеется над нею. Впрочем, оно противоречит таким образом самому себе не в отношении к одним только женщинам. Возьмем, например, современное французское общество. Представители его – набитые золотом мешки, приобретатели, люди поклоняющиеся золотому тельцу. Кого читает это общество? – писателей в духе чуждой ему морали. Это общество недавно восхищалось двумя романами Эжена Сю «Mathilde»[1 - «Матильда» (фр.). – Ред.] и «Mysteres de Paris»[2 - «Парижские тайны» (фр.). – Ред.], а эти романы не что иное, как страшный донос на это общество[2 - Роману «Матильда» (1841, русский пер. 1846) посвящена рецензия Белинского 1847 г. (см.: Белинский, АН СССР., т… X, с. 102), «Парижским тайнам» (1842–1843, русский пер. 1844) – специальная большая статья (1844; см. наст. изд., т. 7).]. Это же общество не хочет уже читать какого-нибудь мосье де-Бальзака, до сих пор верного моральному принципу выскочившего в люди богатого мещанства; оно смеется над ним, презирает его и вместо его читает Жорж Занд, в котором имело бы право видеть своего обвинителя, изобличителя и нравственную кару[3 - См. примеч. 9 и 10 к статье «Речь о критике».]. После этого извольте угождать обществу и сообразоваться с его моралью! Все явления действительности внутри себя самих заключают всю необходимость: вот отчего люди толкуют свое, а действительность идет своею дорогою, не спрашиваясь у людей, но заставляя людей спрашиваться у нее. Привычка мало-помалу делает людей равнодушными к явлению, которое вначале поразило их, и со временем они начинают не только считать это явление естественным, но даже и приносить ему дань удивления и восторженных похвал. Таково теперь во Франции положение Жоржа Занда как писательницы; но не таково было ее положение назад тому несколько лет. И что же? – явись другая писательница с таким же гением, – и на нее сперва польется обильный дождь клевет, браней, оскорблений, лжей, – и все это во имя будто бы оскорбленной ею морали, и при всем этом будут раскупать ее сочинения и твердить их наизусть; а потом клеветы, лжи и брани умолкнут, сменившись на восторг и удивление… А в то же время сколько женщин-писательниц в духе общественной морали, пичкающих свои сочинения пошлыми сентенциями, пройдут незамеченные, не удостоенные ничьего внимания!..
Сказанное нами не может иметь применения к русской литературе. У нас литература имеет совсем другое значение, чем в старой Европе. Там она – выражение мысли, служащей источником жизни для общества в каждую эпоху его исторического развития. У нас литература – приятное и полезное, невинное и благородное препровождение времени, и для писателя и для читателя. Исключения из этого правила так редки, что не стоит упоминать о них. Наши писатели (и то далеко не все) только одною ступенью выше обыкновенных изобретателей и приобретателей; наши читатели (и то далеко не все) только одною ступенью выше людей, которые в преферансе и сплетнях видят самое естественное препровождение времени. Оттого у нас все писатели, и хорошие и худые, равно читаются и почитаются, равно имеют ограниченный круг нравственного влияния и равно скоро забываются. Исключение остается только за писателями, которые уж слишком по плечу обществу и слишком хорошо угодили его вкусу, удовлетворили его потребностям: таковы, например, гг. Марлинский и Бенедиктов, которых и теперь еще очень любят даже в столицах, а в провинции знают наизусть. Поэтому женщина у нас смело может пускаться в писательство: если она не всегда может надеяться стать слишком высоко, зато никогда не должна бояться затеряться в задних рядах писак. Это тем вернее, что женщины, которые когда-либо пускались на Руси в авторство, всегда обладали известною степенью образованности, знанием хоть французского языка; при этом им немало служит и врожденный женской натуре такт приличия и здравого смысла; тогда как несравненно большая часть пишущих в России мужчин попали в писатели нечаянно и без всякого приготовления, а потому и не знают даже первых оснований грамматики своего родного языка, да и принадлежат еще к такому кругу понятий, из которого совсем не следовало бы показываться в печати. В доказательство справедливости наших слов указываем на длинную вереницу сочинителей вроде гг. Милькеева, Славина, Кузьмичева, Зотова, Воскресенского, Классена, Сигова, Антипы Огородника, Тимофеева, Зражевской, Бурачка, Мартынова, Кропоткина, Скосырева, Жданова, Шелехова, Куражсковского, Ильина и многих иных, которых перечесть недостанет ни терпения, ни времени, ни места в статье. Скажут: бездарные люди всегда заваливали литературу мусором своих сочинений. Правда, и прежде – в доброе классическое время нашей литературы, бездарных писак, так же как и теперь, было больше, чем даровитых писателей; но тогда не было между пишущим народом людей безграмотных; тогда все старались писать в тоне порядочного общества, и не воспевали в стихах российского сиволдая[4 - Сиволдай (сивалдай) – неуклюжий, грубый человек; забулдыга.] и кабаков (как это недавно сделал г. Милькеев), и не восхищались тем, что Ломоносов был подвержен несчастной страсти невоздержания, от которой и погиб рано. В прежние времена пришли бы в ужас от такого романтизма. Но в наше время так называемый романтизм освободил писак от здравого смысла, вкуса, грамматики, логики, порядочного тона, даже опрятности и чистоплотности, – и все эти господа-сочинители стали выезжать в своих романтически-народных произведениях на разбитых носах, фонарях под глазами, зипунах, лаптях, мужицких речах и поговорках, кабаках и харчевнях. И все это ими представляется и описывается без всякого юмора, без всякой сатирической цели, но с добродушным и добросовестным восторгом и удивлением к своим неопрятным вымыслам: ссылаемся опять на того же г. Милькеева, который, вдохновившись сивухою, воспел ее в дифирамбе без всякой иронии, важным, торжественным и патетическим тоном[5 - См. рецензию на «Стихотворения Милькесва» (наст. т., с. 468), где Белинский говорит об этом же.].
К чести русских женщин-писательниц надобно сказать, что между ними примеры подобного романтизма, или безграмотности, составляют исключения из общего правила, – исключения, которые остаются за немногими, теми, которые, соблазнившись некоторыми журналами, пустились гуторить в них народною (то есть огородническою) речью…[6 - Речь идет об А. В. Зражевской и журнале «Маяк», в котором она сотрудничала.] Все другие, обладая большим или меньшим талантом, все-таки отличаются большею или меньшею грамотностью, уважением к приличию и отвращением к площадной и харчевенной народности. Между тем в их последовательном явлении одна за другою есть нечто вроде прогресса, – и Анна Бунина и Зенеида Р-ва представляют две совершенные противоположности, не по одному таланту, но и по направлению и духу их произведений. Здесь мы считаем кстати сделать короткое обозрение литературной деятельности русских женщин. В каталоге Смирдина[7 - «Каталог Смирдина» — «Роспись российским книгам для чтения, из библиотеки Александра Смирдина, систематическим порядком расположенная. В четырех частях, с приложением азбучной росписи имен сочинителей и переводчиков и краткой росписи книгам по азбучному порядку». СПб., тип. А. Смирдина, 1828. Первое прибавление к Росписи… СПб., 1829. Второе прибавление… СПб., 1832. Кроме «Росписи…», Белинский, вероятно, использовал «Библиографический каталог российским писательницам», составленный С. В. Руссовым. СПб., 1826.] мы встречаем имена следующих женщин, занимавшихся переводами с иностранных языков на русский: Марья Сушкова (перевела «Инки» Мармонтеля в 1778 году), Марья Орлова (1788), Катерина и Анна Волконские (1792), Корсакова (1792), Нилова (1793), Баскакова (1796), Марья Базилевичева (1799), Марья Иваненко (1800), Лихарева (1801), Настасья Плещеева (1808), Марья Фрейтах (1810), Катерина де ла Map (1815), Татищева (1818), Беклемишева (1819), Бровина (1820), Вишлинская, А. и Катерина Воейковы, Анна и Пелагея Вельяшевы-Волынцовы, Вера и Надежда Кусовниковы, Настасья Гагина, Катерина Меньшикова, А. Мухина[8 - Полное название перевода М. В. Сушковой «Инки, или Разрушение перуанской империи, сочинение Мармонтеля», ч. I–II. М., 1778. В скобках Белинский всюду указывает год перевода писательницей того или иного произведения. Например: Н. И. Плещеева перевела с французского «Училище бедных, работников, слуг, ремесленников и всех нижнего класса людей, сочинение г-жи Ле-Препс де Бомонт», ч. I–II. М., 1808; А. Воейковой принадлежит перевод «Опыта о вкусе в произведениях природы и художеств, или Рассуждение о причинах удовольствий, которые возбуждают в нас произведения разума и изящные художества, из сочинений г. Монтескье». СПб., 1805; А. В. Мухина перевела «Новые семейственные картины, или Жизнь бедного священника одной немецкой деревни и его детей, сочинение Августа Лафонтена», ч. I–V. М., 1805–1806.]. Из этого списка видно, что наши дамы рано приняли участие в отечественной литературе. В 1789 году были изданы «Лучшие часы жизни моей» Марьи Поспеловой[9 - Названное сочинение М. А. Поспеловой вышло не в 1789, а в 1798 г. во Владимире.]; а в 1801 г. ее же «Черты природы и истины, или Оттенки мыслей и чувств моих»., Еще ранее, именно в 1774 г. (стало быть, шестьдесят девять лет назад тому), Катерина Урусова издала свою эпическую поэму в пяти песнях «Полной, или Просветившийся нелюдим», Александра Хвостова издала в 1796 году «Камин и ручеек». Г-жи Москвины издали свои стихотворения, под заглавием «Аония», в 1802 году. Девица Волкова издала в 1807 <году> свои стихотворения. Г-жа Наумова издала свои стихотворения в 1819 году под именем «Уединенной музы закамских берегов». Г-жа Любовь Кричевская обнаружила особенную плодовитость, в сравнении с исчисленными нами писательницами: она издала «Мои свободные минуты, или Собрание сочинений в стихах и прозе, Любови Кричевской» (Харьков, 1818); драму в трех действиях «Нет добра без награды» (Харьков, 1826); «Две повести» (Москва, 1827) и «Исторические анекдоты и избранные изречения известных людей» (Харьков, 1827). Хотя сочинение г-жи Анны Волковой «Утренняя беседа слепого старца с своею дочерью» издано в 1824 году, но по наивному заглавию и, вероятно, по такому же содержанию оно может быть смело отнесено к произведениям семисот семидесятых годов. Впрочем, это произведение той же самой г-жи Волковой, которая в 1807 году издала свои стихотворения и в 1826 еще писала стихи. Г-жа Титова издала в 1810 году драму в пяти действиях «Густав Ваза, или Торжествующая невинность»; г-жа Катерина Пучкова – «Первые опыты в прозе» (Москва, 1812); а в 1817 году г-жа Марья Болотникова издала «Деревенскую лиру, или Часы уединения». Но что все эти писательницы перед знаменитою в свое время г-жою Анною Буниною? Она писала в журналах и потом отдельно издавала труды свои, писала и переводила в стихах и в прозе, занималась не только поэзнею, но и теориею поэзии. В 1808 году она издала труд свой под названием «Правила поэзии, сокращенный перевод аббата Бате, с присовокуплением российского стопосложения»; в 1810 году издала она «О счастии, дидактическое стихотворение»; в 1811 издала она свои «Сельские вечера»; в 1809–1812 – «Неопытную музу Анны Буниной» в двух частях; в 1819–1821 вышло «Собрание стихотворений Анны Буниной» в трех частях. Знаменитейшее произведение г-жи Буниной была нравственная поэма ее «Фаетон». Она, кажется, перевела также и «Науку о стихотворстве» Буало и вообще не уступала графу Дмитрию Ивановичу Хвостову ни в таланте, ни в трудолюбии, ни в выборе предметов для своих песнопений[10 - Поэма «Падающий Фаэтон» (а не «Фаэтон», как называет ее Белинский) вошла в сборник произведений А. П. Буниной «Сельские вечера», О том, переводила ли Бунина Буало, сведений не обнаружено. С Д. И. Хвостовым Белинский сравнивает ее потому, что ему принадлежит перевод «Науки о стихотворстве» (СПб., 1808).]. Собрание стихотворений г-жи Анны Буниной было издано Российскою академиею. Но и г-жою Буниной не оканчивается еще блистательный список старинных наших писательниц. Есть еще одна, не менее знаменитая, хотя и менее известная. Знаете ли вы девицу Марью Извекову, читали ли вы романы девицы Марьи Извековой?.. Если нет, то бегите в книжную лавку, попросите книгопродавца порыться в его погребах и кладовых – этих книжных кладбищах – и отыскать вам романы девицы Марьи Извековой, если их еще не съели мыши, и прочтите их как можно скорее. Чтоб помочь вам в ваших поисках, мы поименуем ее романы. Их немного, всего три, да зато куда хороши! «Эмилия, или Печальные следствия безрассудной любви» (4 ч., 1806); «Милена, или Редкий пример великодушия» (1809); «Торжествующая добродетель над коварством и злобою» (3 ч., 1809). Каковы одни заглавия – так и дышат чистейшею нравственностью! А содержание – еще лучше, еще нравственнее, хотя, надо признаться, и невообразимо скучно. Его составляют происшествия, в которых действуют лица без образа; герои, а особенно героини, отличаются необыкновенною говорливостью. Так, например, вы уже знаете через самого автора, что тогда-то и тогда-то было с героинею: нет, она сама начнет вам пересказывать, и гораздо длиннее, чем автор уже рассказал вам, хотя и сам автор не любит выражаться коротко. Романы г-жи Извековой, кроме чистейшей нравственности, насквозь проникнуты еще и нежнейшею чувствительностью, и, вероятно, многих слез стоили они прекрасным читательницам того времени, теперешним почтенным нашим тетушкам и бабушкам. И неблагодарное потомство забыло девицу Марью Извекову, забыло совсем!.. Что ж после этого прочно под луною? Где Греция, где Рим? – спрашивал Байрон в своем «Чайльд Гарольде»; где романы девицы Марьи Извековой – часто спрашиваю я самого себя с глубокою тоскою и печально смотрю на современные произведения русской литературы…[11 - Творчество М. Е. Извековой всегда служило мишенью для иронии Белинского. См., например, его отзыв о ней в статье «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» (наст. изд., т. 1, с. 306).] Увы! везде мрачное царство смерти, везде ее ужасное владычество, везде – даже и в книжном мире! Эта мысль с особенною силою поражает нас, которые столько пережили, еще не успев состареться, которые с такою надеждою, такою гордостью встретили столько великих произведений, теперь уже умерших для света. Где теперь все эти «киргизские» и другие «пленники», где все это множество романтических поэм, длинною вереницею потянувшихся за «Кавказским пленником» Пушкина[12 - См. примеч. 150 к статье «Литературные мечтания» (наст. изд., т. 1, с. 643).] и «Чернецом» Козлова? Увы! не только эти скороспелые произведения недопеченного романтизма, тогда так восхищавшие нас, не только они не могут теперь останавливать нашего внимания, но мы не нашли бы в себе достаточной отваги, чтоб перечесть «Чернеца»; и даже «Руслана и Людмилу» и «Кавказского пленника» мы теперь перелистываем с улыбкою… Где теперь нравоописательные и нравственно-сатирические романы г-на Булгарина, где его пресловутый «Иван Выжигин», которого так сильно бранили назад тому лет четырнадцать? Где «Черная женщина» г-на Греча и «Фантастические путешествия» Барона Брамбеуса? Все там же, где и «Корсар» г. Олина, и «Князь Курбский» г. Бориса Ф(?)едорова, и романы девицы Марьи Извековой!.. Давно ли «Московский телеграф» казался чудом учености, глубокой философии и здравой критики; давно ли казалось, что в своем ходе он опережал самое время? Давно ли «Юрий Милославский» считался великим национальным романом? А где слава наших романтических поэтов? И кто не считался назад тому около двадцати лет, кто не считался тогда великим романтическим поэтом? Даже г. Шевырев и сам считал себя и другими многими считался поэтом – и все это за довольно плохие стишонки. Давно ли сей великий муж российской словесности хлопотал о введении в русское стихосложение скрипучих октав? И как напрасно теперь силится он, помня старину, блеснуть то плохим стихотворением, то неслыханно оригинальною критическою статьею![13 - Мнение о Шевыреве-поэте было высказано Белинским еще в «Литературных мечтаниях». Позже он не раз возвращался к этой теме, упрекая, в частности, И. В. Киреевского в переоценке поэтического дарования Шевырева (см. статью «Русская литература в 1842 году»). Шевыреву принадлежит трактат «О возможности ввести италианскую октаву в русское стихосложение» (1831).] И как напрасно вместе с ним, помня доброе старое время, гг. Языков и Хомяков стараются спастись от волн Леты, хватаясь за обломки утлого в славянской журналистике челнока – «Москвитянина»…[14 - Н. М. Языков и А. С. Хомяков были активными участниками враждебного Белинскому и «Отечественным запискам» журнала «Москвитянин», а Хомяков, кроме того, и крупнейшим идеологом славянофильства. О поэзии Языкова и Хомякова – более подробно в статье Белинского «Русская литература в 1844 году». Белинский писал В. П. Боткину о Хомякове 6 февраля 1843 г.: «Я знаю, что Х<омяков> – человек не глупый, много читал и, вообще, образован; но мне было бы гадко его слышать, и он не надул бы меня своею диалектикою». Частые нападки Белинского на Языкова и Хомякова заставили Герцена написать Краевскому 19 января 1845 г.: «Мне досадно, что в 1 № (речь идет о статье Белинского «Русская литература в 1844 году») так много о Языкове и Хомякове; они гордятся этим и воображают, что их направление так сильно, что с ними борются…» (Герцен, т. XXII, с. 224). Однако в «Былом и думах» Герцен признал правоту Белинского-публициста (там же, т. IX, с. 167). В декабре 1844 г. Языковым написано стихотворение «К не нашим», в котором современники увидели «пасквиль на главнейших представителей западного направления» (Б. Н. Чичерин. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1929, с. 22).] А колоссальная слава гг. Марлинского и Бенедиктова – где же теперь она, если не там, где и слава романов девицы Марьи Извековой?
С появления Пушкина гораздо больше стало являться на Руси женщин-писательниц; но известных имен между ними стало меньше. Это оттого, что имена людей, действовавших в начале зарождающейся литературы, пользуются известностью даже и без отношения к их таланту. Когда же литература уже сколько-нибудь установится, тогда, чтоб получить в ней почетное имя, нужно иметь замечательный талант. Итак, мы помним, в пушкинский период русской литературы, только четыре женские имени; княгини З. А. Волконской, которой Пушкин посвятил своих «Цыган», г-ж Лисицыной, Готовцевой и Тепловой. В стихотворениях трех последних проглядывает чувство, особливо в стихотворениях г-жи Тепловой; это уже большая разница от произведений прежних стихотвориц: то были плоды невинных досугов, поэтическое вязание чулков, рифмотворное шитье, а здесь уже проблескивала поэзия. Правда, помянутые нами стихотворицы мало писали, и только стихотворения одной г-жи Тепловой собраны в отдельную книжку-малютку;[15 - К моменту написания статьи был опубликован ряд произведений З. А. Волконской: «Quatres nouvelles», M., 1819; «Славянская картина пятого века». М., 1825 и др. М. Лисицыной принадлежит сборник «Стихи и проза». М., 1829 и несколько произведений, опубликованных в «Дамском журнале» («Моя отрада», «Романс», «К родине» и др.). А. И. Готовцева – автор нескольких стихотворений, публиковавшихся в «Сыне отечества», «Московском телеграфе» и альманахах. Под «книжкой-малюткой» Белинский, видимо, имеет в виду издание: Н. С. Теплова. Стихотворения. М., 1838, в 24-ю д. л. Первое издание вышло в 1833 г. в 16-ю д. л.] но может ли быть плодовита поэзия, основанная не на мысли, а на одном непосредственном чувстве?.. Чувства никак нельзя отнять у стихотворений г-жи Тепловой, и это чувство высказывалось у ней в более или менее поэтических стихах. Напомним здесь нашим читателям хоть одно стихотворение г-жи Тепловой; возьмем наудачу так называющееся «К сестре»:
Когда наступит час желанный
Разлуки с жизнию туманной,
И от земных тяжелых уз
Я равнодушно отложусь, —
Мир вечной жизни тихий, ясный,
Тогда почиет на челе;
Но пережить тебя ужасно,
Покинуть тяжко на земле!
Тогда в душе для услажденья
Минуты смертного томленья
Я положу завет святой…
И жди меня в часы полночи,
Когда людей смежатся очи
И месяц встанет над рекой.
Приду на краткое свиданье,
Скажу, что я узнала там,
И замогильные желанья
И тайну неба передам.
Оставя в стороне ребяческую мысль этого стихотворения, кто, однако же, не согласится, что оно вылилось из души и полно чувства?
Теперь скажем по нескольку слов о женщинах-писательницах, явившихся в последнее время. Елисавета Кульман оставила после себя претолстую книгу, свидетельствующую о ее необыкновенно возвышенной душе, страстной к изящному и умевшей через строгое и основательное изучение обрести в эллинской поэзии осуществленный идеал этого изящного, но вместе с тем свидетельствующую и о том, что любовь к поэзии и способность понимать ее и наслаждаться ею не всегда одно и то же с талантом поэзии…[16 - Белинский имеет в виду «Полное собрание русских, немецких и итальянских стихов Елизаветы Кульман. Пиитические опыты», чч. I–III. СПб., 1839. Творчеству Кульман посвящена рецензия Белинского на Книгу: «Елисавета Кульман. Фантазия» А. В. Тимофеева (1836; см. наст. изд., т. 1, с. 464) и рецензия на ее «Пиитические опыты» (1841; см.: Белинский, АН СССР, т. IV, с. 570). Мнение Белинского об отсутствии поэтического таланта у Кульман отнюдь не было общепринятым. Так, В. Громов в «Обозрении книг, вышедших в России» ставил имя Кульман рядом с именем Пушкина, называя ее стихотворения «прекрасными» («Журнал министерства народного просвещения», 1842, ч. XXXVI, отд. VI, с. 240). Позже взгляд Белинского на творчество Кульман развивается Е. С. Некрасовой в статье «Елизавета Кульман» («Исторический вестник», 1886, т. XXVI, декабрь, с. 552–553).] Г-жа Павлова (урожденная Яниш) обладает необыкновенным даром переводить стихами с одного языка на другой; с равным успехом переводит она с английского, немецкого и французского языков на русский и с русского языка на немецкий и французский. Жаль только, что этому превосходному таланту г-жи Павловой переводить не соответствует ее талант выбирать пьесы для перевода. Так, например, с английского она перевела на русский несколько шотландских и английских народных баллад, которые, несмотря на превосходный перевод, не могут иметь на русском никакого значения именно потому, что они – народные. На немецкий язык, вместе с некоторыми пьесами Пушкина, перевела она некоторые пьесы гг. Языкова и Хомякова и тем самым, несмотря на превосходный перевод, отбила охоту у немцев интересоваться русскою поэзиею. И в то же время г-жа Павлова с таким удивительным искусством передала на французский язык, стихами, «Полководца» Пушкина и «Орлеанскую деву» Шиллера. Одним словом, если б способность выбора соответствовала ее таланту, г-жа Павлова своими превосходными переводами усвоила бы себе прочную славу не в одной только русской литературе[17 - Кроме переводов, К. К. Павловой принадлежат и оригинальные произведения. Незадолго до статьи Белинского вышел ее сборник «Les preludes par m-me Caroline Pavloff nee Jaenisch», P., 1839.]. – Графиня Е. П. Ростопчина, выступившая на литературное поприще с 1835 года,[18 - Первое произведение Е. П. Ростопчиной появилось в печати в 1830 г.] в первых опытах своей поэтической деятельности обнаружила много чувства и одушевления, при отсутствии, впрочем, какой бы то ни было могучей мысли, которая проникала бы собою все ее произведения. То, что в стихотворениях графини Ростопчиной может иным показаться мыслию, есть не что иное, как отвлеченные понятия, одетые в более или менее удачный стих. Это особенно заметно в ее последних стихотворениях (начиная с 1837 года по сие время), в которых нельзя узнать прежнего стиха даровитой стихотворицы и в которых все мысли и чувства кружатся, словно под музыку Штрауса, и скачут, словно под музыку модного галопа, или около я автора, или в заколдованном кругу светской жизни, не выходя в сферу общечеловеческих интересов, которые только одни могут быть живым источником истинной поэзии. – В 1839–1840 годах были изданы, в прозаическом русском переводе, стихотворения графини Сары Толстой, писанные ею на немецком, английском и французском языках. Эти стихотворения понятны только в целом и в связи с жизнию юной стихотворицы, похищенной смертию на восьмнадцатом году ее жизни. Все эти стихотворения проникнуты одним чувством, одною думою, и то чувство – меланхолия, та дума – мысль о близком конце, о тихом покое могилы, украшенной весенними цветами… У Сары Толстой это монотонное чувство и эта однообразная дума высказались поэтически. Стихотворения Сары Толстой нельзя читать как только произведения поэзии, но и вместе с тем как поэтическую биографию одной из самых странных, самых оригинальных, самых поэтических, и по натуре, и по судьбе, и по таланту, и по духу, личностей. Это прекрасное явление промелькнуло без следа и памяти… Да и кому нужда у нас замечать такие явления, не состоящие ни в каком классе?.. Может быть, в этом случае, заслуженная известность Сары Толстой много потеряла от того, что ее стихотворения изданы не для публики, а для тесного круга ее родных и знакомых, и притом в довольно плохом переводе и с дурно написанным предисловием…[19 - Речь идет об издании: «Сочинения в стихах и прозе графини Сарры Толстой», ч. I–II. М., 1839, 1840. Талантом юной поэтессы восхищался и Герцен, рассказавший о трагических обстоятельствах ее короткой жизни (см. Герцен, т. VIII, с. 243). Суждения Белинского о поэзии С. Толстой содержат скрытую полемику со статьей М. Н. Каткова «Сочинения в стихах и прозе графини С. Ф. Толстой», где декларировался подсознательный характер поэтического творчества («Отечественные записки», 1840, № 10).Автором предисловия к «Сочинениям» С. Толстой был М. Н. Лихонин. Ему же принадлежит и перевод, по которому, как справедливо замечает Белинский, трудно судить о действительных поэтических достоинствах произведений Толстой. Это сознавал и сам Лихонин. В «Предисловии переводчика» он писал: «Переводчик, исполняя волю ее родителя (отцом Сарры был знаменитый Ф. И. Толстой-»Американец». – Г. Е.), должен был переводить подлинник слово в слово, и потому не мог вполне передать нежных оттенков чувств и мыслей» (С. Ф. Толстая. Сочинения в стихах и прозе, ч. I. M., 1839, с. LXXIII).] – К замечательным явлениям последнего времени русской литературы принадлежат повести г-жи Жуковой. В них много чувства, и они отличаются прекрасным рассказом: вот их неотъемлемые достоинства. Но вместе с тем они чужды иронии, жизнь в них представляется не в ее собственном цвете, а раскрашенная розовою краскою поддельной идеализации, и оттого характеры действующих лиц иногда не выдержаны, а иногда и вовсе ложны, и замечается отсутствие целого при прекрасных частностях. Одним словом, даровитая г-жа Жукова принадлежит к тому разряду писателей, которые изображают жизнь не такою, какова она есть, следовательно, не в ее истине и действительности, а такою, какою им хотелось бы ее видеть. Но при всем этом в повестях г-жи Жуковой уже видно как бы невольное стремление, вследствие духа времени, – искать сюжетов в действительной современной жизни и заботиться о естественном изображении подробностей быта и ежедневной жизни героев, сообразно с их положением в обществе и степенью их образованности. Вообще, главное достоинство повестей г-жи Жуковой – теплота чувства, и главный их недостаток – отсутствие такта действительности[20 - Белинскому принадлежат рецензии на след. выпуски сочинений М. С. Жуковой: «Вечера на Карповке» (ч. I–II. СПб., 1837, 1838; см. Белинский, АН СССР, т. II, с. 566); «Повести Марьи Жуковой», СПб., 1840 – см. наст. изд., т. 3; «Русские повести» (СПб., 1841; см.: Белинский, АН СССР, т. V, с. 477).].
Нельзя сказать, чтоб в повестях Зенеиды Р-вой русская повесть достигла талантом женщины своего полного развития, чтоб она стала выражением созревшей мысли и верною картиною современного общества; но в то же время нельзя не сказать, что ни одна из русских писательниц не обладала такою силою мысли, таким тактом действительности, таким замечательным талантом, как Зенеида Р-ва. Созданная ею повесть, как ее талант и жизнь, остановились на полудороге и не дошли до своего полного и конечного развития[21 - Е. А. Ган скончалась 28-ми лет от чахотки.]. Мы не хотим и упоминать о полноте чувства, которою проникнуты повести Зенеиды Р-вой; это должно само собою подразумеваться, когда дело идет о сильном таланте: какого же порядочного математика хвалят за способность комбинировать и соображать? И потому мы прямо приступим к тому, что составляет существенное достоинство повестей Зенеиды Р-вой, – к их мысли.
В истинно поэтических произведениях мысль не является отвлеченным понятием, выраженным догматически, но составляет их душу, разлитая в них, как свет в хрустале. Мысль в поэтических созданиях – это их пафос, или патос. Что такое пафос? – страстное проникновение и увлечение какою-нибудь идеето. Отсюда происходит и слово «патетический». Что называется «патетическим» в драме? – Энергия раздраженного чувства, которое бурными волнами огненной речи изливается из уст действующего лица. В таких монологах всегда видно трепетное, страстное проникновение действующего лица тою идеею, которая составляет собою невидимую пружину всей его деятельности, всей энергии его воли, готовой на все для достижения своей цели. Вот этот-то пафос и составляет собою базис и фон творений всякого замечательного поэта. Что же составляет пафос повестей Зенеиды Р-вой? Без сомнения, любовь, ибо все ее повести основаны исключительно на одном этом чувстве. Но любовь есть понятие слишком общее, которое у всякого истинного таланта должно принять более или менее индивидуальный оттенок или представляться под особенною точкою зрения. Посему мало сказать, что любовь составляет пафос повестей Зенеиды Р-вой: надо прибавить – любовь женщины. Все повести этой даровитой писательницы проникнуты одним страстным чувством, одною живою идеею, одним могучим созерцанием, не дающим покоя автору и тревожно его наполняющим, созерцанием, которое можно выразить такими словами: как умеют любить женщины и как не умеют любить мужчины.
Итак, основная мысль, источник вдохновения и заветное слово поэзии Зенеиды Р-вой есть апология женщины и протест против мужчины… Обвиним ли мы ее в пристрастии, или признаем ее мысль справедливою?.. Мы думаем, что справедливость ее слишком очевидна и что нам лучше попытаться объяснить причину такого явления, чем доказывать его действительность.
Окинем беглым взглядом содержание всех повестей Зенеиды Р-вой. Первая – «Идеал»[22 - «Библиотека для чтения», 1837, т. XXI.]. Прекрасная, исполненная ума, души и сердца женщина, закабаленная волею родных в позорное рабство продажного брака, обращает всю силу страстного стремления своей любящей натуры на восхитившего ее своими созданиями поэта и потом самым ужасным для себя образом узнает, что этот поэт, этот ее идеал, бессовестно играл ею, завлекая ее мнимою своею взаимностию. Это открытие стоило ей злой горячки и потом полного разочарования в возможности какого бы то ни было счастия на земле; а поэту, идеалу, это ровно ничего не стоило – он остался здоров и счастлив вполне… Вот каковы мужчины в любви! А женщины? – посмотрите, как описывает автор своим цветистым и энергическим языком состояние бедной, разочарованной героини ее повести:
Я видела молодую птичку в весне ее жизни: она в первый раз выпорхнула из теплого гнезда; ей представились небо, красное солнце и мир божий: как радостно забилось ее сердце, как затрепетали крылья! Заранее она обнимает ими пространство; заранее готовится жить и с первым стремлением попадается в руки ловчего, который не оковывает ее цепями, не запирает в клетке, нет, он выкалывает ей глаза, подрезывает крылья, и бедная живет в том же мире, где были ей обещаны свобода и столько радостей; ее греет то же солнце, она дышит тем же воздухом, но рвется, тоскует и, прикованная к холодной земле, может только твердить: не для меня, не для меня! Если б заперли ее в железную клетку, она бы исклевала ее и пробилась на волю или, метаясь, израненная острием железа, без сожаления рассталась бы с остальною половиною жизни, когда лучшая половина у нее отнята. Но она не в клетке; не крепкие стены окружают ее; она свободна, и между тем вечная мгла, вечное бездействие – вот удел моей птички! Вот удел Ольги!
Героиня повести «Утбалла»[23 - «Библиотека для чтения», 1838, т. XXVI.] всем жертвует – даже жизнию, решаясь на страшную смерть от руки диких извергов, чтоб доставить милому минуту упоения любовью… И Утбалла – эта очаровательная калмычка – гибнет жертвою своей великодушной решимости, а ее возлюбленный, тот, кому принесла она в жертву молодую жизнь свою? – Через несколько лет его видели в Петербурге, в чине полковника, гуляющего по Английской набережной под руку с прелестною женщиною… Кто она, эта женщина, – родственница или подруга жизни? «Которому известию верить!.. (говорит автор) кажется, второе достовернее!..»
В повести «Медальон»[24 - Полное название: «Медальон, записки одной больной на теплых водах» («Библиотека для чтения», 1839, т. XXXIV).] представлены две великодушные, любящие женщины против одного негодяя, изверга-мужчины. Одна из них, жертва обольщения коварного светского человека, ослепла от слез, узнав его вероломство; другая, сестра ее, завлекает его тонким кокетством, влюбляет в себя, и, когда он готов на все, даже жениться на ней, отказываясь от выгодной партии, она читает ему, при многочисленном обществе, будто бы сочиненную ею повесть, а в самом деле рассказ о его преступном поступке с ее сестрою, открывает медальон и показывает ему портрет его жертвы, своей слепой сестры… Модный изверг, смущенный и взбешенный, вполне почувствовал ядовитую горечь женского мщения…
В повести «Суд света»[25 - «Библиотека для чтения», 1840, т. XXXVIII.] представлен мужчина, способный к любви на жизнь и на смерть, но все-таки не умеющий любить: недостаток доверенности и дикая, зверская ревность к любимой женщине увлекают его к безумному убийству и губят навсегда предмет его любви. А эта женщина умела любить – и за то погибла жертвою того, кого любила…
«Теофания Аббиаджио» – решительно лучшая из всех повестей Зенеиды Р-вой, есть самая злая сатира на мужчин, самая неумолимая улика им в их тупости и близорукости в деле любви[26 - «Библиотека для чтения», 1841, т. XLIX.]. Александр Долиньи, герой повести, человек с глубоким чувством, с благородною душою, с характером не только возвышенным, но и сосредоточенным, непоколебимо твердым, – и, несмотря на все это, в вопросе о любви он так же ничтожен, так же пошл, как и все вообще мужчины. – И зато в каком колоссальном величии является перед ним Теофания, которую он, в мужской слепоте своей, считал за натуру холодную и неспособную к любви, и которую он променял на светскую кокетку, правда, не лишенную страсти, но пустую и мелочную… Как жалок и смешон этот Долиньи, сконфузившийся от вопроса своего знакомого о висевшем у него на фраке ордене и догадавшийся, из рассказа знакомого, какою глубокою страстью горела к нему Теофания… И как возвышенна эта Теофания в ее молчаливом и гордом страдании, в ее свободном примирении с мыслию о бесплодно погибшей жизни и о разрушенных навеки лучших надеждах ее!..
В «Любиньке»[27 - Повесть опубликована под названием «Любонька». См. примеч. к наст. статье (вводная заметка).] опять мужчина не умеющий понять любимой им женщины, слепой и ограниченный в деле любви, несмотря на все свои достоинства в других отношениях, несмотря на то, что он человек благородный, душа восторженная и любящая… И опять женщина подавляет мужчину своим великодушием, своею безграничною преданностию и светлым самопожертвованием в деле любви…
И вот мы насчитали уже шесть повестей, проникнутых все одною и тою же мыслию. Есть, правда, у Зенеиды Р-вой две повести, в которых мужчины показаны даже очень и очень порядочными людьми. В «Джеллаледине»[28 - «Библиотека для чтения», 1838, т. XXX.] дело представлено даже совсем наоборот. Пламенный, мечтательный, благородный татарский князь делается жертвою своей безумной страсти к пустой, легкой женщине. Сочинительница говорит от себя в конце, что она встретила героиню своей повести уже бабушкою и старою сплетницею, лицемерного моралисткою. Но не доверяйте в этом случае искренности сочинительницы: подле пустой женщины она, в своей картине, искусно поместила интересную фигуру молодой татарки Эмины, которая… но мы лучше напомним о ней читателям словами самого автора. Описавши погребение ошибкою убитого Джеллаледином Белоградова, сочинительница продолжает:
Неподалеку оттуда, у взморья, где между грудами камней растут можжевельник и колючий терн, валялось другое тело, не удостоенное даже погребения… Ужасны были черты покойника, в которых самая смерть не могла восстановить спокойствия; на посинелом лице, в полуоткрытых глазах еще отражались страсти и горе; одежда его была изорвана, грудь обнажена и облита кровью, в широкой ране торчало еще лезвие кинжала, пальцы замерли и окостенели, крепко сжимая рукоять…
Напрасно Эмина молила татар и русских предать тело несчастного земле: магометане видели в нем вероотступника и справедливое мщение пророка; християне отвергали как преступника и самоубийцу… Сердце, истерзанное заживо людьми, осуждено было и по смерти на истерзание хищным птицам. Одна, верная подруга, не покинула его; без слез, без стона она сидела у трупа на камне, сметала сухие листья, падавшие ему на голову, и порой отгоняла ворона, который с криком опускался к своей добыче. Не скоро один старый казак, тронувшись положением молодой девушки, вырыл на том же месте могилу и с молитвой опустил в нее полуистлевшее тело. Девушку отвели в деревню, она убежала; ее заперли, она избилась, порываясь на волю. Татары решили, что ею овладел шайтан, который загрыз их князя, и выпустили ее из деревни. Безумная поселилась у взморья; ни осенние бури, ни зимние метели не могли прогнать ее; днем и ночью она стерегла могилу; иногда кордонные казаки, проезжая мимо, бросали ей хлеб и спешили удалиться… Долго белое покрывало веяло у взморья и пугало суеверных, наконец и оно исчезло. Девушку нашли лежащею ниц на могиле; пальцы ее врылись в землю, даже рот был полон земли: видно, бедняжка, в припадке безумия, хотела отнять у могилы ее достояние – своего незабвенного, вечно милого друга…
И этот Джеллаледин при жизни своей никогда не догадывался и не подозревал, что Эмина любит его со всем пылом восточной страсти, хотя это и не мудрено было бы заметить ему, – и вместо Эмины привязался всею силою глубокого, энергического чувства к пустой, легкомысленной девчонке… Знаете ли что? – нам кажется, что мы, назвав эту повесть исключением из общего направления всех повестей Зенеиды Р-вой, должны взять назад наше слово. Нет, это еще более злая сатира на мужчин, чем все прочие повести…
Вот другое дело повесть – «Номерованная ложа»;[29 - Альманах «Дагерротип», тетрадь седьмая. СПб., 1842, с названием «Ложа в Одесской опере».] ее искренности можно поверить, хотя в ней мужчина представлен очень и очень порядочным человеком в его отношениях к любимой им женщине. Но зато эта повесть, с такою счастливою развязкою, уж чересчур сладенька, а потому и недостойна имени своего автора. Счастливая развязка, как всякая ложь, часто портит повесть…
Содержание семи повестей, так, как оно изложено нами, достаточно знакомит читателя с пафосом поэзии Зенеиды Р-вой. Теперь мы укажем на места, в которых прямо и сознательно выговаривается задушевная мысль сочинительницы.
Вот что говорит она в конце повести «Джеллаледин»:
Отрадна мысль, что наши заботы, тревоги пролетают, как гул в безграничности пустыни, вздымая лишь несколько песчинок, пробуждая только слабый отголосок эха, и оставляют по себе едва заметное потрясение в воздухе, которое, разбегаясь в невидимых кругах, все слабее, чем далее от точки ударения, исчезает, подобно самому звуку, в пространстве.
Но грустно думать, что в этой бедной связке дней, называемых жизнию, так мало мгновений, достойных названия жизни! Грустно видеть, как часто души чистые, возвышенные, прекрасные, сродняются с душами слабыми, мелочными, созданными только для материального прозябания в болотах земных. Опутанная нерасторгаемыми узами своих собственных чувств, сильная не может покинуть своей ничтожной подруги, она порывается с ней к поднебесью, хочет унесть ее в свою родину, отогреть ее лучами любви своей, облить ее своим блаженством… Напрасно! Душа слабая не окрилится, не взлетит из холодных долин в страны заоблачные; порой на миг, восторженная любовью прекрасной подруги своей, она стремится взорам к небесам, но ее пугают и блеск солнца и стрелы молнии; она страшится доли сына Дедалова и, притягивая к себе свою невинную добычу, медленно губит ее или безжалостно разрывает узы, связывающие ее с нею, не помышляя о том, что узы те срослись с жизнью ее подруги, составлены из фибров сердца ее и что, расторгая их насильственной рукой, она убивает ее существование!.. Вот почти обыкновенная доля душ, которых люди называют возвышенными, прекрасными и которым провидение, давая все способности, всю силу постигать, чувствовать и ценить счастие жизни, отказывает только… в самом счастии!..
И роль чистых, возвышенных и прекрасных душ, по мнению сочинительницы, выпала преимущественно на долю женщин, тогда как роль души слабой досталась исключительно мужчинам. Хотите ли доказательства, что так именно думала даровитая Зенеида Р-ва? – Вот ее собственные слова:
Любовались ли вы иногда облаками в час вечерний, когда они стелются на небосклоне, развиваются беспредельною цепью и сквозь сумрак обманывают взор наблюдателя, рисуясь то синими горами, то лесом, то воздушным дворцом феи? И вот они сжимаются, теснятся и образуют одну грозную, черную тучу. Издалека несется глухой рокот; он вырывается из груди ее, будто стон людского предчувствия, и вдруг огненная струя прорезывает мглу, извивается змеем, гаснет, изрыгнув пожар и воду на оробевшую землю. Беспрерывные удары грома потрясают воздух, окрестность вторит его перекатам, дождь льет ручьями, вихрь ломает деревья, люди с трепетом думают, что настал последний день мира. Но проходит час, – гроза умолкла, черная туча рассеялась и не осталось никаких следов мятежа стихий: небо опять чисто и ясно, и земля, как испуганное дитя, улыбается сквозь слезы, которые еще дрожат на ее лице. Еще час, и все возвратится к прежнему спокойствию.
Поэты до сих пор доискиваются тайного, нравственного смысла этого великого представления природы; а я так думаю, что это просто – пародия печали и отчаяния мужчин.
Но есть облако другого рода: оно медленно скопляется из паров сухой, бесплодной почвы; ни один живой источник, ни одно озеро не посылают ему должной доли, и, незаметное, как тень, оно скитается по поднебесью, не имея силы ни жить, ни умереть. С зарей вы видите его на востоке: оно ожидает появления солнца и, кажется, молит светило, чтоб первые лучи истребили его, чтоб огонь полудня растопил несчастную горсть паров. Солнце всходит и гордо совершает свой путь, не замечая бледного облака. В час вечера, когда шар без лучей опускается в морскую пучину, вы видите то же самое облако на западе: оно просится в бездну, жаждет утонуть в ее холодных объятиях. Солнце снова отталкивает его, бросается в лазоревое ложе, а облако, по-прежнему печальное, одинокое, идет скитаться в пустыне поднебесной.
Это облако – печаль и отчаяние женщины.
Тоска женщины не пугает людей бурными порывами: ее никто не видит и не замечает; она западает глубоко в сердце и точит его, как червь точит корень водяной лилии. Если веселие мелькнет случайно на лице страдалицы, ее улыбкой полюбуется равнодушный прохожий, как белоснежными листьями цветка, плавающего на поверхности вод, не думая даже о том, что в корень бедной лилии всосался болотный червь, что в груди ее губительный недуг, что яд струится по всем ее жилам и что этот червь умрет только под гнетом камня могильного.
Мы совершенно согласны с автором насчет превосходства женщин над мужчинами в деле любви; мы принимаем это превосходство за факт, по подлежащий никакому сомнению, и только постараемся, как сумеем, объяснить причину такого явления.
Начнем с того, что женщина более, чем мужчина, создана для любви самою природою. Женщина – представительница земного, производительного и хранительного начала, тогда как мужчина представитель начала умственного, отвлеченного, олимпийского. Отсюда происходит великая разница в семейственном значении женщины и мужчины. Женщина – мать по призванию, по душе и по крови. Мать есть понятие живое, действительное, фактически существующее, тогда как отец есть понятие более или менее условное, более или менее относительное. Мать любит свое дитя сердцем, кровью, нервами, любит его всем существом своим; ее любовь прежде всего физическая, естественная, следовательно, любовь по преимуществу, любовь как любовь. Она носит свое дитя у себя под сердцем, девять месяцев питает и растит его своею кровью, чувствует в себе первые жизненные его движения; оно, это дитя – плоть от плоти ее и кость от костей ее; она рождает его на свет в муках и страданиях и, вместо того чтоб возненавидеть именно за них-то, за эти муки и страдания, еще более любит его. Это маленькое, слабое, крикливое, неопрятное и деспотическое существо с первого дня своего появления на свет делается предметом нежнейших попечений и неусыпных забот своей матери: она любуется его безобразием, как красотою; его красная морщиноватая кожа только манит ее поцелуи; в его бессмысленной улыбке она видит чуть не разумную речь и готова начать с ним говорить; ей не противно наблюдать за чистотою этого маленького животного; ей не тяжело не спать ночи, бодрствуя над его ложем. И она – бедная мать – будет любить его всегда, и прекрасного и безобразного, и умного и глупого, и доброго и злого, и добродетельного и порочного, и славного и неизвестного… Она равно рыдает и над гробом своего дитяти-младенца и над гробом своего сына-старика или своей дочери-старухи. Ангел-хранитель младенчества детей своих, она друг их юности, возмужалости и старости. Нет жертвы, которой бы не принесла она для детей; их счастие – ее счастие; их несчастие – ее несчастие. Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна в сравнении с нею! Любовница, жена любит вас для себя самой, ваша мать любит вас для вас самих. Ее высочайшее счастие видеть вас подле себя, и она посылает вас туда, где, по ее мнению, вам веселее; для вашей пользы, вашего счастия она готова решиться на всегдашнюю разлуку с вами.
Конечно, таких матерей немного на белом свете; но ведь и женщин тоже мало в этом мире, а много в нем самок…
Совсем иначе любит отец своих детей. Во-первых, он любит их только тогда, когда и мать их любима им: во-вторых, он начинает их любить только с тех пор, как они начнут становиться и милы и забавны. Их крика и докуки он не любит. Источник любви отца к детям всегда или эгоизм, или рефлексия, и никогда – природа. «Они мои дети – они на меня похожи – они продолжат мое имя – я прижил их от моей милой – они обнаруживают большие способности – они много обещают в будущем», – думает про себя дражайший родитель, – и он в восторге от мысли, что он любит своих детей, что он не только нежный супруг, но и примерный отец! Правда, и отец может страстно любить детей своих, когда его с ними соединит нравственное, духовное родство; но так же точно может он любить и приемыша, даже еще больше, чем собственных детей.