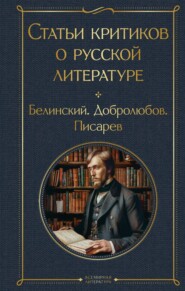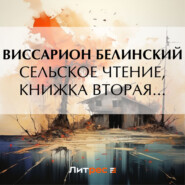По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кузьма Петрович Мирошев. Русская быль времен Екатерины II
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кузьма Петрович Мирошев. Русская быль времен Екатерины II
Виссарион Григорьевич Белинский
«…Вальтер Скотт не изобрел, не выдумал романа, но открыл его, точно так же, как Коломб не изобрел и не выдумал Америки, а только открыл ее. Сервантес задолго до Вальтера Скотта написал истинный исторический роман. Правда, он явно имел сатирическую цель – осмеять запоздалое и противное духу времени рыцарствование в мечтах и дурных романах, – и этой целью великий человек заплатил дань своему веку; но творческий, художественный элемент его духа был так силен, что победил рассудочное направление, и Сервантес, стремясь к нравоисправительной цели, достиг совсем другой цели – именно художественной, а через нее и нравоисправительной…»
Виссарион Григорьевич Белинский
Кузьма Петрович Мирошев. Русская быль времен Екатерины II
Сочинение М. Н. Загоскина. Четыре части. Москва. 1842.
Г-н Загоскин пишет очень мало, но, сравнительно с другими, он у нас самый плодовитый романист. В десять лет с лишком – вот уже шестой роман, да в промежутках повестей с пяток:[1 - Первым романом М. Н. Загоскина был «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829), за ним следовали: «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1830), «Аскольдова могила» (1833), «Искуситель» (1838) и «Тоска по родине» (1839). В 1837 г. вышел сборник повестей Загоскина («Вечер на Хопре», «Три жениха», «Кузьма Рощин»); во втором томе «Ста русских литераторов» (1841) была напечатана повесть «Официальный обед» (см. рецензию на это издание – наст. т., с. 64–93).] по-нашему, по-русски, это много, очень много. Сам г. Булгарин написал всего-навсе только пять романов[2 - После «Ивана Выжигина» (1829) Ф. В. Булгарин написал следующие романы: «Димитрий Самозванец» (1830), «Петр Иванович Выжигин» (1831), «Мазепа» (1834), «Записки титулярного советника Чухина, или Простая история обыкновенной жизни» (1835).] и уж больше – можно поручиться – не напишет ни одного: так ему посчастливилось в этом деле. Важный факт в истории русского романа, потому что в ней г. Булгарин играет гораздо большую и важнейшую роль, нежели как думают и враги и почитатели его несравненного таланта! Так как мы принадлежим к числу последних, то есть почитателей, то и почитаем долгом объяснить значение г. Булгарина в плачевной истории русского романа, – тем более что без этого мы никак не в состоянии сделать настоящей оценки последнему роману г. Загоскина.
Все русские романы можно разделить на два разряда. Первый разряд их начался «Бурсаком» и «Двумя Иванами» Нарежного[3 - Впоследствии, в 1855 г., Н. А. Добролюбов также связывал возникновение романа в России с именем В. Т. Нарежного (см. его статью «О русском историческом романе». – Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 1. М.-Л., «Художественная литература», 1961, с. 97).], а кончился тремя попытками даровитого И. И. Лажечникова – «Последним Новиком», «Ледяным домом» и «Басурманом». Здесь не место сравнивать между собою таланты обоих романистов; довольно сказать, что это таланты яркие, замечательные и что ничего общего, никакой исторической связи между ними нет. Нарежный явился слишком рано, не издавал ни журнала, ни газеты, где бы мог ежедневно хвалить самого себя[4 - Намек на Ф. В. Булгарина.], – и прошел незамеченным, остался без подражателей. Романы Лажечникова были, напротив, оценены публикою по достоинству[5 - Из рецензий на «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого» (1831–1833) см., например: «Московский телеграф», 1833, № 10 (Н. А. Полевой?), «Северная пчела», 1833, № 1315 (О. М. Сомов); о «Ледяном доме» (1835–1838) писал в «Библиотеке для чтения» (1835, т. XII, отд. V) О. И. Сенковский; оценку этого романа Белинским см. в «Литературных мечтаниях» (наст. изд., т. 1, с. 119–120)], без всяких на этот счет стараний с его стороны или со стороны его друзей, издающих газеты и журналы. Романы Лажечникова были фактами эстетического и нравственного образования русского общества и навсегда будут достойны почетного упоминовения в истории русской литературы. К этому же разряду надо причислить и «Юрия Милославского» г. Загоскина; но о нем речь после.
Второй разряд романов ведет свое начало издалека.
У нас образовался особый род романа, который сперва назывался нравоописательным, нравственно-сатирическим, а теперь уж никак не называется, хотя бы и должен был называться моральным. Блистательный талант г. Булгарина был творцом этого рода романов; не менее блистательный талант г. Загоскина был его утвердителем и распространителем. Господа Зотов и Воскресенский принадлежат к числу самых счастливых и даровитых подражателей этих двух сочинителей. Проницательный читатель и без нас угадает имена прочих многочисленных романистов этой категории. Но, сверх морально-сатирического романа, есть еще два разряда романов, которые, впрочем, составляют один разряд с ним. Мы говорим о романе восторженном, патетическом, живописующем растрепанные волосы, всклоченные чувства и кипящие страсти. Основателем этого рода романа был даровитый Марлинский, у которого есть тоже свои счастливые подражатели[6 - О подражаниях Марлинскому см., например, рецензию на повесть Н. Мышицкого «Сицкий, капитан фрегата» – наст. изд., т. 3, с. 448–451.]. Третий род романа – идеально-сентиментальный: его начал г. Полевой своими сладенькими повестями, он же и кончил его в переслащенном романе своем «Аббаддонна»;[7 - Рецензию на 2-е издание «Аббаддонны» см.: наст. изд., т. 3, с. 490–494.] – подражателей у г. Полевого не имеется.
Все эти три рода романа образуют собою один разряд. Рассмотрим его.
До Вальтера Скотта не было истинного романа. Великое творение Сервантеса «Дон Кихот» составляло исключение из общего правила, а знаменитый «Жиль Блаз де Сантилана» француза Лесажа прославлен не в меру и не по достоинству. Это не больше, как довольно недурное произведение, которое, однако, было бы лучше, если б не было так растянуто или если б его сократить наполовину, то есть из восьми частей сделать только четыре. Романы восьмнадцатого века: Радклиф, Дюкре-Дюмениля, Жанлис, Коттен, Шписа, Клаурена и других, – только до Вальтера Скотта могли считаться романами: они изображали не общество, не людей, не действительность, а призраки больного или праздного воображения. Знаменитые английские Памелы, Клариссы, Грандисоны и Ловеласы[8 - Памела – героиня романа С. Ричардсона «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740), Кларисса и Ловлас – герои его романа «Кларисса Гарлоу, или История молодой девушки» (1747–1748), Грандисон – герой его романа «Английские письма, или История сэра Чарльза Грандисона» (1754).] держались ближе общества и действительности; но дидактическая цель убила в них поэзию. Вальтер Скотт первый показал, чем должен быть роман. До него думали, что песня – быль, а сказка – ложь, как говорит русская поговорка, и что поэтому чем больше нелепиц в романе, тем он лучше. Желая придать ему какую-нибудь цену в глазах людей солидных и рассудительных, навязали ему полезную цель – исправлять нравы, осмеивая порок и хваля добродетель. Таким образом, роману было приказано быть органом ходячих моральных истин своего времени. Да, своего времени, ибо ходячая мораль так же изменчива, как и курс голландского червонца: в прошлом веке мораль предписывала бедному и незначительному человеку иметь патрона-благодетеля, низко ему кланяться, почитать за честь быть допущенным к его столу или к его ручке: теперь все это считается унижением человеческого достоинства. Итак, что теперь называется подличаньем, тогда называлось уменьем жить; что теперь называется подлостью, тогда называлось скромностью и смирением: что теперь называется благородством души, тогда называлось гордостью, она же есть смертный грех… Таким образом, сочинители давали человеческие имена и фамилии своим жалким, а нередко и подленьким моральным понятьицам, выдавая свое резонерство за «нравственность», да еще «чистейшую», а свою картофельную сентиментальность – за «любовь». Эти ограниченные понятьица и сладенькие чувствованьица означались нумерами на особых ярлычках, а ярлычки наклеивались на лбах безобразных фигур, грубо вырезанных из картонной бумаги: весьма остроумно придуманное удобство для читателя романа! Благодаря ему читатель уже не мог запутаться во множестве имен и одинаковых фигур, потому что на лбу каждой читал: «добродетельный № 1», «злодей № 2» и т. д. Тогда все были или добродетельные, или злодеи; не было необходимейших и многочисленных членов общества – глупцов и бесцветных характеров, которые ни добры, ни злы, и т. п. Роман всегда оканчивался благополучно, и зевающий читатель оставлял книгу не прежде, как после расправы, то есть брака гонимой четы, награды добрым и наказания злым. Все говорили одинаким языком; о колорите местности, различии сословий никто и не спрашивал.
Мы не без умысла распространились о старинном романе и высказали о нем читателю истины, несколько уже старые и давно всем известные: нам это было нужно для того, чтоб показать, как новейший роман некоторых знаменитых сочинителей далеко ушел от романа доброго старого времени, чем от него разнится и чем на него похож. «Но ведь вы обещали нам разобрать новый роман г. Загоскина, а говорите о романах, которые были за сто и дальше лет до г. Загоскина?» – Я о нем-то и говорю, как увидите ниже.
Вальтер Скотт не изобрел, не выдумал романа, но открыл его, точно так же, как Коломб не изобрел и не выдумал Америки, а только открыл ее. Сервантес задолго до Вальтера Скотта написал истинный исторический роман. Правда, он явно имел сатирическую цель – осмеять запоздалое и противное духу времени рыцарствование в мечтах и дурных романах, – и этой целью великий человек заплатил дань своему веку; но творческий, художественный элемент его духа был так силен, что победил рассудочное направление, и Сервантес, стремясь к нравоисправительной цели, достиг совсем другой цели – именно художественной, а через нее и нравоисправительной. Его Дон Кихот есть не карикатура, а характер, полный истины и чуждый всякого преувеличения, не отвлеченный, но живой и действительный. Идея Дон Кихота не принадлежит времени Сервантеса: она – общечеловеческая, вечная идея, как всякая «идея»: донкихоты были возможны с тех пор, как явились человеческие общества, и будут возможны, пока люди не разбегутся по лесам. Дон Кихот – благородный – и умный человек, который весь, со всем жаром энергической души, предался любимой идее; комическая же сторона в характере Дон Кихота состоит в противоположности его любимой идеи с требованием времени, с тем, что она не может быть осуществлена в действии, приложена к делу. Дон Кихот глубоко понимает требования истинного рыцарства, рассуждает о нем справедливо и поэтически, а действует, в качестве рыцаря, нелепо и глупо; когда же рассуждает о предметах вне рыцарства, то является истинным мудрецом. И вот почему есть что-то грустное и трагическое в судьбе этого комического лица, а его сознание заблуждений своей жизни на смертном одре возбуждает в душе глубокое умиление и невольно наводит вас на созерцание печальной судьбы человечества. Каждый человек есть немножко Дон Кихот; но более всего бывают донкихотами люди с пламенным воображением, любящею душою, благородным сердцем, даже с сильною волею и с умом, но без рассудка и такта действительности. Вот почему в них столько комического, а комическое их так грустно, что возбуждает смех сквозь слезы[9 - По наблюдению Н. И. Мордовченко, «мнение Белинского, что «Дон Кихот» возбуждает «смех сквозь слезы», находит себе соответствие в его же замечательной формуле («смех, растворенный горечью»), которую он дал для определения своеобразия творчества Гоголя» (Н. И. Мордовченко. «Дон Кихот» в оценке Белинского. – В сб.: «Сервантес. Статьи и материалы», Л., Изд-во ЛГУ, 1948, с. 35).], если б это были люди ничтожные, – они не были бы даже и слишком смешны: истинных донкихотов можно найти только между недюжинными людьми. Но главное: они всегда были, есть и будут. Это тип вечный, это единая идея, всегда воплощающаяся в тысяче разных видов и форм, сообразно с духом и характером века, страны, сословия и другими отношениями, необходимыми и случайными. Так и теперь сколько есть донкихотов, например, в одной литературе! Человек, который искренно убежден в том, чему уже никто не верит, и который жертвует трудом, достоянием, спокойствием и здоровьем для убеждения других в своем убеждении, – разве он не Дон Кихот? Сколько умного, истинного в том, что говорит он, а целое все-таки – ложь, возбуждающая уже не негодование, а смех, вызывающая не возражения, а насмешки…
Итак, достоинство Сервантесова романа – в идее: идея сделала его вечным, никогда не умирающим и никогда не стареющимся поэтическим произведением. В идее заключается причина того, что, несмотря на испанские имена, местность, обычаи, частности, – люди всех наций и всех веков читают и будут читать «Дон Кихота». Что же касается до испанского колорита и событий, характеров и лиц – этот колорит свидетельствует, что идея «Дон Кихота» – живая, воплотившаяся и обособившаяся, а не отвлеченно общая и отвлеченная идея.
Вот это-то жизненно органическое слияние общего (идеи) с особным (век, страна, индивидуальные характеры) составляет сущность и достоинство романа Вальтера Скотта. Этот великий поэт был человек, британец и баронет вдобавок: у него были свои личные понятия и понятьица, свои личные чувства и чувствованьица, национальные вражды и ненависти, народные предрассудки, что все, вместе взятое, и сгубило его «Историю Наполеона»[10 - Имеется в виду книга Вальтера Скотта «Жизнь Наполеона Бонапарта» (1827; русский перевод С. де Шаплета – 1831–1832).]. Но он ничего этого не вносил в свою творческую деятельность и, входя в созерцание судеб человечества и человека, откладывал в сторону свою личность и свое баронетство: он хотел только приковать к бумаге видения и образы, возникавшие перед его внутренним оком, а судить, резонерствовать о них предоставлял другим. И хорошо сделал: он вообще не мастер был судить; но в творчестве был великий мастер. Потому-то романы его были зеркалом действительности, в котором она походила сама на себя больше, нежели тогда, когда оставалась бы просто действительностию. В его романах вы видите и злодеев, но понимаете, почему они – злодеи, и иногда интересуетесь их судьбою. Большею же частию в романах его вы встречаете мелких плутов, от которых происходят все беды в романах, как это бывает и в самой жизни. Герои добра и зла очень редки в жизни; настоящие хозяева в ней – люди середины, ни то, ни се. Вальтер Скотт был натуры глубокой, но спокойной и тихой, пользовался отличным здоровьем и не знал нищеты и бедности. Оттого взгляд его на жизнь весел и ясен, а романы, большею частию, оканчиваются счастливо; но, как человек гениальный, а следовательно, и уважавший свято объективную истину изображаемого им мира, он написал несколько романов, которые очень похожи на ужасные трагедии, как, например, «Ламмермурская невеста», «Сен-Ронанские воды», «Айвенго», или «Ivanhoe» (со стороны судьбы Ревекки), «Морской разбойник» (Бренда)…[11 - Имеется в виду роман «Пират» (1822).] Да, романы Вальтера Скотта потому великие произведения искусства, что они не прикрашенное и не рассиропленное, а действительное, хотя и идеальное, изображение жизни, как она есть. Только жалкие писаки подбеливают и подрумянивают жизнь, стараясь скрывать ее темные стороны и выставляя только утешительные. Но романы этих господ-сочинителей похожи на грошовые пряники, которые услаждают вкус одной черни, подонков и осадков человечества. Истина выше всего, и как ни закрывайте глаза от зла – зло от этого не меньше существует-таки. Недавно было в моде нападать на современных французских романистов за исключительно мрачный взгляд их на жизнь; но теперь порядочные люди уже не нападают на них за это, сколько потому, что эти нападки уже старая песня, столько и вследствие умной, хотя и поздней догадки, что никто не может видеть вещи иначе, как они представляются ему, и что кто не любит мрачных картин, тот не смотри на них, а писать их все-таки не мешай. Теперь эти нападки сделались достоянием меньшей литературной братии, – и боже мой! какие тонкие остроты, какие грозные анафемы бросает она на бедную французскую литературу, втайне удивляясь ей и въявь питаясь убогими крохами с ее богатого стола… Смешно и жалко!.. Как великий гений, Вальтер Скотт не мог не иметь сильного влияния на свой век и даже на людей, с которыми у него и у которых с ним не было ничего общего. Все бросились писать исторические романы, не зная истории, будучи чужды всякого исторического созерцания и взгляда на жизнь, и думая, в простоте сердца, что романы великого шотландца оттого так удались, что в них история слита с частным бытом и что им стоит только перелистовать какой-нибудь том истории Карамзина да придумать любовь, разлуку, препятствие и благополучный брак – так и они будут Вальтерами Скоттами – и разбогатеют, и прославятся. Некоторым в самом деле удалось это в карикатуре и в миньятюре. Впрочем, не должно думать, чтоб таковы только были результаты движения, произведенного Вальтером Скоттом: они были бесконечно важны во всех отношениях и для всех литератур, следственно и для нашей. Мы уже упоминали о прекрасных попытках Лажечникова и могли бы сделать еще важнейшие указания, – но это не относится собственно к роману. Любопытно было бы взглянуть, как подействовал Вальтер Скотт на большую, по числу, часть своих подражателей; но это когда-нибудь, – а теперь обратимся к романам г. Загоскина и к другим одной с ними категории.
«Юрий Милославский» был первым историческим романом на русском языке. Исторического в нем было – надо сказать правду – очень мало, если исключить собственные имена, числа и внешние события. Русские люди первой половины XVII века у него очень похожи на мужичков и бородатых торговцев нашего времени. Герой – образ без лица, не человек и не тень: его ни руками схватить, ни глазами увидеть; но что всего забавнее, этому бестелесному существу автор навязал понятия, чувства и деликатность сентиментальных героев прошлого века. Замашка – основать русский роман XVII века на любви, показывает, что автор не вник в быт старой Руси и увлекался подражанием Вальтеру Скотту. Все лица романа – осуществление личных понятий автора; все они чувствуют его чувствами, понимают его умом. Некоторые из этих лиц нравятся в чтении, потому что автор умел придать им какой-то призрак действительности, и это уменье обличало в нем прежнего драматического писателя. Особенно же нравятся эти лица тем достолюбезным добродушием, которое умел придать им автор. Познакомившись с таким лицом на одной странице романа, вы знаете, что он будет говорить и делать на другой, третьей – и так до последней, а все-таки с удовольствием следите за ним. Но герои добра и зла ужасно неудачны: мы говорили уже о самом Милославском, а теперь скажем, что и таинственный незнакомец, открывающийся потом Мининым, не лучше его; боярин Кручина и друг его сбиваются на мелодраматических злодеев… И однако ж роман произвел в публике фурор: он был первая попытка на русский исторический роман; сверх того, в нем много теплоты и добродушия, которые сделали его живым и одушевленным; рассказ легкий, льющийся, увлекательный: ничему не верите, а читаете, словно «Тысячу и одну ночь». Его и теперь можно перелистовать с удовольствием, как, вероятно, вы перелистываете иногда «Робинзона Крузое», который в детстве доставлял вам столько чистейшего и упоительнейшего наслаждения. – За «Юрием Милославским» последовал другой русский исторический роман г. Загоскина – «Рославлев». Он был повторением «Юрия Милославского»: те же лица, те же характеры, те же начала, те же достоинства и недостатки, исключая одной героини, которая сделалась виновата перед судом автора в том, что, как женщина, полюбила мужчину, не спрашивая, какой он нации. И за это автор старался всеми силами выставить ее в самом неблагоприятном свете, а героя тем паче возвеличить; но как сей великий муж был родным братом боярина Юрия Милославского, то роман и пал[12 - 24 августа 1831 г. П. А. Вяземский писал Пушкину: «В Рославлеве нет истины ни в одной мысли, ни в одном чувстве, ни в одном положении…» (Пушкин. Полн. собр. соч., т. XIV. Л., 1941, с. 214).], несмотря на возгласы приятелей. Не будем и мы тревожить его праха. – «Аскольдова могила» была могилою славы автора как исторического романиста; он сам это увидел и утешился тем, что из плохого романа сделал плохое либретто для хорошей оперы[13 - Имеется в виду опера «Аскольдова могила» (1835; музыка А. Н. Верстовского).]. Тогда он обратился к простым, неисторическим романам, в которых талант его явно попал в свою настоящую сферу, хоть и повыбился из сил, напрягая их в чуждой ему сфере, куда приманила его подражательность. Подлинно, справедливо сказано:
Гони природу в дверь – она влетит в окно!..[14 - Начальная строка двустишия А. Лафонтена, которое приводит Н. М. Карамзин в очерке «Чувствительный и холодный (Два характера)» (1803).]
Оставим пока романы г. Загоскина и обратимся к историческому обозрению романической деятельности другого знаменитого таланта: так требует внутренняя связь нашей статьи.
Первым романом г. Булгарина был знаменитый в русской литературе «Иван Выжигин», – это известно всей просвещенной Европе. Сатира и мораль составляют душу этого превосходного произведения; сатира отличается таким желчным остроумием, а мораль – такою убедительностию, что тотчас же по выходе «Ивана Выжигина» в России уже нельзя было увидеть ни одного из пороков и недостатков, осмеянных г. Булгариным. И не удивительно: в сатире ему служил образцом Сумароков, «гонитель злых пороков»…[15 - Цитата из «Эпистолы г. Елагина к г. Сумарокову» (1753; другое название – »Сатира на петиметра и кокеток». В 1842 г. она еще не была опубликована). О скептическом отношении Белинского к А. П. Сумарокову см. рецензии на издание С. Н. Глинки «Очерки жизни и избранные сочинения А. П. Сумарокова» (ч. I–III) – наст. т., с. 457–461; 493–498.] Вторым романом г. Булгарина был «Димитрий Самозванец», который, впрочем, показал, что историческая почва нисколько не родственна таланту г. Булгарина, столь сильному и поэтическому на моральной почве. Роман пал, и только чрезвычайный успех «Выжигина» помог разойтись единственному изданию «Самозванца». В нем были все недостатки «Юрия Милославского», но не было ни тени теплоты и добродушия, составляющих неотъемлемое достоинство произведения г. Загоскина. Впрочем, г. Булгарин умел, с другой стороны, сделать свой исторический роман если не интересным, то заслуживающим неоспориваемое уважение: именно, с моральной стороны, с которой он так замечателен. Вот что сказал о нем Пушкин, прикинувшийся раз Феофилактом Косичкиным: «Что может быть нравственнее сочинений г. Булгарина? Из них мы ясно узнаем: сколь не похвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому подобное. Г-н Булгарин наказует лица разными затейливыми именами: убийца назван у него Ножовым, взяточник – Взяткиным, дурак – Глаздуриным, и проч. Историческая точность одна не дозволила ему назвать Бориса Годунова – Хлопоухиным, Димитрия Самозванца – Каторжниковым, а Марину Мнишек – княжною Шлюхиною; зато и лица сии представлены несколько бледно» (см. «Телескоп» 1831 года, ч. IV)[16 - Цитата из статьи Пушкина «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» (1831).]. Третьим романическим подвигом г. Булгарина был «Петр Иванович Выжигин»[17 - После того, как «Иван Выжигин» был молниеносно раскуплен (при огромном для того времени тираже – 3 или 4 тысячи экземпляров), право на издание «Петра Выжигина» (1831) было куплено И. И. и А. И. Заикиными за цену, в пятнадцать раз превосходившую сумму, в которую обошелся А. Ф. Смирдину первый роман Булгарина. Но «Петр Выжигин» не имел никакого успеха и принес издателям огромный убыток (см.: Т. Гриц, В. Тренин, М. Никитин. Словесность и коммерция (Книжная лавка А. Ф. Смирдина). М., «Федерация», 1929, с. 227–228).] – опять исторический роман, где Наполеон был представлен в контрасте с Петром Ивановичем и где Петр Иванович совершенно заслонил Наполеона, – что и доказало неспособность г. Булгарина живописать исторические личности, особенно такие великие, как Наполеон. Г-н Загоскин в то же время и так же неудачно изображал Наполеона в своем «Рославлеве»: чудное сходство в направлении романической деятельности обоих этих писателей!.. Тогда г. Булгарин с горя от неудачи впал в новую неудачу – написал третий и последний исторический роман свой – «Мазепу». Дружба всеми силами старалась поддержать это произведение, но и сама рушилась под тяжестию такого подвига: читатели, может быть, вспомнят ловкую статью о «Мазепе» в «Библиотеке для чтения»[18 - Рецензия О. И. Сенковского отличалась издевательски-циничным тоном («О Фаддей Венедиктович! Где ты? Бросься скорее в мои объятия! Обними меня в последний раз! …Я тебя люблю и уважаю, но должен… должен пожертвовать тобою, принести тебя первого в жертву литературному правосудию для удостоверения всех и каждого в самостоятельности этого журнала». – «Библиотека для чтения», 1834, т. II, отд. V, с. 14).]. Тогда г. Булгарин написал «Записки Чухина», где снова, и уже навсегда, вошел в родственную его таланту сферу.
Теперь нам остается рассмотреть, что такое моральный роман, то есть как он пишется и к чему он годен. О восторженном роде романов нового сказать нечего; что же до идеально-сентиментальных, то здесь не место и не время распространяться о них; мы предоставляем себе воспользоваться этим удовольствием при появлении первого романа в таком роде или – чего лучше! – при выходе последних двух частей «Аббаддонны» г. Полевого: известно, что первые четыре части были изданы два раза без хвоста[19 - О составе романа «Аббаддонны» см. примеч. 9 к рецензии на 2-е издание этого романа – наст. изд., т. 3, с. 595.], о котором мы имеем понятие по двум большим отрывкам, напечатанным в «Сыне отечества» 1840 года. Итак, приступаем прямо к разбору «Кузьмы Петровича Мирошева», как типического представителя целого рода романов, который должно назвать морально-сатирическим.
Все главы в новом романе г. Загоскина означены разными затейливыми заглавиями, которые вошли в моду в нашей литературе с появления в свет «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»[20 - Повесть Н. В. Гоголя.]. Первая глава «Кузьмы Петровича Мирошева» гласит «О том, где и когда случилось то, о чем рассказывается в этой истинной повести». Начинается она возражением против несправедливо приобретенной рекою Сурою известности в народе (вероятно, народе Пензенской губернии, где она только и известна): автор справедливо замечает, что покрытые сосновыми лесами берега Суры очень мрачны и что Сура течет на север. Вы ожидаете, читатель, встретить на берегу этой несправедливо прославленной (что неопровержимо доказано г. Загоскиным почти на двух страницах) реки город или деревню, где родился герой или где началось действие романа: ничего не бывало! Сура не имеет никакого отношения к роману, точно так же, как и Гангес[21 - Имеется в виду Ганг.] или Нил; на берегу Хопра начался и кончился роман… Вы, может быть, думаете, что автор распространился ни с того ни с сего о Суре только для того, чтоб к его роману, тощему содержанием, прибавилось полторы лишние странички: ошибаетесь, читатель! Нет, это просто подражание русским песням: кто не знает, что почти все наши народные песни начинаются не с того, с чего начинаются, а именно с того, с чего, не начинаются, например:
Уж не лебедь ходит белая
По зеленой травке шелковой,
Ходит красна девица душа
Во кручине, в мыслях горестных, и пр.
Или:
Не былинушка в чистом поле зашаталася,
Зашаталася бесприютная головушка,
Бесприютная головушка молодецкая, и пр.[22 - См.: «Песни русского народа», изданные И. П. Сахаровым, ч. IV. СПб., 1839, с. 12 и 24.].
Продолжаю. Хопру посвящено только несколько строк; затем на тринадцати страницах следует описание деревни, принадлежащей герою романа. Деревня – как все русские деревни – ничего особенного! В число этих тринадцати страниц должно включить легенду об источнике или роднике в деревне Мирошева. Вот уж этого не понимаем: зачем сюда зашла эта легенда, если не для забавы читателей? ибо те добрые люди, которые могли бы прийти от нее в умиление, за безграмотностию, не прочтут романа г. Загоскина. Из второй главы узнаём, «Откуда происходит род Мирошевых и отчего у прадеда Кузьмы Петровича было две тысячи душ, а ему досталось только пятьдесят». Автор начинает род Мирошевых не с яиц Леды[23 - С яиц Леды – с самого начала. (По греческой мифологии, Леда, к которой явился Зевс в образе лебедя, снесла два яйца, из которых вылупились Елена и Полидевк с Кастором.)], а только лет за сто с небольшим до царя Феодора Иоанновича[24 - Царь Федор Иванович правил с 1584 по 1598 г.], и потому надо прочесть по крайней мере три страницы, прежде чем дойдешь до отца героя романа, Кузьмы Петровича. Отец его тянулся из всех сил иметь псарню – не меньше, чем у князя Ромодановского, и протянул тысячу шестьсот душ, а сыну оставил с небольшим четыреста. Петр Кузьмич женился на моднице, которая разорила его в разор и терпеть не могла своего сына (он-то и герой романа) за его кучерское имя, – что и заставило Петра Кузьмича отвезти малолетнего Кузьму Петровича в Петербург и отдать в кадетский корпус. Через пять лет родители Кузьмы Петровича умерли, и ему от четырехсот душ крестьян осталось только триста рублей денег.
Теперь мы будем следовать за романом не по главам, а постараемся рассказать содержание всей книги покороче. У Кузьмы Петровича был дядька, Прохор Кондратьевич, – маленькое и не совсем удачное подражание Савельичу в «Капитанской дочке». Здесь особенно интересно мнение автора о слугах такого рода; представляем его на суд читателей:
Куда девалось это поколение верных слуг боярских? Оно исчезло вместе с патриархальными нравами наших предков. Теперь такая бескорыстная любовь к чужому ребенку может показаться невероятною, а в старину это бывало сплошь. Обыкновенно барское дитя переходило от кормилицы к нянюшке, от няни мальчик поступал под надзор дядьки, и все эти хожатые: кормилица, нянюшка и дядька, сохраняли до самой смерти неизменную привязанность к ребенку, который впоследствии становился их барином. Разумеется, эта любовь была всегда самая слепая и безотчетная; обыкновенно каждая нянюшка и каждый дядька не сомневались, что их дитя и умнее и лучше своих братьев и сестер. Это бы еще ничего: но они также были уверены, что оно не могло быть никогда и ни в чем виноватым. От этого происходили иногда споры, которые не всегда оканчивались миролюбиво: бывало, два братца подерутся между собою, а там – глядишь, и нянюшки таскают друг друга за волосы. (Ч. I, стр. 52)[25 - Здесь и далее курсивы в цитатах принадлежат критику.].
Получив наследство (300 руб.), Мирошев был выпущен из корпуса офицером и заказал себе немцу портному полную форменную экипировку; а Прохор выторговал у немца тридцать рублей из ста, расплакавшись перед ним о бедности барина. Затем Мирошев пошел в прусскую кампанию[26 - Имеются в виду военные операции против Пруссии в течение Семилетней войны (1756–1763).]. По уверению почтенного и даровитого автора, «все товарищи полюбили его за кроткий нрав, примерное добродушие и веселый обычай, который, однако ж, не помешал ему быть самым рассудительным и степенным прапорщиком во всей армии; служивые говорили о нем, как о самом отличном и исправном фрунтовом офицере, а вся молодежь называла его дядюшкой». Лицо, как видите, идеальное, вполне заслуживающее чести быть героем такого прекрасного романа, как «Кузьма Петрович Мирошев». Прохор тоже попал в большую честь за свою услужливость и честность, а главное – за уменье объясняться с немцами. Один русский офицер попросил у немца молока, а тот подал ему колбасу – офицер было и по зубам немца; но позвали Прохора, и тот стал на четвереньки, заревел теленком (?!). Немец догадался – и дело кончилось миролюбиво. В полку был поручик Фурсиков – забияка в мире и трус на войне. Мирошев был свидетелем его трусости (повторение слово в слово истории с князем Блёсткиным в «Рославлеве»). Когда кончилась война и Мирошев воротился с полком в Россию, Фурсиков был эскадронным командиром и так распекал при всяком случае нашего Мирошева, что тот подал в отставку и поехал в Москву искать своих сослуживцев – не помогут ли они найти ему штатское местечко. Имения с ним было – пара крестьянских лошадей, телега да пять целковых в кармане. Жалел о нем более всех гуляка и рубака, добрый малый, Костоломов… Да! я и забыл сказать, что у Мирошева была родная тетка, старая девица, у которой было 50 душ крестьян и с которою мать его, а ее сестра, была во вражде. На дороге к Москве Мирошев разговорился с Прохором о том, о сем, и Прохор, между прочими умными вещами, которые он такой мастер говорить, сказал, что не худо бы Кузьме Петровичу иметь душ тысячи две крестьян. «Э! – отвечал Мирошев, – хорошо было бы, если б хоть вот и этакую деревеньку – вот, что стоит налево-то!» Тут барин и денщик пустились взапуски хвалить деревеньку, – и у Мирошева ни с того, ни с сего загорелось остановиться в ней кормить лошадей, хоть они еще и мало отъехали. Слуга было заспорил, но скоро согласился: ведь против судьбы не пойдешь… Да, судьбы, читатель, судьбы: радостное биение вашего сердца и тонкая проницательность вашего ума давно уже сказали вам, к чему ведут все эти подробности… Путешественники остановились в крайней избе у старосты Парфена. Прохор предлагает барину обед, но барин хочет гулять. Оно так и должно: все истинные герои романов любят гулять и мечтать, хоть бы они родились и жили в такое время, когда попусту шататься не любили и всякому гулянью предпочитали – поплотнее набивши желудок, хорошенько всхрапнуть. Но Мирошев был из грамотных я, вероятно, уже прочел «Приключения Никанора, несчастного дворянина»: – похождения знаменитого «Георга, милорда английского»[27 - Имеется в виду герой «Недоросля» (1787).] тогда едва ли еще были изданы. Вот Мирошев и спрашивает у одного мужичка, можно ли погулять в роще. – Сколько душе угодно, не то что в роще, да и в саду. – Стало быть, господ нет дома? – Была барыня, да и та умерла. – (Понимаете?..) Так и дом посмотреть можно? – Вестимо. – Пока ключница пошла за ключами, Мирошев глядь в дверь одной комнаты, да и остолбенел… Там – видите – сидела, облокотись на стол и читая книжку, прелестная молодая девица с печальным лицом. Описание ее красоты пропускаем: оно превосходно, но несколько сбивается на общий тон чувствительных романов. Вдруг у девицы выступили на глазах слезы, а у Мирошева облилось сердце кровью. «Боже мой! – подумал он: – и это небесное создание, этот ангел несчастлив!» Краснея, он расспросил ключницу потом об этой девице и узнал, что она – «дочь бедных, но благородных родителей», сирота, призренная покойною владетельницею деревеньки. Яркими красками описала Мирошеву ключница Федосья добродетели сей девицы, и как она, Федосья, видела во сне свою умершую дочь и прочее, все такое… Гуляя, Мирошев расплакался, – из сего ясно видно, что он «полюбил сильно, глубоко и вечно, а не тою чувственною любовью, что вспыхнет да пройдет». Наплакавшись и нагулявшись, он воротился в деревню – глядь, в ней движение: мужики и бабы в праздничных платьях, и лишь только кто увидит его, бух ему в ноги… – Что такое? – спрашивает изумленный Мирошев. – Так-с, ничего-с! – отвечает ему таинственным голосом Прохор. Короче, читатель: помещица села Хопровки, недавно умершая, была вышереченная тетка Мирошева, и Кузьме Петровичу недаром захотелось кормить лошадей в этой деревеньке… Впрочем, вы давно уже ожидали такого чуда. Но вот беда: тетенька-то хотела отказать имение своей питомице; Кузьма Петрович даже нашел написанную вчерне духовную, которую не успели перебелить за смертию помещицы. Как истинный герой романа, чувствительный и великодушный, он почитает себя не в праве воспользоваться наследством, не ему отказанным, и, к величайшему огорчению Прохора, отдает деревню Марье Дмитриевне, которая жила в людской, в семействе добродетельного лакея Лаврентия, – а сам хочет уехать в Москву. Героиня наша и не прочь было, да как узнала от Прохора, что у его барина-то имения всего-навсе, и с лошадьми, рублей на 50, – то и не хотела уступить герою в великодушии и печатным, то есть книжным слогом плохих романов второй четверти текущего столетия, начисто отперлась от деревни: иду-де, говорит, в монастырь. Затем следует в высшей степени патетическая сцена: Мирошев, собравшись с духом, предлагает ей владеть деревнею вместе, а то – говорит – и уеду на край света, и сойду с ума, и умру с тоски. Все это очень хорошо, весьма трогательно, только во всем этом не видно нисколько людей того времени, а следовательно, и никаких людей. Но перед венцом оба они явились вдруг людьми того времени: не говоря уже о невесте, сам жених страшно затосковал о том, что их некому проводить к венцу, и не будь Федосьи и Прохора, я думаю, что брак не состоялся бы, а роман кончился бы вовремя… Из церкви Мирошев, по предложению новобрачной, пошел на могилу тетки: там Марья Дмитриевна посадила куст розанов, который сначала было начал расти, а потом завял, листья облетели. Приходят, и – о, диво дивное и чудо чудное! – куст разросся, раззеленелся, расцвел… «О матушка, матушка!» – вскричала Марья Дмитриевна, упав на могилу своей благодетельницы, – я понимаю тебя: ты благословляешь дитя свое, ты радуешься его счастью!» После этого трогательного воззвания по такому чувствительному поводу молодые упали на колени на могиле. Заметив эффект, произведенный над мужем своею речью, Марья Дмитриевна проговорила другую – еще лучше, обняв своего нежного супруга: «О мой друг! теперь нет сомненья, мы будем счастливы! Она благословляет наш союз. Вчера этот куст походил на мертвый труп, а сегодня… Посмотри, как пышны эти розаны, как свежа эта зелень! Видишь ли, как блестят на листочках эти алмазные капли росы?.. О нет, нет! Это не роса: это радостные слезы моей второй матери!»… Милое, доброе создание эта Марья Дмитриевна: и говорит, как пишет или словно по печатному читает; во всяком случае, говорит, как не говорят и теперь и как еще менее могли говорить в те времена, когда, вследствие родительской предосторожности насчет нравственности дочерей, девушек не учили ни читать, ни писать… Зачем же она так говорит, как нигде не говорят, кроме плохих романов? Затем, милостивые государи, чтоб пленить воображение, тронуть сердце и убедить ум читателя, как это предписывается в любой реторике…
Вы думаете, что тут и всё? что наши герои зажили бы благополучно – и роману конец?.. Как бы не так! Это еще только первая часть, только вступление, за которым следуют три части; это только присказка, а сказка-то впереди… Доскажем же ее как-нибудь.
Между первою и второю частью проходит 18 лет. Марья Дмитриевна уже превратилась в барыню толстую, плотную и румяную – простонародный идеал русской красоты! (Замечательно, что у г. Загоскина в этом романе действующие лица большею частию плотные, толстые, а мужчины почти все лысые…). Она уже объясняется просто, иногда даже чересчур просто, как все русские помещицы того времени, то есть 1780 года. Кузьма Петрович мало переменился, да и не от чего: ведь он это время только ел, пил да спал; человек он был добрый – мухи не обидит, на слугу не осердится; итак, не удивительно, что он только постарел немного. У них есть дочь, Варенька, – вот уж милочка-то: глаза голубые (счетом два), носик… ну, да вы и так ее знаете наизусть. Автор очень жалеет, что принужден был сравнить ее стан с аравийскою пальмою, а не с русскою сосною, – и мы вполне разделяем его горе.
Пылкое сердце и какая-то наклонность к мечтательности составляли отличительную черту се характера: в этом она вовсе не похожа на своих родителей, которые по давали волю (и) своему воображению (и не мудрено: у них его вовсе не было!), не залетали в туманную даль, а жили попросту, как бог велел, – и верно в наш романтический век показались бы людьми весьма обыкновенными, прозаическими и даже пошлыми (вот что правда, то правда!). Бедняжки! они не знали, что разгульная и буйная жизнь имеет свою поэзию (но неужели же животной жизни противополагается только разгульная и буйная: есть еще разумно человеческая, которая выше той и другой); что жизнь спокойная, не волнуемая страстями, вовсе не жизнь, а прозябание; что мы хотя живем на севере, а должны смотреть на запад и так же, как там, думать об одном только земном просвещении, то есть: что мы можем забыть о земной нашей родине; но зато должны перед наукою благоговеть, как перед святынею, и художеству поклоняться, как божеству.
А! вот что! понимаем… Но возьмите немного терпения – то ли еще поймете: для того-то мы и пересказываем вам содержание этого романа. Недалеко от Мирошевых деревня Кирсанова, богатого помещика, у которого есть сын. Разумеется, он влюбился в нее, а она начала «обожать» его. К Мирошевым ездят соседи: Вертлюгины, муж – дурак, а жена – кокетка, модница, сплетница и все, что угодно: автор изобразил ее со всею едкостию своей неподражаемой иронии; потом, бедный помещик Зарубкин, сплетник, пьяница, побироха и шут. Мы и не упомянули бы о нем, да с ним был анекдот, который верно характеризует то прекрасное время, когда люди «перед наукою не благоговели, как перед святынею, и художеству не поклонялись, как божеству». Послушайте рассказ самого Зарубкина о том, что сделал с ним Афонька, шут Кирсанова:
Да, сударь! привязался ко мне, проклятый! Научили что ль его – не знаю. Начал такие непригожие речи говорить, всячески меня порочить; я сначала все в шутку поворачивал, да он уж больно стал нахальничать: натянул палец, да и щелк меня по носу; я его отпихнул – а он и ну драться. А Иван Никифорович, чем бы дурака-то унять, кричит: «Не поддавайся, Афонька!» – а тот и пуще! Гляжу, ахти! дурак-то уж и до рожи добирается!.. Я и руками и ногами, кричу: «батюшки, бьет! батюшки, бьет», а его высокородие так и умирает со смеху. Да уж сынок-то его, Владимир Иванович, дай бог ему здоровье, такой добрый! схватил Афоньку за ворот и оттащил прочь; а все этот шальной раза два съездил меня по уху. Что будешь делать! (Часть II, стр. 20–21).
Да, можно поверить, что Зарубкин «не благоговел перед наукою, как перед святынею, и художеству не поклонялся, как божеству»: такое самоунижение и животное незнание своего человеческого достоинства никогда не соединяется с благородною любовию к науке и возвышенною страстью к искусству. И что идет к Зарубкину, то же можно сказать и о веке «Зарубкиных».
В соседстве деревни Мирошевых было имение одного богача-графа, который, поручив его управлению холопа своего, Курочкина, не хотел и знать о нем: в нем было всего только 400 душ! Курочкин этот был знаменитый, в духе того времени, законоведец: чуть кто ему не понравится – тяжбу, да и оттягает, именем графа, сколько захочет десятин земли или лесу. У Курочкина был сын – офицер… Я и забыл сказать, что в семействе Мирошевых есть девушка Дуняша – род подруги и горничной Вареньки, дочь того Лаврентия, что некогда призрел было Марью Дмитриевну. Курочкин начал намекать Мирошеву о сватовстве, а тот, думая, что дело идет о Дуняше, и радехонек; но когда недоразумение разрешилось – в Мирошеве проснулась дворянская гордость. Прохор чуть не избил сваху; Марья Дмитриевна – та, что говорила по печатному на могиле, – не уступила в ревности Прохору: насилу отстоял от них Мирошев бедную сваху. Впрочем, этой свахе досталось и от автора: он такое принял горячее участие в оскорблении Мирошева, что изобразил ее хуже черта и так смешно, что если б прочел Прохор, то сказал бы: «Батюшки-светы, животики надорвешь – умора да и только…» Так же саркастически изображен и сын Курочкина: сам Митрофан Фонвизина[28 - Имеется в виду герой «Недоросля» (1787).] – умница перед ним. Оно так и надо; чем солоней севрюжина, тем вкуснее для известного разряда гастрономов… Между тем наши голубки вздыхают, воркуют, и раз так разворковались, что и кольцами поменялись. Владимир Иванович Кирсанов – второе издание Кузьмы Петровича, только с корректурными поправками в правописании: он наделен всеми возможными добродетелями и не имеет только лица и характера, но похож на вырезанную из картузной бумаги фигурку, у которой из-под головы тотчас же начинаются ноги и на лбу ярлычок с нумером. «Я, – говорит он, – против воли отца на тебе не женюсь, а любить буду до гроба и умру твоим суженым».
О! какое неизъяснимое блаженство изобразилось в глазах Вареньки!
– Моим суженым! – повторила она. – Да чего еще я могу просить у бога? Ты станешь вечно любить меня – да! вечно!.. Здесь ты будешь женихом моим, а там – господь назовет нас супругами! Он услышит мою молитву: твоя невеста умрет прежде тебя… О! как она будет тебя дожидаться!.. Владимир! – продолжала Варенька, снимая с пальца золотое колечко, – может быть, в церкви божией нам не удастся никогда обменяться кольцами; надень его и дай мне свое. Если ты сам не снимешь его с моего пальца, то, будь уверен, я лягу с ним в могилу…
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Теперь мы с тобой обручены! – сказал Владимир, глядя с неизъяснимою любовью на Вареньку. – О, мой ангел невинности и доброты! – продолжал он, целуя ее руку, – какая женщина в мире может равняться с тобою?.. О, поверь, мой друг! если б любовь моя не была так же чиста, как эти ясные небеса… еще чище – как душа твоя! я не смел бы тогда прикоснуться к тебе, не смел бы взять тебя за руку!.. Как я люблю тебя здесь, так можно будет мне любить тебя и там, где нет ничего земного. Ты правду сказала, Варенька: если не в здешнем, так в будущем мире господь благословит наш союз. (Ч. II, стр. 240–241).
Каково? – Попробуйте найти такую сцену любви у Шекспира, Байрона, Вальтера Скотта, Купера, Шиллера, Гете, Руссо, Пушкина: уверяю вас, что не найдете, лучше и не трудитесь, не ищите напрасно… Вот перо, так перо!.. Господи, подумаешь, какие есть сочинители на свете: начнешь читать – так невольно и плачешь и смеешься, смеешься и плачешь…
Эта трогательная сцена любви была подслушана Вертлюгиною, которая нагло навязывалась на Кирсанова и ревновала его к Вареньке. Вследствие этого старик Кирсанов увез своего сына в Воронеж, чтоб насильно женить его там на дочери своего богатого приятеля; от этого Варенька, на 94 странице III части, упала в обморок и с той же минуты, как истинная героиня романа, сделалась больна; а Курочкин между тем затеял дело, вследствие которого Мирошев увидел себя в необходимости ехать в Москву. Варенька исхудала – узнать нельзя; к большему несчастию, ее чуть не залечил немец-лекарь. Игнатьевна (которую мы доселе знали под именем Федосьи) ворожит и колдует, несмотря на свою набожность.
Несмотря на это грубое невежество, на эту странную смесь веры с суеверием, в старину едва ли уж не тверже верили и уж, конечно, лучше нашего умели любить.
И спору нет: в романе г. Загоскина столько представлено неоспоримых доказательств этой истины, что невольно жалеешь о своем отчаянном безверии в гадания, нашептывания, вспрыскиванья и о своей решительной неспособности объясняться в любви на манер Мирошевых и Кирсановых…
Дуняша давно уже играет не последнюю роль в романе, а ее грудь все еще высоко взметывается беспредметною любовию, говоря слогом. Но не беспокойтесь: такая достойная девица не останется без «предмета»: автор неусыпно бдит за героями и героинями своего романа; он любит пары, и, когда понадобится, у него голубок как с неба свалится. На святках Дуняша пошла ворожить в баню, которая стояла в поле за околицею. Вдруг звон колокольчика – оглянулась: за ней косматое чудовище – ах!.. и в обморок. Очнувшись, увидела она не чудовище, а его… Он сбился с дороги (в тот вечер была страшная метель) и пришел на огонек… Оказалось, что это русский лекарь из Воронежа. Он вмиг вылечил Вареньку, сказав ей, наедине, разумеется, что Владимир верен, а в вящее доказательство вручил ей и письмо. Словно рукой сняло болезнь – отец и мать в восторге: они уверены, что лекарство подействовало. Уезжая, «лекарь поглядел на Дуняшу так чудно, что она вся вспыхнула». Понимаете?.. Вот вам и еще пара голубков. Они же и ровня: лекарь тоже сын крепостного человека… Надо сознаться, что под чудотворным пером г. Загоскина все так хорошо улаживается, что лучше желать нельзя. Он повертывает законами действительности подобно тому герою русской сказки, который только скажет: «по моему прошению, по щучьему велению» – и как тут было…
Мирошев отправился с Прохором в Москву и на дороге (очень кстати) встретился с Костоломовым, который тоже едет в Москву искать себе места городничего в каком-нибудь городишке. Он видите – любил несчастно и, по великодушию, решился подарить отцу своей возлюбленной любимого полвопегого борзого кобеля, Буяна, чтоб тот согласился отдать свою дочь за того, кого она любила (ч. III, стр. 263–276). В Москве приятели остановились на подворье и тотчас же были свидетелями, как сыщик Ванька Каин[29 - Прозвище «Ванька Каин» носил грабитель Иван Осипов, который с 1741 г. стал сыщиком, но продолжал бесчинствовать вплоть до ареста в 1749 г.] поймал разбойника, обманув его прежней приязнью. Хлопоты Мирошева о деле кончились тем, что подьячий Тетерькин, которому он, по простоте своей, несмотря на все предостережения Прохора, вверился, – разорил его вконец. Нашелся идеально честный человек, который взял на себя труд объяснить простаку, что его стряпчий сидит в тюрьме, откуда пойдет на каторгу, а его дело едва ли когда кончится. Домой! Но не на чем; есть тоже нечего. Одна надежда на Костоломова, а тот сам идет к Мирошеву попросить взаймы. Узнав о положении приятеля, Костоломов тащит его обедать к какому-то графу.
У некоторых из вельмож, живших в Москве на покое, почти ежедневно были так называемые открытые столы. Каждый опрятно одетый человек, хотя бы он был вовсе незнаком хозяину, мог смело приходить обедать за этот стол; его не спрашивали, кто он такой. Дождавшись в столовой хозяина и отвесив ему низкий поклон, он садился за общую трапезу и кушал на здоровье во славу божию и в честь русского гостеприимного хозяина, которому и кушанье показалось бы невкусным, если б за его столом сидело менее ста человек гостей. Этот обычай известен нам по одному преданию. Мы не дошли еще до просвещенной расчетливости наших западных соседей, у которых отделенный сын не придет незваный обедать к отцу; но, несмотря на это, с трудом уже верим, что русское хлебосольство могло когда-нибудь существовать в таком обширном размере, и вот почему я нашел необходимым предварить своих читателей, что этот обычай действительно существовал на Руси и что были у нас такие бояре, которые находили удовольствие угощать одним и тем же столом и бедных и богатых, и друзей и незнакомых; одним словом, делиться со всеми богатством, которым наградил их господь, – и проживать свои доходы дома, а не копить деньги для того, чтоб проматывать их на чужой стороне, ради приобретения себе европейского имени. (Ч. IV, стр. 122–123).
Теперь мы понимаем, в чем дело…
Виссарион Григорьевич Белинский
«…Вальтер Скотт не изобрел, не выдумал романа, но открыл его, точно так же, как Коломб не изобрел и не выдумал Америки, а только открыл ее. Сервантес задолго до Вальтера Скотта написал истинный исторический роман. Правда, он явно имел сатирическую цель – осмеять запоздалое и противное духу времени рыцарствование в мечтах и дурных романах, – и этой целью великий человек заплатил дань своему веку; но творческий, художественный элемент его духа был так силен, что победил рассудочное направление, и Сервантес, стремясь к нравоисправительной цели, достиг совсем другой цели – именно художественной, а через нее и нравоисправительной…»
Виссарион Григорьевич Белинский
Кузьма Петрович Мирошев. Русская быль времен Екатерины II
Сочинение М. Н. Загоскина. Четыре части. Москва. 1842.
Г-н Загоскин пишет очень мало, но, сравнительно с другими, он у нас самый плодовитый романист. В десять лет с лишком – вот уже шестой роман, да в промежутках повестей с пяток:[1 - Первым романом М. Н. Загоскина был «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829), за ним следовали: «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1830), «Аскольдова могила» (1833), «Искуситель» (1838) и «Тоска по родине» (1839). В 1837 г. вышел сборник повестей Загоскина («Вечер на Хопре», «Три жениха», «Кузьма Рощин»); во втором томе «Ста русских литераторов» (1841) была напечатана повесть «Официальный обед» (см. рецензию на это издание – наст. т., с. 64–93).] по-нашему, по-русски, это много, очень много. Сам г. Булгарин написал всего-навсе только пять романов[2 - После «Ивана Выжигина» (1829) Ф. В. Булгарин написал следующие романы: «Димитрий Самозванец» (1830), «Петр Иванович Выжигин» (1831), «Мазепа» (1834), «Записки титулярного советника Чухина, или Простая история обыкновенной жизни» (1835).] и уж больше – можно поручиться – не напишет ни одного: так ему посчастливилось в этом деле. Важный факт в истории русского романа, потому что в ней г. Булгарин играет гораздо большую и важнейшую роль, нежели как думают и враги и почитатели его несравненного таланта! Так как мы принадлежим к числу последних, то есть почитателей, то и почитаем долгом объяснить значение г. Булгарина в плачевной истории русского романа, – тем более что без этого мы никак не в состоянии сделать настоящей оценки последнему роману г. Загоскина.
Все русские романы можно разделить на два разряда. Первый разряд их начался «Бурсаком» и «Двумя Иванами» Нарежного[3 - Впоследствии, в 1855 г., Н. А. Добролюбов также связывал возникновение романа в России с именем В. Т. Нарежного (см. его статью «О русском историческом романе». – Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 1. М.-Л., «Художественная литература», 1961, с. 97).], а кончился тремя попытками даровитого И. И. Лажечникова – «Последним Новиком», «Ледяным домом» и «Басурманом». Здесь не место сравнивать между собою таланты обоих романистов; довольно сказать, что это таланты яркие, замечательные и что ничего общего, никакой исторической связи между ними нет. Нарежный явился слишком рано, не издавал ни журнала, ни газеты, где бы мог ежедневно хвалить самого себя[4 - Намек на Ф. В. Булгарина.], – и прошел незамеченным, остался без подражателей. Романы Лажечникова были, напротив, оценены публикою по достоинству[5 - Из рецензий на «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого» (1831–1833) см., например: «Московский телеграф», 1833, № 10 (Н. А. Полевой?), «Северная пчела», 1833, № 1315 (О. М. Сомов); о «Ледяном доме» (1835–1838) писал в «Библиотеке для чтения» (1835, т. XII, отд. V) О. И. Сенковский; оценку этого романа Белинским см. в «Литературных мечтаниях» (наст. изд., т. 1, с. 119–120)], без всяких на этот счет стараний с его стороны или со стороны его друзей, издающих газеты и журналы. Романы Лажечникова были фактами эстетического и нравственного образования русского общества и навсегда будут достойны почетного упоминовения в истории русской литературы. К этому же разряду надо причислить и «Юрия Милославского» г. Загоскина; но о нем речь после.
Второй разряд романов ведет свое начало издалека.
У нас образовался особый род романа, который сперва назывался нравоописательным, нравственно-сатирическим, а теперь уж никак не называется, хотя бы и должен был называться моральным. Блистательный талант г. Булгарина был творцом этого рода романов; не менее блистательный талант г. Загоскина был его утвердителем и распространителем. Господа Зотов и Воскресенский принадлежат к числу самых счастливых и даровитых подражателей этих двух сочинителей. Проницательный читатель и без нас угадает имена прочих многочисленных романистов этой категории. Но, сверх морально-сатирического романа, есть еще два разряда романов, которые, впрочем, составляют один разряд с ним. Мы говорим о романе восторженном, патетическом, живописующем растрепанные волосы, всклоченные чувства и кипящие страсти. Основателем этого рода романа был даровитый Марлинский, у которого есть тоже свои счастливые подражатели[6 - О подражаниях Марлинскому см., например, рецензию на повесть Н. Мышицкого «Сицкий, капитан фрегата» – наст. изд., т. 3, с. 448–451.]. Третий род романа – идеально-сентиментальный: его начал г. Полевой своими сладенькими повестями, он же и кончил его в переслащенном романе своем «Аббаддонна»;[7 - Рецензию на 2-е издание «Аббаддонны» см.: наст. изд., т. 3, с. 490–494.] – подражателей у г. Полевого не имеется.
Все эти три рода романа образуют собою один разряд. Рассмотрим его.
До Вальтера Скотта не было истинного романа. Великое творение Сервантеса «Дон Кихот» составляло исключение из общего правила, а знаменитый «Жиль Блаз де Сантилана» француза Лесажа прославлен не в меру и не по достоинству. Это не больше, как довольно недурное произведение, которое, однако, было бы лучше, если б не было так растянуто или если б его сократить наполовину, то есть из восьми частей сделать только четыре. Романы восьмнадцатого века: Радклиф, Дюкре-Дюмениля, Жанлис, Коттен, Шписа, Клаурена и других, – только до Вальтера Скотта могли считаться романами: они изображали не общество, не людей, не действительность, а призраки больного или праздного воображения. Знаменитые английские Памелы, Клариссы, Грандисоны и Ловеласы[8 - Памела – героиня романа С. Ричардсона «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740), Кларисса и Ловлас – герои его романа «Кларисса Гарлоу, или История молодой девушки» (1747–1748), Грандисон – герой его романа «Английские письма, или История сэра Чарльза Грандисона» (1754).] держались ближе общества и действительности; но дидактическая цель убила в них поэзию. Вальтер Скотт первый показал, чем должен быть роман. До него думали, что песня – быль, а сказка – ложь, как говорит русская поговорка, и что поэтому чем больше нелепиц в романе, тем он лучше. Желая придать ему какую-нибудь цену в глазах людей солидных и рассудительных, навязали ему полезную цель – исправлять нравы, осмеивая порок и хваля добродетель. Таким образом, роману было приказано быть органом ходячих моральных истин своего времени. Да, своего времени, ибо ходячая мораль так же изменчива, как и курс голландского червонца: в прошлом веке мораль предписывала бедному и незначительному человеку иметь патрона-благодетеля, низко ему кланяться, почитать за честь быть допущенным к его столу или к его ручке: теперь все это считается унижением человеческого достоинства. Итак, что теперь называется подличаньем, тогда называлось уменьем жить; что теперь называется подлостью, тогда называлось скромностью и смирением: что теперь называется благородством души, тогда называлось гордостью, она же есть смертный грех… Таким образом, сочинители давали человеческие имена и фамилии своим жалким, а нередко и подленьким моральным понятьицам, выдавая свое резонерство за «нравственность», да еще «чистейшую», а свою картофельную сентиментальность – за «любовь». Эти ограниченные понятьица и сладенькие чувствованьица означались нумерами на особых ярлычках, а ярлычки наклеивались на лбах безобразных фигур, грубо вырезанных из картонной бумаги: весьма остроумно придуманное удобство для читателя романа! Благодаря ему читатель уже не мог запутаться во множестве имен и одинаковых фигур, потому что на лбу каждой читал: «добродетельный № 1», «злодей № 2» и т. д. Тогда все были или добродетельные, или злодеи; не было необходимейших и многочисленных членов общества – глупцов и бесцветных характеров, которые ни добры, ни злы, и т. п. Роман всегда оканчивался благополучно, и зевающий читатель оставлял книгу не прежде, как после расправы, то есть брака гонимой четы, награды добрым и наказания злым. Все говорили одинаким языком; о колорите местности, различии сословий никто и не спрашивал.
Мы не без умысла распространились о старинном романе и высказали о нем читателю истины, несколько уже старые и давно всем известные: нам это было нужно для того, чтоб показать, как новейший роман некоторых знаменитых сочинителей далеко ушел от романа доброго старого времени, чем от него разнится и чем на него похож. «Но ведь вы обещали нам разобрать новый роман г. Загоскина, а говорите о романах, которые были за сто и дальше лет до г. Загоскина?» – Я о нем-то и говорю, как увидите ниже.
Вальтер Скотт не изобрел, не выдумал романа, но открыл его, точно так же, как Коломб не изобрел и не выдумал Америки, а только открыл ее. Сервантес задолго до Вальтера Скотта написал истинный исторический роман. Правда, он явно имел сатирическую цель – осмеять запоздалое и противное духу времени рыцарствование в мечтах и дурных романах, – и этой целью великий человек заплатил дань своему веку; но творческий, художественный элемент его духа был так силен, что победил рассудочное направление, и Сервантес, стремясь к нравоисправительной цели, достиг совсем другой цели – именно художественной, а через нее и нравоисправительной. Его Дон Кихот есть не карикатура, а характер, полный истины и чуждый всякого преувеличения, не отвлеченный, но живой и действительный. Идея Дон Кихота не принадлежит времени Сервантеса: она – общечеловеческая, вечная идея, как всякая «идея»: донкихоты были возможны с тех пор, как явились человеческие общества, и будут возможны, пока люди не разбегутся по лесам. Дон Кихот – благородный – и умный человек, который весь, со всем жаром энергической души, предался любимой идее; комическая же сторона в характере Дон Кихота состоит в противоположности его любимой идеи с требованием времени, с тем, что она не может быть осуществлена в действии, приложена к делу. Дон Кихот глубоко понимает требования истинного рыцарства, рассуждает о нем справедливо и поэтически, а действует, в качестве рыцаря, нелепо и глупо; когда же рассуждает о предметах вне рыцарства, то является истинным мудрецом. И вот почему есть что-то грустное и трагическое в судьбе этого комического лица, а его сознание заблуждений своей жизни на смертном одре возбуждает в душе глубокое умиление и невольно наводит вас на созерцание печальной судьбы человечества. Каждый человек есть немножко Дон Кихот; но более всего бывают донкихотами люди с пламенным воображением, любящею душою, благородным сердцем, даже с сильною волею и с умом, но без рассудка и такта действительности. Вот почему в них столько комического, а комическое их так грустно, что возбуждает смех сквозь слезы[9 - По наблюдению Н. И. Мордовченко, «мнение Белинского, что «Дон Кихот» возбуждает «смех сквозь слезы», находит себе соответствие в его же замечательной формуле («смех, растворенный горечью»), которую он дал для определения своеобразия творчества Гоголя» (Н. И. Мордовченко. «Дон Кихот» в оценке Белинского. – В сб.: «Сервантес. Статьи и материалы», Л., Изд-во ЛГУ, 1948, с. 35).], если б это были люди ничтожные, – они не были бы даже и слишком смешны: истинных донкихотов можно найти только между недюжинными людьми. Но главное: они всегда были, есть и будут. Это тип вечный, это единая идея, всегда воплощающаяся в тысяче разных видов и форм, сообразно с духом и характером века, страны, сословия и другими отношениями, необходимыми и случайными. Так и теперь сколько есть донкихотов, например, в одной литературе! Человек, который искренно убежден в том, чему уже никто не верит, и который жертвует трудом, достоянием, спокойствием и здоровьем для убеждения других в своем убеждении, – разве он не Дон Кихот? Сколько умного, истинного в том, что говорит он, а целое все-таки – ложь, возбуждающая уже не негодование, а смех, вызывающая не возражения, а насмешки…
Итак, достоинство Сервантесова романа – в идее: идея сделала его вечным, никогда не умирающим и никогда не стареющимся поэтическим произведением. В идее заключается причина того, что, несмотря на испанские имена, местность, обычаи, частности, – люди всех наций и всех веков читают и будут читать «Дон Кихота». Что же касается до испанского колорита и событий, характеров и лиц – этот колорит свидетельствует, что идея «Дон Кихота» – живая, воплотившаяся и обособившаяся, а не отвлеченно общая и отвлеченная идея.
Вот это-то жизненно органическое слияние общего (идеи) с особным (век, страна, индивидуальные характеры) составляет сущность и достоинство романа Вальтера Скотта. Этот великий поэт был человек, британец и баронет вдобавок: у него были свои личные понятия и понятьица, свои личные чувства и чувствованьица, национальные вражды и ненависти, народные предрассудки, что все, вместе взятое, и сгубило его «Историю Наполеона»[10 - Имеется в виду книга Вальтера Скотта «Жизнь Наполеона Бонапарта» (1827; русский перевод С. де Шаплета – 1831–1832).]. Но он ничего этого не вносил в свою творческую деятельность и, входя в созерцание судеб человечества и человека, откладывал в сторону свою личность и свое баронетство: он хотел только приковать к бумаге видения и образы, возникавшие перед его внутренним оком, а судить, резонерствовать о них предоставлял другим. И хорошо сделал: он вообще не мастер был судить; но в творчестве был великий мастер. Потому-то романы его были зеркалом действительности, в котором она походила сама на себя больше, нежели тогда, когда оставалась бы просто действительностию. В его романах вы видите и злодеев, но понимаете, почему они – злодеи, и иногда интересуетесь их судьбою. Большею же частию в романах его вы встречаете мелких плутов, от которых происходят все беды в романах, как это бывает и в самой жизни. Герои добра и зла очень редки в жизни; настоящие хозяева в ней – люди середины, ни то, ни се. Вальтер Скотт был натуры глубокой, но спокойной и тихой, пользовался отличным здоровьем и не знал нищеты и бедности. Оттого взгляд его на жизнь весел и ясен, а романы, большею частию, оканчиваются счастливо; но, как человек гениальный, а следовательно, и уважавший свято объективную истину изображаемого им мира, он написал несколько романов, которые очень похожи на ужасные трагедии, как, например, «Ламмермурская невеста», «Сен-Ронанские воды», «Айвенго», или «Ivanhoe» (со стороны судьбы Ревекки), «Морской разбойник» (Бренда)…[11 - Имеется в виду роман «Пират» (1822).] Да, романы Вальтера Скотта потому великие произведения искусства, что они не прикрашенное и не рассиропленное, а действительное, хотя и идеальное, изображение жизни, как она есть. Только жалкие писаки подбеливают и подрумянивают жизнь, стараясь скрывать ее темные стороны и выставляя только утешительные. Но романы этих господ-сочинителей похожи на грошовые пряники, которые услаждают вкус одной черни, подонков и осадков человечества. Истина выше всего, и как ни закрывайте глаза от зла – зло от этого не меньше существует-таки. Недавно было в моде нападать на современных французских романистов за исключительно мрачный взгляд их на жизнь; но теперь порядочные люди уже не нападают на них за это, сколько потому, что эти нападки уже старая песня, столько и вследствие умной, хотя и поздней догадки, что никто не может видеть вещи иначе, как они представляются ему, и что кто не любит мрачных картин, тот не смотри на них, а писать их все-таки не мешай. Теперь эти нападки сделались достоянием меньшей литературной братии, – и боже мой! какие тонкие остроты, какие грозные анафемы бросает она на бедную французскую литературу, втайне удивляясь ей и въявь питаясь убогими крохами с ее богатого стола… Смешно и жалко!.. Как великий гений, Вальтер Скотт не мог не иметь сильного влияния на свой век и даже на людей, с которыми у него и у которых с ним не было ничего общего. Все бросились писать исторические романы, не зная истории, будучи чужды всякого исторического созерцания и взгляда на жизнь, и думая, в простоте сердца, что романы великого шотландца оттого так удались, что в них история слита с частным бытом и что им стоит только перелистовать какой-нибудь том истории Карамзина да придумать любовь, разлуку, препятствие и благополучный брак – так и они будут Вальтерами Скоттами – и разбогатеют, и прославятся. Некоторым в самом деле удалось это в карикатуре и в миньятюре. Впрочем, не должно думать, чтоб таковы только были результаты движения, произведенного Вальтером Скоттом: они были бесконечно важны во всех отношениях и для всех литератур, следственно и для нашей. Мы уже упоминали о прекрасных попытках Лажечникова и могли бы сделать еще важнейшие указания, – но это не относится собственно к роману. Любопытно было бы взглянуть, как подействовал Вальтер Скотт на большую, по числу, часть своих подражателей; но это когда-нибудь, – а теперь обратимся к романам г. Загоскина и к другим одной с ними категории.
«Юрий Милославский» был первым историческим романом на русском языке. Исторического в нем было – надо сказать правду – очень мало, если исключить собственные имена, числа и внешние события. Русские люди первой половины XVII века у него очень похожи на мужичков и бородатых торговцев нашего времени. Герой – образ без лица, не человек и не тень: его ни руками схватить, ни глазами увидеть; но что всего забавнее, этому бестелесному существу автор навязал понятия, чувства и деликатность сентиментальных героев прошлого века. Замашка – основать русский роман XVII века на любви, показывает, что автор не вник в быт старой Руси и увлекался подражанием Вальтеру Скотту. Все лица романа – осуществление личных понятий автора; все они чувствуют его чувствами, понимают его умом. Некоторые из этих лиц нравятся в чтении, потому что автор умел придать им какой-то призрак действительности, и это уменье обличало в нем прежнего драматического писателя. Особенно же нравятся эти лица тем достолюбезным добродушием, которое умел придать им автор. Познакомившись с таким лицом на одной странице романа, вы знаете, что он будет говорить и делать на другой, третьей – и так до последней, а все-таки с удовольствием следите за ним. Но герои добра и зла ужасно неудачны: мы говорили уже о самом Милославском, а теперь скажем, что и таинственный незнакомец, открывающийся потом Мининым, не лучше его; боярин Кручина и друг его сбиваются на мелодраматических злодеев… И однако ж роман произвел в публике фурор: он был первая попытка на русский исторический роман; сверх того, в нем много теплоты и добродушия, которые сделали его живым и одушевленным; рассказ легкий, льющийся, увлекательный: ничему не верите, а читаете, словно «Тысячу и одну ночь». Его и теперь можно перелистовать с удовольствием, как, вероятно, вы перелистываете иногда «Робинзона Крузое», который в детстве доставлял вам столько чистейшего и упоительнейшего наслаждения. – За «Юрием Милославским» последовал другой русский исторический роман г. Загоскина – «Рославлев». Он был повторением «Юрия Милославского»: те же лица, те же характеры, те же начала, те же достоинства и недостатки, исключая одной героини, которая сделалась виновата перед судом автора в том, что, как женщина, полюбила мужчину, не спрашивая, какой он нации. И за это автор старался всеми силами выставить ее в самом неблагоприятном свете, а героя тем паче возвеличить; но как сей великий муж был родным братом боярина Юрия Милославского, то роман и пал[12 - 24 августа 1831 г. П. А. Вяземский писал Пушкину: «В Рославлеве нет истины ни в одной мысли, ни в одном чувстве, ни в одном положении…» (Пушкин. Полн. собр. соч., т. XIV. Л., 1941, с. 214).], несмотря на возгласы приятелей. Не будем и мы тревожить его праха. – «Аскольдова могила» была могилою славы автора как исторического романиста; он сам это увидел и утешился тем, что из плохого романа сделал плохое либретто для хорошей оперы[13 - Имеется в виду опера «Аскольдова могила» (1835; музыка А. Н. Верстовского).]. Тогда он обратился к простым, неисторическим романам, в которых талант его явно попал в свою настоящую сферу, хоть и повыбился из сил, напрягая их в чуждой ему сфере, куда приманила его подражательность. Подлинно, справедливо сказано:
Гони природу в дверь – она влетит в окно!..[14 - Начальная строка двустишия А. Лафонтена, которое приводит Н. М. Карамзин в очерке «Чувствительный и холодный (Два характера)» (1803).]
Оставим пока романы г. Загоскина и обратимся к историческому обозрению романической деятельности другого знаменитого таланта: так требует внутренняя связь нашей статьи.
Первым романом г. Булгарина был знаменитый в русской литературе «Иван Выжигин», – это известно всей просвещенной Европе. Сатира и мораль составляют душу этого превосходного произведения; сатира отличается таким желчным остроумием, а мораль – такою убедительностию, что тотчас же по выходе «Ивана Выжигина» в России уже нельзя было увидеть ни одного из пороков и недостатков, осмеянных г. Булгариным. И не удивительно: в сатире ему служил образцом Сумароков, «гонитель злых пороков»…[15 - Цитата из «Эпистолы г. Елагина к г. Сумарокову» (1753; другое название – »Сатира на петиметра и кокеток». В 1842 г. она еще не была опубликована). О скептическом отношении Белинского к А. П. Сумарокову см. рецензии на издание С. Н. Глинки «Очерки жизни и избранные сочинения А. П. Сумарокова» (ч. I–III) – наст. т., с. 457–461; 493–498.] Вторым романом г. Булгарина был «Димитрий Самозванец», который, впрочем, показал, что историческая почва нисколько не родственна таланту г. Булгарина, столь сильному и поэтическому на моральной почве. Роман пал, и только чрезвычайный успех «Выжигина» помог разойтись единственному изданию «Самозванца». В нем были все недостатки «Юрия Милославского», но не было ни тени теплоты и добродушия, составляющих неотъемлемое достоинство произведения г. Загоскина. Впрочем, г. Булгарин умел, с другой стороны, сделать свой исторический роман если не интересным, то заслуживающим неоспориваемое уважение: именно, с моральной стороны, с которой он так замечателен. Вот что сказал о нем Пушкин, прикинувшийся раз Феофилактом Косичкиным: «Что может быть нравственнее сочинений г. Булгарина? Из них мы ясно узнаем: сколь не похвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому подобное. Г-н Булгарин наказует лица разными затейливыми именами: убийца назван у него Ножовым, взяточник – Взяткиным, дурак – Глаздуриным, и проч. Историческая точность одна не дозволила ему назвать Бориса Годунова – Хлопоухиным, Димитрия Самозванца – Каторжниковым, а Марину Мнишек – княжною Шлюхиною; зато и лица сии представлены несколько бледно» (см. «Телескоп» 1831 года, ч. IV)[16 - Цитата из статьи Пушкина «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» (1831).]. Третьим романическим подвигом г. Булгарина был «Петр Иванович Выжигин»[17 - После того, как «Иван Выжигин» был молниеносно раскуплен (при огромном для того времени тираже – 3 или 4 тысячи экземпляров), право на издание «Петра Выжигина» (1831) было куплено И. И. и А. И. Заикиными за цену, в пятнадцать раз превосходившую сумму, в которую обошелся А. Ф. Смирдину первый роман Булгарина. Но «Петр Выжигин» не имел никакого успеха и принес издателям огромный убыток (см.: Т. Гриц, В. Тренин, М. Никитин. Словесность и коммерция (Книжная лавка А. Ф. Смирдина). М., «Федерация», 1929, с. 227–228).] – опять исторический роман, где Наполеон был представлен в контрасте с Петром Ивановичем и где Петр Иванович совершенно заслонил Наполеона, – что и доказало неспособность г. Булгарина живописать исторические личности, особенно такие великие, как Наполеон. Г-н Загоскин в то же время и так же неудачно изображал Наполеона в своем «Рославлеве»: чудное сходство в направлении романической деятельности обоих этих писателей!.. Тогда г. Булгарин с горя от неудачи впал в новую неудачу – написал третий и последний исторический роман свой – «Мазепу». Дружба всеми силами старалась поддержать это произведение, но и сама рушилась под тяжестию такого подвига: читатели, может быть, вспомнят ловкую статью о «Мазепе» в «Библиотеке для чтения»[18 - Рецензия О. И. Сенковского отличалась издевательски-циничным тоном («О Фаддей Венедиктович! Где ты? Бросься скорее в мои объятия! Обними меня в последний раз! …Я тебя люблю и уважаю, но должен… должен пожертвовать тобою, принести тебя первого в жертву литературному правосудию для удостоверения всех и каждого в самостоятельности этого журнала». – «Библиотека для чтения», 1834, т. II, отд. V, с. 14).]. Тогда г. Булгарин написал «Записки Чухина», где снова, и уже навсегда, вошел в родственную его таланту сферу.
Теперь нам остается рассмотреть, что такое моральный роман, то есть как он пишется и к чему он годен. О восторженном роде романов нового сказать нечего; что же до идеально-сентиментальных, то здесь не место и не время распространяться о них; мы предоставляем себе воспользоваться этим удовольствием при появлении первого романа в таком роде или – чего лучше! – при выходе последних двух частей «Аббаддонны» г. Полевого: известно, что первые четыре части были изданы два раза без хвоста[19 - О составе романа «Аббаддонны» см. примеч. 9 к рецензии на 2-е издание этого романа – наст. изд., т. 3, с. 595.], о котором мы имеем понятие по двум большим отрывкам, напечатанным в «Сыне отечества» 1840 года. Итак, приступаем прямо к разбору «Кузьмы Петровича Мирошева», как типического представителя целого рода романов, который должно назвать морально-сатирическим.
Все главы в новом романе г. Загоскина означены разными затейливыми заглавиями, которые вошли в моду в нашей литературе с появления в свет «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»[20 - Повесть Н. В. Гоголя.]. Первая глава «Кузьмы Петровича Мирошева» гласит «О том, где и когда случилось то, о чем рассказывается в этой истинной повести». Начинается она возражением против несправедливо приобретенной рекою Сурою известности в народе (вероятно, народе Пензенской губернии, где она только и известна): автор справедливо замечает, что покрытые сосновыми лесами берега Суры очень мрачны и что Сура течет на север. Вы ожидаете, читатель, встретить на берегу этой несправедливо прославленной (что неопровержимо доказано г. Загоскиным почти на двух страницах) реки город или деревню, где родился герой или где началось действие романа: ничего не бывало! Сура не имеет никакого отношения к роману, точно так же, как и Гангес[21 - Имеется в виду Ганг.] или Нил; на берегу Хопра начался и кончился роман… Вы, может быть, думаете, что автор распространился ни с того ни с сего о Суре только для того, чтоб к его роману, тощему содержанием, прибавилось полторы лишние странички: ошибаетесь, читатель! Нет, это просто подражание русским песням: кто не знает, что почти все наши народные песни начинаются не с того, с чего начинаются, а именно с того, с чего, не начинаются, например:
Уж не лебедь ходит белая
По зеленой травке шелковой,
Ходит красна девица душа
Во кручине, в мыслях горестных, и пр.
Или:
Не былинушка в чистом поле зашаталася,
Зашаталася бесприютная головушка,
Бесприютная головушка молодецкая, и пр.[22 - См.: «Песни русского народа», изданные И. П. Сахаровым, ч. IV. СПб., 1839, с. 12 и 24.].
Продолжаю. Хопру посвящено только несколько строк; затем на тринадцати страницах следует описание деревни, принадлежащей герою романа. Деревня – как все русские деревни – ничего особенного! В число этих тринадцати страниц должно включить легенду об источнике или роднике в деревне Мирошева. Вот уж этого не понимаем: зачем сюда зашла эта легенда, если не для забавы читателей? ибо те добрые люди, которые могли бы прийти от нее в умиление, за безграмотностию, не прочтут романа г. Загоскина. Из второй главы узнаём, «Откуда происходит род Мирошевых и отчего у прадеда Кузьмы Петровича было две тысячи душ, а ему досталось только пятьдесят». Автор начинает род Мирошевых не с яиц Леды[23 - С яиц Леды – с самого начала. (По греческой мифологии, Леда, к которой явился Зевс в образе лебедя, снесла два яйца, из которых вылупились Елена и Полидевк с Кастором.)], а только лет за сто с небольшим до царя Феодора Иоанновича[24 - Царь Федор Иванович правил с 1584 по 1598 г.], и потому надо прочесть по крайней мере три страницы, прежде чем дойдешь до отца героя романа, Кузьмы Петровича. Отец его тянулся из всех сил иметь псарню – не меньше, чем у князя Ромодановского, и протянул тысячу шестьсот душ, а сыну оставил с небольшим четыреста. Петр Кузьмич женился на моднице, которая разорила его в разор и терпеть не могла своего сына (он-то и герой романа) за его кучерское имя, – что и заставило Петра Кузьмича отвезти малолетнего Кузьму Петровича в Петербург и отдать в кадетский корпус. Через пять лет родители Кузьмы Петровича умерли, и ему от четырехсот душ крестьян осталось только триста рублей денег.
Теперь мы будем следовать за романом не по главам, а постараемся рассказать содержание всей книги покороче. У Кузьмы Петровича был дядька, Прохор Кондратьевич, – маленькое и не совсем удачное подражание Савельичу в «Капитанской дочке». Здесь особенно интересно мнение автора о слугах такого рода; представляем его на суд читателей:
Куда девалось это поколение верных слуг боярских? Оно исчезло вместе с патриархальными нравами наших предков. Теперь такая бескорыстная любовь к чужому ребенку может показаться невероятною, а в старину это бывало сплошь. Обыкновенно барское дитя переходило от кормилицы к нянюшке, от няни мальчик поступал под надзор дядьки, и все эти хожатые: кормилица, нянюшка и дядька, сохраняли до самой смерти неизменную привязанность к ребенку, который впоследствии становился их барином. Разумеется, эта любовь была всегда самая слепая и безотчетная; обыкновенно каждая нянюшка и каждый дядька не сомневались, что их дитя и умнее и лучше своих братьев и сестер. Это бы еще ничего: но они также были уверены, что оно не могло быть никогда и ни в чем виноватым. От этого происходили иногда споры, которые не всегда оканчивались миролюбиво: бывало, два братца подерутся между собою, а там – глядишь, и нянюшки таскают друг друга за волосы. (Ч. I, стр. 52)[25 - Здесь и далее курсивы в цитатах принадлежат критику.].
Получив наследство (300 руб.), Мирошев был выпущен из корпуса офицером и заказал себе немцу портному полную форменную экипировку; а Прохор выторговал у немца тридцать рублей из ста, расплакавшись перед ним о бедности барина. Затем Мирошев пошел в прусскую кампанию[26 - Имеются в виду военные операции против Пруссии в течение Семилетней войны (1756–1763).]. По уверению почтенного и даровитого автора, «все товарищи полюбили его за кроткий нрав, примерное добродушие и веселый обычай, который, однако ж, не помешал ему быть самым рассудительным и степенным прапорщиком во всей армии; служивые говорили о нем, как о самом отличном и исправном фрунтовом офицере, а вся молодежь называла его дядюшкой». Лицо, как видите, идеальное, вполне заслуживающее чести быть героем такого прекрасного романа, как «Кузьма Петрович Мирошев». Прохор тоже попал в большую честь за свою услужливость и честность, а главное – за уменье объясняться с немцами. Один русский офицер попросил у немца молока, а тот подал ему колбасу – офицер было и по зубам немца; но позвали Прохора, и тот стал на четвереньки, заревел теленком (?!). Немец догадался – и дело кончилось миролюбиво. В полку был поручик Фурсиков – забияка в мире и трус на войне. Мирошев был свидетелем его трусости (повторение слово в слово истории с князем Блёсткиным в «Рославлеве»). Когда кончилась война и Мирошев воротился с полком в Россию, Фурсиков был эскадронным командиром и так распекал при всяком случае нашего Мирошева, что тот подал в отставку и поехал в Москву искать своих сослуживцев – не помогут ли они найти ему штатское местечко. Имения с ним было – пара крестьянских лошадей, телега да пять целковых в кармане. Жалел о нем более всех гуляка и рубака, добрый малый, Костоломов… Да! я и забыл сказать, что у Мирошева была родная тетка, старая девица, у которой было 50 душ крестьян и с которою мать его, а ее сестра, была во вражде. На дороге к Москве Мирошев разговорился с Прохором о том, о сем, и Прохор, между прочими умными вещами, которые он такой мастер говорить, сказал, что не худо бы Кузьме Петровичу иметь душ тысячи две крестьян. «Э! – отвечал Мирошев, – хорошо было бы, если б хоть вот и этакую деревеньку – вот, что стоит налево-то!» Тут барин и денщик пустились взапуски хвалить деревеньку, – и у Мирошева ни с того, ни с сего загорелось остановиться в ней кормить лошадей, хоть они еще и мало отъехали. Слуга было заспорил, но скоро согласился: ведь против судьбы не пойдешь… Да, судьбы, читатель, судьбы: радостное биение вашего сердца и тонкая проницательность вашего ума давно уже сказали вам, к чему ведут все эти подробности… Путешественники остановились в крайней избе у старосты Парфена. Прохор предлагает барину обед, но барин хочет гулять. Оно так и должно: все истинные герои романов любят гулять и мечтать, хоть бы они родились и жили в такое время, когда попусту шататься не любили и всякому гулянью предпочитали – поплотнее набивши желудок, хорошенько всхрапнуть. Но Мирошев был из грамотных я, вероятно, уже прочел «Приключения Никанора, несчастного дворянина»: – похождения знаменитого «Георга, милорда английского»[27 - Имеется в виду герой «Недоросля» (1787).] тогда едва ли еще были изданы. Вот Мирошев и спрашивает у одного мужичка, можно ли погулять в роще. – Сколько душе угодно, не то что в роще, да и в саду. – Стало быть, господ нет дома? – Была барыня, да и та умерла. – (Понимаете?..) Так и дом посмотреть можно? – Вестимо. – Пока ключница пошла за ключами, Мирошев глядь в дверь одной комнаты, да и остолбенел… Там – видите – сидела, облокотись на стол и читая книжку, прелестная молодая девица с печальным лицом. Описание ее красоты пропускаем: оно превосходно, но несколько сбивается на общий тон чувствительных романов. Вдруг у девицы выступили на глазах слезы, а у Мирошева облилось сердце кровью. «Боже мой! – подумал он: – и это небесное создание, этот ангел несчастлив!» Краснея, он расспросил ключницу потом об этой девице и узнал, что она – «дочь бедных, но благородных родителей», сирота, призренная покойною владетельницею деревеньки. Яркими красками описала Мирошеву ключница Федосья добродетели сей девицы, и как она, Федосья, видела во сне свою умершую дочь и прочее, все такое… Гуляя, Мирошев расплакался, – из сего ясно видно, что он «полюбил сильно, глубоко и вечно, а не тою чувственною любовью, что вспыхнет да пройдет». Наплакавшись и нагулявшись, он воротился в деревню – глядь, в ней движение: мужики и бабы в праздничных платьях, и лишь только кто увидит его, бух ему в ноги… – Что такое? – спрашивает изумленный Мирошев. – Так-с, ничего-с! – отвечает ему таинственным голосом Прохор. Короче, читатель: помещица села Хопровки, недавно умершая, была вышереченная тетка Мирошева, и Кузьме Петровичу недаром захотелось кормить лошадей в этой деревеньке… Впрочем, вы давно уже ожидали такого чуда. Но вот беда: тетенька-то хотела отказать имение своей питомице; Кузьма Петрович даже нашел написанную вчерне духовную, которую не успели перебелить за смертию помещицы. Как истинный герой романа, чувствительный и великодушный, он почитает себя не в праве воспользоваться наследством, не ему отказанным, и, к величайшему огорчению Прохора, отдает деревню Марье Дмитриевне, которая жила в людской, в семействе добродетельного лакея Лаврентия, – а сам хочет уехать в Москву. Героиня наша и не прочь было, да как узнала от Прохора, что у его барина-то имения всего-навсе, и с лошадьми, рублей на 50, – то и не хотела уступить герою в великодушии и печатным, то есть книжным слогом плохих романов второй четверти текущего столетия, начисто отперлась от деревни: иду-де, говорит, в монастырь. Затем следует в высшей степени патетическая сцена: Мирошев, собравшись с духом, предлагает ей владеть деревнею вместе, а то – говорит – и уеду на край света, и сойду с ума, и умру с тоски. Все это очень хорошо, весьма трогательно, только во всем этом не видно нисколько людей того времени, а следовательно, и никаких людей. Но перед венцом оба они явились вдруг людьми того времени: не говоря уже о невесте, сам жених страшно затосковал о том, что их некому проводить к венцу, и не будь Федосьи и Прохора, я думаю, что брак не состоялся бы, а роман кончился бы вовремя… Из церкви Мирошев, по предложению новобрачной, пошел на могилу тетки: там Марья Дмитриевна посадила куст розанов, который сначала было начал расти, а потом завял, листья облетели. Приходят, и – о, диво дивное и чудо чудное! – куст разросся, раззеленелся, расцвел… «О матушка, матушка!» – вскричала Марья Дмитриевна, упав на могилу своей благодетельницы, – я понимаю тебя: ты благословляешь дитя свое, ты радуешься его счастью!» После этого трогательного воззвания по такому чувствительному поводу молодые упали на колени на могиле. Заметив эффект, произведенный над мужем своею речью, Марья Дмитриевна проговорила другую – еще лучше, обняв своего нежного супруга: «О мой друг! теперь нет сомненья, мы будем счастливы! Она благословляет наш союз. Вчера этот куст походил на мертвый труп, а сегодня… Посмотри, как пышны эти розаны, как свежа эта зелень! Видишь ли, как блестят на листочках эти алмазные капли росы?.. О нет, нет! Это не роса: это радостные слезы моей второй матери!»… Милое, доброе создание эта Марья Дмитриевна: и говорит, как пишет или словно по печатному читает; во всяком случае, говорит, как не говорят и теперь и как еще менее могли говорить в те времена, когда, вследствие родительской предосторожности насчет нравственности дочерей, девушек не учили ни читать, ни писать… Зачем же она так говорит, как нигде не говорят, кроме плохих романов? Затем, милостивые государи, чтоб пленить воображение, тронуть сердце и убедить ум читателя, как это предписывается в любой реторике…
Вы думаете, что тут и всё? что наши герои зажили бы благополучно – и роману конец?.. Как бы не так! Это еще только первая часть, только вступление, за которым следуют три части; это только присказка, а сказка-то впереди… Доскажем же ее как-нибудь.
Между первою и второю частью проходит 18 лет. Марья Дмитриевна уже превратилась в барыню толстую, плотную и румяную – простонародный идеал русской красоты! (Замечательно, что у г. Загоскина в этом романе действующие лица большею частию плотные, толстые, а мужчины почти все лысые…). Она уже объясняется просто, иногда даже чересчур просто, как все русские помещицы того времени, то есть 1780 года. Кузьма Петрович мало переменился, да и не от чего: ведь он это время только ел, пил да спал; человек он был добрый – мухи не обидит, на слугу не осердится; итак, не удивительно, что он только постарел немного. У них есть дочь, Варенька, – вот уж милочка-то: глаза голубые (счетом два), носик… ну, да вы и так ее знаете наизусть. Автор очень жалеет, что принужден был сравнить ее стан с аравийскою пальмою, а не с русскою сосною, – и мы вполне разделяем его горе.
Пылкое сердце и какая-то наклонность к мечтательности составляли отличительную черту се характера: в этом она вовсе не похожа на своих родителей, которые по давали волю (и) своему воображению (и не мудрено: у них его вовсе не было!), не залетали в туманную даль, а жили попросту, как бог велел, – и верно в наш романтический век показались бы людьми весьма обыкновенными, прозаическими и даже пошлыми (вот что правда, то правда!). Бедняжки! они не знали, что разгульная и буйная жизнь имеет свою поэзию (но неужели же животной жизни противополагается только разгульная и буйная: есть еще разумно человеческая, которая выше той и другой); что жизнь спокойная, не волнуемая страстями, вовсе не жизнь, а прозябание; что мы хотя живем на севере, а должны смотреть на запад и так же, как там, думать об одном только земном просвещении, то есть: что мы можем забыть о земной нашей родине; но зато должны перед наукою благоговеть, как перед святынею, и художеству поклоняться, как божеству.
А! вот что! понимаем… Но возьмите немного терпения – то ли еще поймете: для того-то мы и пересказываем вам содержание этого романа. Недалеко от Мирошевых деревня Кирсанова, богатого помещика, у которого есть сын. Разумеется, он влюбился в нее, а она начала «обожать» его. К Мирошевым ездят соседи: Вертлюгины, муж – дурак, а жена – кокетка, модница, сплетница и все, что угодно: автор изобразил ее со всею едкостию своей неподражаемой иронии; потом, бедный помещик Зарубкин, сплетник, пьяница, побироха и шут. Мы и не упомянули бы о нем, да с ним был анекдот, который верно характеризует то прекрасное время, когда люди «перед наукою не благоговели, как перед святынею, и художеству не поклонялись, как божеству». Послушайте рассказ самого Зарубкина о том, что сделал с ним Афонька, шут Кирсанова:
Да, сударь! привязался ко мне, проклятый! Научили что ль его – не знаю. Начал такие непригожие речи говорить, всячески меня порочить; я сначала все в шутку поворачивал, да он уж больно стал нахальничать: натянул палец, да и щелк меня по носу; я его отпихнул – а он и ну драться. А Иван Никифорович, чем бы дурака-то унять, кричит: «Не поддавайся, Афонька!» – а тот и пуще! Гляжу, ахти! дурак-то уж и до рожи добирается!.. Я и руками и ногами, кричу: «батюшки, бьет! батюшки, бьет», а его высокородие так и умирает со смеху. Да уж сынок-то его, Владимир Иванович, дай бог ему здоровье, такой добрый! схватил Афоньку за ворот и оттащил прочь; а все этот шальной раза два съездил меня по уху. Что будешь делать! (Часть II, стр. 20–21).
Да, можно поверить, что Зарубкин «не благоговел перед наукою, как перед святынею, и художеству не поклонялся, как божеству»: такое самоунижение и животное незнание своего человеческого достоинства никогда не соединяется с благородною любовию к науке и возвышенною страстью к искусству. И что идет к Зарубкину, то же можно сказать и о веке «Зарубкиных».
В соседстве деревни Мирошевых было имение одного богача-графа, который, поручив его управлению холопа своего, Курочкина, не хотел и знать о нем: в нем было всего только 400 душ! Курочкин этот был знаменитый, в духе того времени, законоведец: чуть кто ему не понравится – тяжбу, да и оттягает, именем графа, сколько захочет десятин земли или лесу. У Курочкина был сын – офицер… Я и забыл сказать, что в семействе Мирошевых есть девушка Дуняша – род подруги и горничной Вареньки, дочь того Лаврентия, что некогда призрел было Марью Дмитриевну. Курочкин начал намекать Мирошеву о сватовстве, а тот, думая, что дело идет о Дуняше, и радехонек; но когда недоразумение разрешилось – в Мирошеве проснулась дворянская гордость. Прохор чуть не избил сваху; Марья Дмитриевна – та, что говорила по печатному на могиле, – не уступила в ревности Прохору: насилу отстоял от них Мирошев бедную сваху. Впрочем, этой свахе досталось и от автора: он такое принял горячее участие в оскорблении Мирошева, что изобразил ее хуже черта и так смешно, что если б прочел Прохор, то сказал бы: «Батюшки-светы, животики надорвешь – умора да и только…» Так же саркастически изображен и сын Курочкина: сам Митрофан Фонвизина[28 - Имеется в виду герой «Недоросля» (1787).] – умница перед ним. Оно так и надо; чем солоней севрюжина, тем вкуснее для известного разряда гастрономов… Между тем наши голубки вздыхают, воркуют, и раз так разворковались, что и кольцами поменялись. Владимир Иванович Кирсанов – второе издание Кузьмы Петровича, только с корректурными поправками в правописании: он наделен всеми возможными добродетелями и не имеет только лица и характера, но похож на вырезанную из картузной бумаги фигурку, у которой из-под головы тотчас же начинаются ноги и на лбу ярлычок с нумером. «Я, – говорит он, – против воли отца на тебе не женюсь, а любить буду до гроба и умру твоим суженым».
О! какое неизъяснимое блаженство изобразилось в глазах Вареньки!
– Моим суженым! – повторила она. – Да чего еще я могу просить у бога? Ты станешь вечно любить меня – да! вечно!.. Здесь ты будешь женихом моим, а там – господь назовет нас супругами! Он услышит мою молитву: твоя невеста умрет прежде тебя… О! как она будет тебя дожидаться!.. Владимир! – продолжала Варенька, снимая с пальца золотое колечко, – может быть, в церкви божией нам не удастся никогда обменяться кольцами; надень его и дай мне свое. Если ты сам не снимешь его с моего пальца, то, будь уверен, я лягу с ним в могилу…
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Теперь мы с тобой обручены! – сказал Владимир, глядя с неизъяснимою любовью на Вареньку. – О, мой ангел невинности и доброты! – продолжал он, целуя ее руку, – какая женщина в мире может равняться с тобою?.. О, поверь, мой друг! если б любовь моя не была так же чиста, как эти ясные небеса… еще чище – как душа твоя! я не смел бы тогда прикоснуться к тебе, не смел бы взять тебя за руку!.. Как я люблю тебя здесь, так можно будет мне любить тебя и там, где нет ничего земного. Ты правду сказала, Варенька: если не в здешнем, так в будущем мире господь благословит наш союз. (Ч. II, стр. 240–241).
Каково? – Попробуйте найти такую сцену любви у Шекспира, Байрона, Вальтера Скотта, Купера, Шиллера, Гете, Руссо, Пушкина: уверяю вас, что не найдете, лучше и не трудитесь, не ищите напрасно… Вот перо, так перо!.. Господи, подумаешь, какие есть сочинители на свете: начнешь читать – так невольно и плачешь и смеешься, смеешься и плачешь…
Эта трогательная сцена любви была подслушана Вертлюгиною, которая нагло навязывалась на Кирсанова и ревновала его к Вареньке. Вследствие этого старик Кирсанов увез своего сына в Воронеж, чтоб насильно женить его там на дочери своего богатого приятеля; от этого Варенька, на 94 странице III части, упала в обморок и с той же минуты, как истинная героиня романа, сделалась больна; а Курочкин между тем затеял дело, вследствие которого Мирошев увидел себя в необходимости ехать в Москву. Варенька исхудала – узнать нельзя; к большему несчастию, ее чуть не залечил немец-лекарь. Игнатьевна (которую мы доселе знали под именем Федосьи) ворожит и колдует, несмотря на свою набожность.
Несмотря на это грубое невежество, на эту странную смесь веры с суеверием, в старину едва ли уж не тверже верили и уж, конечно, лучше нашего умели любить.
И спору нет: в романе г. Загоскина столько представлено неоспоримых доказательств этой истины, что невольно жалеешь о своем отчаянном безверии в гадания, нашептывания, вспрыскиванья и о своей решительной неспособности объясняться в любви на манер Мирошевых и Кирсановых…
Дуняша давно уже играет не последнюю роль в романе, а ее грудь все еще высоко взметывается беспредметною любовию, говоря слогом. Но не беспокойтесь: такая достойная девица не останется без «предмета»: автор неусыпно бдит за героями и героинями своего романа; он любит пары, и, когда понадобится, у него голубок как с неба свалится. На святках Дуняша пошла ворожить в баню, которая стояла в поле за околицею. Вдруг звон колокольчика – оглянулась: за ней косматое чудовище – ах!.. и в обморок. Очнувшись, увидела она не чудовище, а его… Он сбился с дороги (в тот вечер была страшная метель) и пришел на огонек… Оказалось, что это русский лекарь из Воронежа. Он вмиг вылечил Вареньку, сказав ей, наедине, разумеется, что Владимир верен, а в вящее доказательство вручил ей и письмо. Словно рукой сняло болезнь – отец и мать в восторге: они уверены, что лекарство подействовало. Уезжая, «лекарь поглядел на Дуняшу так чудно, что она вся вспыхнула». Понимаете?.. Вот вам и еще пара голубков. Они же и ровня: лекарь тоже сын крепостного человека… Надо сознаться, что под чудотворным пером г. Загоскина все так хорошо улаживается, что лучше желать нельзя. Он повертывает законами действительности подобно тому герою русской сказки, который только скажет: «по моему прошению, по щучьему велению» – и как тут было…
Мирошев отправился с Прохором в Москву и на дороге (очень кстати) встретился с Костоломовым, который тоже едет в Москву искать себе места городничего в каком-нибудь городишке. Он видите – любил несчастно и, по великодушию, решился подарить отцу своей возлюбленной любимого полвопегого борзого кобеля, Буяна, чтоб тот согласился отдать свою дочь за того, кого она любила (ч. III, стр. 263–276). В Москве приятели остановились на подворье и тотчас же были свидетелями, как сыщик Ванька Каин[29 - Прозвище «Ванька Каин» носил грабитель Иван Осипов, который с 1741 г. стал сыщиком, но продолжал бесчинствовать вплоть до ареста в 1749 г.] поймал разбойника, обманув его прежней приязнью. Хлопоты Мирошева о деле кончились тем, что подьячий Тетерькин, которому он, по простоте своей, несмотря на все предостережения Прохора, вверился, – разорил его вконец. Нашелся идеально честный человек, который взял на себя труд объяснить простаку, что его стряпчий сидит в тюрьме, откуда пойдет на каторгу, а его дело едва ли когда кончится. Домой! Но не на чем; есть тоже нечего. Одна надежда на Костоломова, а тот сам идет к Мирошеву попросить взаймы. Узнав о положении приятеля, Костоломов тащит его обедать к какому-то графу.
У некоторых из вельмож, живших в Москве на покое, почти ежедневно были так называемые открытые столы. Каждый опрятно одетый человек, хотя бы он был вовсе незнаком хозяину, мог смело приходить обедать за этот стол; его не спрашивали, кто он такой. Дождавшись в столовой хозяина и отвесив ему низкий поклон, он садился за общую трапезу и кушал на здоровье во славу божию и в честь русского гостеприимного хозяина, которому и кушанье показалось бы невкусным, если б за его столом сидело менее ста человек гостей. Этот обычай известен нам по одному преданию. Мы не дошли еще до просвещенной расчетливости наших западных соседей, у которых отделенный сын не придет незваный обедать к отцу; но, несмотря на это, с трудом уже верим, что русское хлебосольство могло когда-нибудь существовать в таком обширном размере, и вот почему я нашел необходимым предварить своих читателей, что этот обычай действительно существовал на Руси и что были у нас такие бояре, которые находили удовольствие угощать одним и тем же столом и бедных и богатых, и друзей и незнакомых; одним словом, делиться со всеми богатством, которым наградил их господь, – и проживать свои доходы дома, а не копить деньги для того, чтоб проматывать их на чужой стороне, ради приобретения себе европейского имени. (Ч. IV, стр. 122–123).
Теперь мы понимаем, в чем дело…