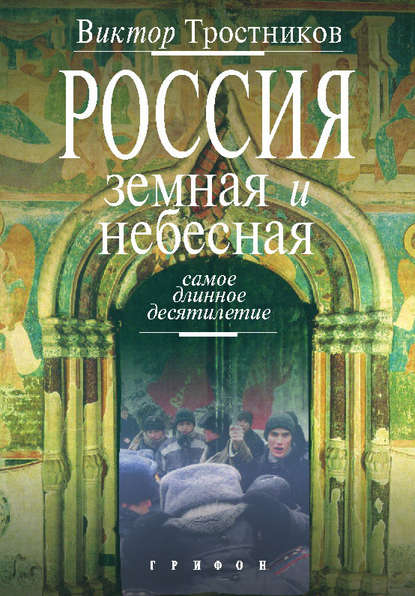По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Россия земная и небесная. Самое длинное десятилетие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это отношение к науке как к занятию, привлекательному самому по себе, независимо от его утилитарного значения, было настолько органичным для Капицы, что оно как освежающей волной обдавало каждого, кто соприкасался с ним как с физиком, а особенно его студентов. Переняли ли они это отношение от своего профессора и сохранили ли в себе? Понесли ли и дальше ту эстафету чистой научной любознательности, которую он им вручил, усвоили ли традицию смотреть на физическое исследование как на расшифровку великого плана устройства вселенной, заложенную самим Ньютоном и дошедшую до них через Бойля, Фарадея, Максвелла, Томсона, Резерфорда и Капицу? Пока могу лишь сказать, что мне очень хотелось бы ответить на этот вопрос положительно…
Помню, как на рубеже сороковых и пятидесятых годов большую, устроенную амфитеатром аудиторию в старом здании Московского университета на Моховой раз в неделю заполняли первокурсники физико-технического факультета. Впрочем, туда являлись и многие второкурсники, и еще какой-то более взрослый люд – вероятно, сотрудники Капицы и аспиранты. Ведь это было событие! На самом верху, тщательно все записывая, сидел сын Петра Леонидовича, Сережа, тогда еще совсем молоденький. Академик читал курс экспериментальной, или «общей», физики. Эти лекции, в отличие от всех других, не давали строго систематических знаний. Тем не менее уже тогда мы интуитивно понимали их большую важность и всегда являлись на них в полном составе. И интуиция нас не подвела. Сейчас, по прошествии более чем тридцати лет, эти лекции выступают в ретроспективном осознании как самое яркое из всего, что украшало наши студенческие годы, как дорогое воспоминание, окрашивающее ностальгическим чувством то невозвратное время. И причина этого проста: на лекциях Капицы мы и в самом деле сталкивались с очень важной вещью – тем настроем души, который обеспечил ученым прошлого возможность создать могучую современную науку и после этого стал постепенно угасать, уступая место настрою совершенно иному, на него не похожему и уже не содержащему в себе такого творческого потенциала. Застать и почувствовать «кожей» этот чистый дух физического исследования, породивший нынешнюю всепроникающую технологию и этой самой технологией угашенный, посчастливилось из ныне здравствующих людей сравнительно немногим. И среди тех, кому повезло, были мы – молодые студенты физтеха.
Ткань этих лекций имела четко выраженные продольные и поперечные нити. Продольными, проходящими через весь курс, были замечательные «лирические отступления» – рассказы о физиках, об их судьбе, о благородстве одних из них и неблаговидных поступках других, воспоминания о великом Резерфорде, а также спонтанно рождающиеся по ходу изложения размышления на самые различные темы – от проблемы приоритета в науке до постановки дела подготовки научных кадров. В этой части Капица воспитывал нас как людей, прививал нам те нравственные принципы, которые были характерны для ученых великой романтической эпохи. Поперечными нитями служили конкретные частные вопросы, которые входили в учебную программу – скажем, свойства гравитационного поля, устройство катушки Румкорфа, внутреннее преломление света и т. п. Но и здесь Капица не только учил нас, но и воспитывал – теперь уже как будущих физиков, исследователей. Тут он как раз и вырабатывал в нас отношение к физике, как к страшно интересному предмету. Средство, употребляемое им для этого, было всегда одно: ставя тот или иной, тысячи раз поставленный ранее, опыт или выводя на доске давно входящую во все учебники формулу, он делал это так, будто все происходит впервые в истории, т. е. на наших глазах совершается Открытие! Как и все остальное, Капица делал это вполне обдуманно. Однажды на лекции он даже приоткрыл нам тайну своего метода – правда, говоря не о себе, а о своем учителе Резерфорде. Он рассказывал, как Резерфорд на своих лекциях каждый раз заново выводил закон соударения двух твердых шариков (формула была необходима ему для обоснования своей революционной модели атома, предполагающей наличие весьма малого ядра и сравнительно обширной электронной оболочки), к следующему разу все опять забывая и, видимо, намеренно не желая готовить вывод перед лекцией. Капица одобрял и как бы «непрофессиональное» поведение Резерфорда, считая, что некоторая затяжка времени окупается здесь подлинностью демонстрируемого творческого процесса. И, раз он одобрял его, значит, считал желательным подражать ему – и действительно подражал. Одним из полезнейших следствий такого рода поведения было то, что Капица своим примером учил нас удивляться. Ведь без способности удивляться тому, что для остальных кажется само собой разумеющимся, нет настоящего ученого. Говорят, у Ньютона был старший брат – как и их отец, простой фермер. Однажды будущий физик, тогда еще юноша, сказал брату: «Знаешь, что меня поражает? Что все тела падают вниз!» Тот в ответ покатился со смеху: «Ну и глуп же ты, Исаак, куда же им падать – вверх, что ли?» А потом младший брат стал гениальным ученым, а старший так и остался землепашцем. Не знаю, был ли и вправду такой эпизод в жизни Ньютона, но уверен, что общая теория относительности была обязана своим возникновением тому, что однажды Эйнштейн удивился независимости ускорения тел в гравитационном поле от их массы.
Вот этим-то умением широко открытыми и удивленными глазами смотреть на природные процессы Капица заражал своих учеников. Для него был важен внутренний настрой человека, наличие в человеке научного романтизма, и тогда он выделял его из массы и старался помочь утвердиться в физике. В этой связи расскажу о случае, относящемся ко мне, так как это тот случай, который известен мне лучше всех других. Кажется, в начале второго курса я ради интереса поставил перед собой задачу: каковы должны быть длина и толщина кварцевой нити, чтобы использующие ее крутильные весы могли обнаружить световое давление? Конечно, задача эта очень проста, но на тогдашнем уровне моих математических познаний мне пришлось с ней основательно повозиться. Наконец я получил нужную формулу, подставил в нее параметры кварца и выписал окончательный ответ. Гордый самостоятельно полученным результатом, я оформил его в виде микрореферата, сделав поясняющие чертежи и рисунки. Не помню, кому я хвалился этим «трактатом», но каким-то путем он дошел до Капицы. И вот я узнаю: Петр Леонидович говорит на кафедре, что студенту Тростникову надо предоставить все необходимые материалы и приборы и пусть он в институтской лаборатории поставит опыт Лебедева. По какой-то причине я этого не сделал, но сам факт интереса у знаменитого академика к моему «детскому лепету» произвел на меня сильное впечатление и заставил о многом задуматься. Но лишь теперь я до конца понял, что скрывалось за этим неожиданным интересом. Капица учил нас не физике, а учил быть физиками, а понятие «физик», как и вообще «ученый», определяется не внешними признаками – суммой знаний, – а внутренними – способностью быть любопытным по отношению к природе и стремлением во что бы то ни стало свое любопытство удовлетворить.
С убежденностью Капицы в первичности внутреннего фактора в творчестве и в «производной» природе внешнего я столкнулся несколько позже еще раз. Увлекшись математикой, я задумал перейти на мехмат МГУ. Переводы такого рода администрацией не поощряются, поэтому я попросил аудиенции у Петра Леонидовича, рассчитывая на его содействие. Рассказав об изменении своих интересов, я спросил, не сможет ли он походатайствовать за меня перед ректором. Не стану приводить всю нашу беседу, имевшую для меня большое воспитательное значение, но в ней Капица выразил мнение, что совершенно не важно, какой диплом получает начинающий ученый, ибо важно только то, чем он интересуется. «Вы вполне можете заниматься математикой, кончив физический факультет», – сказал мне Капица, и этой фразой проблема, так долго мучившая меня, была мгновенно решена. Добавлю, что, окончив физфак МГУ, я впоследствии стал заниматься чистой математикой и диссертацию защитил уже в этой области науки, так что мудрость моего наставника вполне себя оправдала.
Понимая, что нельзя ждать, пока каждый студент сам увлечется чем-то и самостоятельно поставит перед собой задачу, которая на его стадии развития будет для него творческой проблемой, он решил помочь нам и дал собственную подборку физических задач. В годы нашей учебы она «ходила по рукам» в машинописном виде и лишь в шестидесятых годах была опубликована в брошюре издательства «Знание». Затем, уже в дополненном виде, она печаталась и в других издательствах, и ныне достаточно широко известна, так что анализировать ее тут нет надобности. Скажу только, что все «задачи Капицы» были сформулированы именно так, чтобы студент, избравший какую-то из них для размышления, чувствовал себя пионером в исследовании некоторого явления, поскольку к ним не было дано никаких ответов и даже было непонятно, решал ли их сам Капица или нет. Характерной особенностью этих задач было то, что нужные для решения параметры не давались и их приходилось брать из справочников, а также то, что при решении необходимо было учитывать не только свойства того объекта, по отношению к которому ставился вопрос, но и поведение окружающей его среды, т. е. четко осознавать всю физическую ситуацию в целом. Скажем, решить задачу: «Река образует наклонную плоскость; может ли тело из-за этого плыть по реке со скоростью, превышающей скорость течения?» – можно лишь при том условии, что человек разобрался в картине распределения скоростей в толще воды. «Скоростью течения» мы называем фактически только скорость самого верхнего слоя воды, но под ним лежат слои, имеющие все меньшую скорость движения, а на самом дне вода неподвижна. Этот, обычно игнорируемый, факт и всплывает наружу, когда мы приступаем к размышлению над задачей, и уже одно это оказывается полезным.
Я добавил бы к этому, что «задачи Капицы» трогательны сквозящей в них заботой о студентах. Труд по их составлению был проявлением душевной щедрости, т. е. в конечном счете любви к людям. Те, кто знал Петра Леонидовича близко, единодушно говорят, что он был исключительно доброжелательным человеком. Нам, конечно, было не так просто уловить эту его черту, так как разница положений студента и академика все же очень велика и особой интимности в отношениях здесь быть не может. Сокровенность его доброты усугублялась еще и тем, что это был человек железной воли, а это качество воспринимается людьми, не обладающими большим жизненным опытом, как противоположное доброте.
Но мне все же повезло и здесь. Однажды я совершенно случайно присутствовал при его неожиданной встрече с академиком В.А. Фоком. Я писал тогда брошюру об А.А. Фридмане и нуждался в интервью с хорошо знавшим его Фоком. Последний назначил мне встречу в Президиуме Академии наук СССР, куда прибыл из Ленинграда по какому-то делу. И вот, в момент нашего разговора, в комнату случайно заглянул Капица. Не могу передать, как просияло его лицо. Я был надолго забыт и затаив дыхание следил из уголка за сценой свидания двух любящих друг друга людей. Не было такой мелочи, относящейся к быту, которую бы не выспросил Петр Леонидович, выясняя, насколько удобно устроился в Москве Владимир Александрович. Много раз при этом дознании он приходил в ужас от жутковатых условий проживания ученого и каждый раз при этом предлагал переехать к нему на Николину гору, уверяя, что этот переезд не составит никакого труда, так как есть и машина и шофер. Неуютное казенное помещение вдруг озарилось светом и наполнилось теплом, а два титана мировой науки вдруг сбросили маски «величия» и сделались теми, кем они всегда на самом деле и оставались – навеки преданными друг другу товарищами.
Вспоминая невольно подсмотренную мною встречу академиков Капицы и Фока, я вижу в ней теперь новую сторону. Я начинаю догадываться, что эмоциональность этого свидания объяснялась тем, что тогда сошлись два представителя вымирающей породы ученых, сошлись «последние из могикан». Фок был всего на четыре года младше Капицы и в молодости варился в той же кухне европейской физики, которая была родной и для Капицы. Хотя Капица был экспериментатором, а Фок – теоретиком, они были близкими коллегами по созданию новой физики, основанной на ядерно-оболочечной модели атома и квантовых представлениях. В этой работе они участвовали совместно с блестящими физиками своего поколения Бором, Дэвиссоном, Комптоном, Де Бройлем, Гейзенбергом, Шредингером, Дираком, Паули, Штерном, Эренфестом и другими. А в то время, когда произошла их встреча в апартаментах Академии наук, большинство из этих физиков, чьи имена звучат для нас как абстрактные символы таких-то открытий, а для них наполнялись конкретными воспоминаниями о близких людях, каждый из которых был неповторимой, непохожей ни на кого другого личностью, – большинство из них уже оставили сей мир. Два тлеющих уголька, оставшихся от грандиозного костра человеческого гения, волею судьбы сблизились и на несколько минут стали снова разгораться. Но вернуть тот небывалый огонь, осветивший глубочайшие тайны материи, было уже невозможно…
Да, своеобразие прошедшей эпохи, ее «психологический тип», проявлявшийся в наиболее активных ее деятелях, нельзя воспроизвести заново, даже если очень захочется. В жизни человечества все настолько связано, что для восстановления прежнего духовного настроя надо было бы восстановить всю структуру прежней жизни, начиная от бытовых условий и средств связи и кончая распространенными тогда традициями; а к тому же и вычеркнуть из памяти новейшую историю, оказывающую на умы необратимое воздействие. Это, разумеется, совершенно невозможно, еще не было в истории случая, чтобы ностальгия, пусть даже очень сильная, породила что-то более серьезное, чем стилизацию под старину и музеи. И было бы пустым занятием призывать сейчас к тому, чтобы наука опять украсилась ореолом романтики, окружавшим ее в начале нашего столетия. Этот атрибут придали ей тысячи и миллионы объективных причин, нам неподвластных и в большинстве своем нам неизвестных. Плеяда научных романтиков сделала свое историческое дело и удалилась со сцены. Это произошло уже на наших глазах, ибо мы видели и знали того из плеяды, кто ушел последним, – Петра Леонидовича Капицу. И мы должны ясно понять, что в ближайшее время таких людей в науке уже не будет, ибо настала новая эпоха.
Но хотя мы не можем вернуть прошедшего (да это и не нужно), мы обязаны сделать из него выводы, которые могут быть полезными для настоящего. Вглядевшись в ярчайшего представителя этого прошедшего – Капицу, мы заметили, что главной чертой его натуры было отношение к науке как увлекательнейшему разгадыванию загадок природы, т. е. как к занятию чрезвычайно интересному, независимо от получаемой от него выгоды – как для общества, так и для себя лично. Конечно, эта же черта была свойственна и всем крупным физикам его эпохи, работавшим в первой половине двадцатого века. Это были подлинные энтузиасты, а нередко и фанатики науки, и величайшее счастье им доставлял сам процесс исследования. И что же? Именно эти бескорыстные романтики заложили базу всей той корысти, которую мы извлекаем теперь в огромных количествах из научных достижений. Когда они стали уходить из науки, расширение и укрепление этой базы остановилось. Ведь не секрет, что после создания в 1930-х годах квантовой механики, т. е. на протяжении уже пятидесяти лет, в физике не было получено ни одного фундаментального результата. Теория элементарных частиц топчется на месте, и ей не помогают миллионные затраты на гигантские ускорители, единой теории поля нет, геометро-динамика представляет собой лишь набор «программ», и даже лазеры, которыми мы так склонны гордиться, явились реализацией теоретического расчета Эйнштейна, сделанного в 1916 году. Но мы не хотим видеть этого и продолжаем говорить и писать о быстром развитии науки, выдавая за него развитие технологии. Однако, когда технология исчерпает научную базу, ее рост прекратится, и тогда нам уже вообще нечем станет гордиться – ни наукой, ни технологией.
Я не могу дать по этому поводу каких-то рекомендаций, да и кто я такой, чтобы давать кому бы то ни было рекомендации? Но я позволю себе высказать на этот счет некоторые субъективные соображения, навеянные образом Капицы. Мне кажется, что постоянное акцентирование в печати, докладах, по радио и по телевидению практической пользы науки является неправильным и недальновидным. Мы боремся с тем, чтобы наука не превращалась в кормушку для защитивших диссертации, но не понимаем, что ее нельзя представлять кормушкой и для всего человечества в целом. Конечно, не надо делать вид, будто нас интересует лишь чистое познание, а не польза, но надо начинать не с пользы, а с познания. Если оно будет истинным, а не фальшивым, то польза последует обязательно, ибо никакое проникновение в тайны природы не может не принести пользы – в том или ином смысле. В понятии «научно-техническая революция» мы делаем ударение не на том слове, и это совсем не безобидно, ибо может привести к тому, что никакой «революции» вообще не произойдет. В произнесении этой формулы нам нужно подражать нашим великим покойным учителям, которые совершили полвека назад великую научную революцию, а совершив, не впали в хвастливость и не ударились в прожектерство, а до конца своих дней оставались в твердом убеждении, что величайшим из всех триумфов является триумф познающей мир человеческой мысли.
Он один знал, куда ведет Россию
Старец проснулся в обычное время, попытался подняться и не смог, такая охватила слабость. И понял, что уже не встанет.
За окном было еще темно, бревенчатые стены озарялись лишь тусклой лампадкой. Страха смерти не было. И снова, в который раз, он начал перебирать свою жизнь, чтобы еще до Страшного Суда дать ей свою собственную оценку.
Если это был он
Скромный путевой дворец. Скоро зима. Что делать? Возвращаться в Петербург, ежедневно напоминающий ему об отце, опять оказаться в центре придворной суеты и с деланой улыбкой на лице ждать, когда масоны приведут в исполнение приговор, вынесенный ему за запрещение их лож? Господи, но это же было свыше моих сил! А тут такой шанс, какого больше не будет. Верный друг Дибич не проболтается, а лейб-медик Вилье за хорошие деньги составит заключение о смерти. И составил, только в протоколе осмотра трупа допустил ошибку: отметив повреждение от падения в молодости с лошади, о котором не раз слышал, перепутал левую ногу с правой. Но на это, к счастью, никто не обратил тогда внимания.
Господи, простишь ли меня за это решение? Обман народа, вовлечение брата в великий грех – помазание в
Успенском соборе на царство при живом миропомазаннике. Старец застонал, как от физической боли, и уставшая от напряжения его душа обратилась к более светлым воспоминаниям – к романтической дружбе с Адамом Чарторыжским, ко встрече в Париже с Лагарпом, который воспитывал его в республиканском духе, а потом сам стал убежденным монархистом. И, конечно, как всегда, появился тот самоуверенный, смелый, гениальный – с которым он шесть лет вел сложнейшую партию-многоходовку и поставил-таки ему под Лейпцигом мат, оказавшись более хитрым игроком, что и сам побежденный признал на острове Святой Елены…
Вот какие тени слетались к убогой крестьянской избе на окраине Томска в начале февраля 1864 года. Если, конечно, это был ОН.
Начало царствования
Не было в России монарха более недооцененного, более окарикатуренного в литературе, а потом и в фильмах, чем Александр Первый. «Плешивый щеголь, враг труда» – вот что получил он вместо благодарности за труды на благо Отечества. И от кого получил? От поэта, выучившегося на его деньги в основанном им лицее – одном из многочисленных новых учебных заведений, сеть которых царь создавал на всей территории России, считая просвещение граждан важным этапом подготовки отмены крепостничества. Даже к ненавидимому дворянством за попытки ограничить его своеволие и потому оклеветанному Павлу история не так несправедлива.
А за что, кроме просвещения, было благодарить Александра I – может, больше и не за что? Ответить на этот вопрос чрезвычайно легко, надо лишь вспомнить евангельскую мудрость: о дереве судят по его плодам. А плоды всякого царствования – суть те изменения, которые произошли в стране за его годы. Значит, нам надо взять Россию 1825 года, когда Александр покинул трон, и вычесть из нее Россию 1801 года, когда он на него взошел. Разница и будет плодом, по которому надо оценивать правление этого императора.
Политическое наследие, которое ему досталось, было ужасающим. Никакого законного государственного порядка не существовало, действия власти, как и то, кто завтра будет у власти, предсказать было невозможно. Дворянская верхушка, трепетавшая перед Петром и потому державшаяся в рамках дисциплины, после его смерти с накопившимся за 30 лет нетерпением рванулась к власти. Пользуясь тем, что Петр не оставил никаких указаний, касающихся твердого порядка престолонаследия, она стала действовать, как преторианцы в Древнем Риме – возводить на трон того, кто, по ее мнению, хорош для нее. Так наступила «эпоха дворцовых переворотов», как назвал ее Ключевский. Легкость смены монархов была невероятной. Анна Иоанновна стала императрицей по интригам одного человека – боярина Димитрия Голицына; Елизавету Петровну посадили на престол 19 гвардейцев; убили Петра Третьего и наделили верховной властью Екатерину Вторую два человека – братья Орловы; зверски забили до смерти Павла Первого – граф Пален с десятком пьяных подельников. Тридцатилетнее отсутствие переворотов при Екатерине (не считая неудавшейся попытки Пугачева) не должно создать иллюзии, будто установилась наконец законность. Наоборот, на большинство населения, т. е. на крепостных крестьян, распространилось в этот период самое чудовищное беззаконие – они были превращены в безгласных и бесправных рабов. Просто эта мудрая правительница всемерно баловала дворян – дарила им земли, отнятые у монастырей и завоеванные в результате успешных военных кампаний, истратила 40 миллионов на своих фаворитов. Понятно, что они пылинки сдували со своей «матушки-государыни».
Правил железной рукой в бархатной перчатке
Вот какую страну получил в свои руки Александр – северный вариант латиноамериканской «банановой республики», где все решает очередная хунта. При этом ему был показан изуродованный труп отца, увидев который он, как стоял, так и рухнул навзничь. Это был намек: видишь, что бывает с царями, которые не находят с нами общего языка! Этот намек Александр прекрасно понял и в один день превратился из юноши с открытым сердцем, видящим в каждом человеке прежде всего хорошее, в глубоко спрятавшего в себе свои настоящие мысли и чувства актера, игравшего роль безобидного простачка. Он прослыл безвольным, подверженным внешним влияниям – то «интимного кабинета», то Сперанского, то Аракчеева, то архимандрита Фотия – и этим усыпил бдительность дворянства и сохранил себе жизнь, а на самом деле он умело использовал то одних, то других фигурантов, чтобы они, каждый на своем этапе, содействовали осуществлению его стратегической программы, известной только ему. И вдобавок к тому, что он переиграл французского императора, ему удалось переиграть и русское дворянство, сковав его амбиции прочной сетью законов, властью Государственного совета, укреплением местной администрации разного уровня нормативными актами, накопившимися постепенно и незаметно. И когда очередные заговорщики 14 декабря 1825 года подошли к Зимнему дворцу уже не с кучкой авантюристов, а с целым войском, вместо взрыва, который должен был сбросить Николая, получился пшик: Россия была уже не та. В конце царствования Александра она стала ПРАВОВЫМ ГОСУДАРСТВОМ, пусть даже лишь отчасти.
Стоит ли докапываться до правды?
Неужели он дожил-таки до освобождения крестьян, о котором мечтал с первых дней своего правления и которое так основательно и всесторонне подготавливал?
Есть много убедительных доводов в пользу мнения, что таинственный сибирский старец Федор Кузьмич был на самом деле покинувшим престол императором Александром. Но все эти доводы косвенные. Прямым доказательством мог бы стать только сравнительный анализ ДНК. Провести его проще простого. В Томске лежат мощи Федора Кузьмича, ставшего местночтимым святым, в Голландии наверняка найдутся потомки по женской линии королевы Анны Павловны – родной сестры Александра Павловича. Московский патриарх и нынешняя голландская королева Беатрикс благословение на экспертизу, думается, дадут, а обойдется она всего в несколько тысяч долларов. Вопрос в другом: нужно ли раскрывать тайну человека, который сознательно решил унести ее в могилу?
Кто нашей стране нужней – губернаторы или сатирики?
Двадцать восьмого января 2006 года исполнилось 180 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Круглая дата весьма кстати заставляет нас вспомнить об этом выдающемся сыне России, который в последнее время почти выпал из нашего общественного сознания. Кстати не только потому, что забывать о людях, составляющих гордость нации, всегда нехорошо, но и потому, что для осмысления сути его творчества нынче есть особые причины.
Два дела ради одной цели
По прошествии длительного времени мы обычно имеем дело не с человеком, а с его образом, и чем масштабнее человек, тем большему искажению подвергается его образ. В случае Салтыкова-Щедрина – фигуры масштаба поистине громадного – образ потерял всякую схожесть с оригиналом, и нам надо начать с восстановления хотя бы минимальной правды об этом деятеле.
Правду о нем надо искать прежде всего в том, как воспринимали его современники, что он делал для той России, в которой жил. А делал он вот что: с огромным напряжением, на пределе отпущенных ему сил и очень действенно служил тому конкретному отечеству, в рамках которого протекало его земное существование.
А что было отпущено ему судьбой? Великий литературный талант, редкие административные способности и бесконечная любовь к своей Родине. Окончив знаменитый Царскосельский лицей, задуманный Александром Первым как «кузница высших управленческих кадров», он уже в возрасте 18 лет поступил на государственную службу, на которой с небольшими перерывами провел около двадцати лет. Эта сторона его жизнедеятельности часто замалчивается, и очень напрасно, ибо по затраченной на нее энергии и принесенной ею пользе она вполне сравнима с его литературным трудом. В Рязани, а затем в Твери он был вице-губернатором. В трех губерниях – Пензенской, Тульской и той же Рязанской он занимал другую генеральскую должность управляющего казенной палатой – фактически местного министра финансов. И главным, чему он посвящал свои усилия на этих высоких постах, была борьба с коррупцией, как и ныне, захлестывавшей тогда Россию. Всюду, где он служил, он становился грозой взяточников.
Вскоре он решил, что локальными мерами положения в стране не исправить и что надо привлекать внимание общества к недостаткам административной системы в целом, обволакивающей всех царских ревизоров патриархальной лаской и щедростью и тем самым не позволяющей Петербургу составить истинное представление о ситуации в провинции. Так Салтыков-Щедрин встал на путь литературной сатиры, которая сделалась второй стороной его государственного служения. Но после его кончины вспоминали только об этой второй стороне, и в каждую эпоху трактовали ее так, как было выгодно для текущего момента. Этого он не предусмотрел.
Над кем он смеялся
Что представляют собой «Губернские очерки», «Пошехонская старина», «История одного города», сказки Салтыкова-Щедрина? Конечно, это смех сквозь слезы. Это не бичевание кого-то, каких-то внешних злых сил, это самобичевание. Салтыков-Щедрин говорил читателям: что же мы с вами за люди, не проявляем никакой инициативы и возлагаем все упования только на начальство, которое от этого наглеет и коснеет в лени и тупости? И это «мы» всегда оставалось единственным предметом его едких насмешек, нигде не переходя в «они». В послереформенной России Салтыков-Щедрин был таким знаменитым патриотом, так ясно выразил свое антизападническое мировоззрение в «Убежище Монрепо» и свое восхищение сметкой и умом русского народа в блистательной сказке «Как один мужик двух генералов накормил», так добросовестно нес цареву службу, что никому не могло прийти в голову заподозрить его в русофобии или в призывах к свержению монархии. Зная о своей репутации, он позволял себе порой перегибать палку, и это было проявлением недальновидности, которая впоследствии дала возможность спекулировать на его имени.
Большевики записали его в свои ряды
При советской власти Салтыков-Щедрин сделал посмертно блестящую карьеру, которой, конечно, никогда себе не пожелал бы. Но марксисты не спросили его согласия и беспардонно записали в революционеры. Разумеется, это была величайшая фальсификация. Салтыков-Щедрин убедительно доказывал, что наши беды коренятся в наших собственных недостатках и, чтобы жизнь стала лучше, надо признать эти недостатки, покаяться и очиститься от них; советские идеологи приписали ему совершенно противоположную мысль: мы хорошие, а живем плохо потому, что у нас плохая власть, которую, следовательно, надо сбросить. В таком «откорректированном» виде в 1934 году был экранизирован роман «Господа Головлевы», ничего общего не имевший с революционной пропагандой и представлявший собой высокохудожественный образец критического реализма. В 1946 году в докладе Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» было прямо сказано, что партия «устами Ленина и Сталина неоднократно признавала огромное значение великих русских революционно-демократических писателей и критиков – Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, Плеханова». Вот в какую компанию попал бедный вице-губернатор – все, кроме него, тут откровенно деклассированные маргиналы! Вот цена неосторожности в высказываниях.
Куда конь с копытом, туда и рак с клешней
Но еще хуже, лживее и гаже большевиков извратили литературные находки Салтыкова-Щедрина люди, которые появились лишь в начале двадцатого века, в его середине стали очень популярными, а сегодня просто-таки доминируют на эстраде и на телевидении. Народ метко припечатал их кличкой «смехачи».
Сами-то они считают себя сатириками. Но объект их сатиры – не «мы», а «они», только теперь это уже не власти, а простые русские люди, наш народ. Эта русофобия началась с давнего сюжета Жванецкого «В греческом зале, в греческом зале», а сейчас достигла апогея. Чтобы доказать это, придется, преодолевая отвращение, привести цитату. Как-то раз по всероссийскому телеканалу под «фанеру» с записью идиотского гогота толпы был озвучен неким смехачом такой текст: «Купец поехал в дальние страны, спросил дочерей, что им привезти. Старшая сказала: бальное платье. Средняя сказала: накидку с каменьями. Младшая же попросила: “«Привези мне чудище мохнатое для сексуальных утех”…»
Все. Дальше падать некуда, это дно. Любой узнает здесь самую целомудренную и самую трогательную сказку «Аленький цветочек», вызывавшую слезы умиления и восхищения бескорыстной самоотверженной любовью у многих поколений русских деток. Современному смехачеству необходимо было отравить и это ядом цинизма и пошлости. Теперь оно может торжествовать.
Мне понятно, что могут рождаться на свет такие моральные уроды, как этот «сатирик». Мне понятно и то, что по нашей лености не нашлось человека, который специально разыскал бы этого негодяя, чтобы плюнуть ему в лицо. Но одного я так и не могу понять – что в его репризе смешного.
Думаю, этого не понял бы и Салтыков-Щедрин, если бы вернулся к жизни. А мы не стали бы ему ничего объяснять и посоветовали бы, дабы не плодить бездарных подражателей, не высмеивать глупость публично, а возглавить какую-нибудь губернию и устраивать в ней жизнь по-умному.
За всех за нас вы думали в Кремле
Начиная разговор о Сталине, нужно отдавать себе отчет в том, что ты непременно навлечешь на себя чей-то гнев. Что бы ты о нем ни сказал, какую бы-ни дал оценку его личности и его деятельности, всегда найдется достаточно много людей, которых это возмутит. Единственным способом избежать негодования было бы говорить о Сталине так, как говорят о Навуходоносоре, жившем две с половиной тысячи лет назад и сделавшемся за это время чистой абстракцией. Но это невозможно, ибо для большинства наших граждан умерший всего полвека назад вождь представляет собой живую конкретность.
Однако само наше пристрастное отношение к этой персоне делает ее обсуждение актуальным и даже необходимым. Ведь все равно рано или поздно эмоции надо будет заменить трезвым подходом, и лучше это начать делать до того, как историческая правда начнет забываться и вместо реального Сталина появится Сталин мифологический. Пятьдесят лет – срок для этого оптимальный: страсти уже поостыли, а колоссальная фигура, нависавшая недавно надо всем миром, еще живет в нашей памяти.
Объективный подход должен заключаться в том, чтобы оценивать Сталина исключительно по историческому результату его правления, полностью отвлекаясь от специфики тех средств, которые он применял для достижения этого результата. Конечно, отвлечься от них психологически трудно, ибо именно средства, к которым он прибегал, больше всего задевают за живое, но постараться сделать это необходимо. Иначе уйдет время истины, которое примерно через пятьдесят лет кончается, вместе с уходом из жизни последних свидетелей эпохи. Именно через такой период Толстой дал верное описание Отечественной войны 1812 года, а Фолкнер – Гражданской войны в США.
Помню, как на рубеже сороковых и пятидесятых годов большую, устроенную амфитеатром аудиторию в старом здании Московского университета на Моховой раз в неделю заполняли первокурсники физико-технического факультета. Впрочем, туда являлись и многие второкурсники, и еще какой-то более взрослый люд – вероятно, сотрудники Капицы и аспиранты. Ведь это было событие! На самом верху, тщательно все записывая, сидел сын Петра Леонидовича, Сережа, тогда еще совсем молоденький. Академик читал курс экспериментальной, или «общей», физики. Эти лекции, в отличие от всех других, не давали строго систематических знаний. Тем не менее уже тогда мы интуитивно понимали их большую важность и всегда являлись на них в полном составе. И интуиция нас не подвела. Сейчас, по прошествии более чем тридцати лет, эти лекции выступают в ретроспективном осознании как самое яркое из всего, что украшало наши студенческие годы, как дорогое воспоминание, окрашивающее ностальгическим чувством то невозвратное время. И причина этого проста: на лекциях Капицы мы и в самом деле сталкивались с очень важной вещью – тем настроем души, который обеспечил ученым прошлого возможность создать могучую современную науку и после этого стал постепенно угасать, уступая место настрою совершенно иному, на него не похожему и уже не содержащему в себе такого творческого потенциала. Застать и почувствовать «кожей» этот чистый дух физического исследования, породивший нынешнюю всепроникающую технологию и этой самой технологией угашенный, посчастливилось из ныне здравствующих людей сравнительно немногим. И среди тех, кому повезло, были мы – молодые студенты физтеха.
Ткань этих лекций имела четко выраженные продольные и поперечные нити. Продольными, проходящими через весь курс, были замечательные «лирические отступления» – рассказы о физиках, об их судьбе, о благородстве одних из них и неблаговидных поступках других, воспоминания о великом Резерфорде, а также спонтанно рождающиеся по ходу изложения размышления на самые различные темы – от проблемы приоритета в науке до постановки дела подготовки научных кадров. В этой части Капица воспитывал нас как людей, прививал нам те нравственные принципы, которые были характерны для ученых великой романтической эпохи. Поперечными нитями служили конкретные частные вопросы, которые входили в учебную программу – скажем, свойства гравитационного поля, устройство катушки Румкорфа, внутреннее преломление света и т. п. Но и здесь Капица не только учил нас, но и воспитывал – теперь уже как будущих физиков, исследователей. Тут он как раз и вырабатывал в нас отношение к физике, как к страшно интересному предмету. Средство, употребляемое им для этого, было всегда одно: ставя тот или иной, тысячи раз поставленный ранее, опыт или выводя на доске давно входящую во все учебники формулу, он делал это так, будто все происходит впервые в истории, т. е. на наших глазах совершается Открытие! Как и все остальное, Капица делал это вполне обдуманно. Однажды на лекции он даже приоткрыл нам тайну своего метода – правда, говоря не о себе, а о своем учителе Резерфорде. Он рассказывал, как Резерфорд на своих лекциях каждый раз заново выводил закон соударения двух твердых шариков (формула была необходима ему для обоснования своей революционной модели атома, предполагающей наличие весьма малого ядра и сравнительно обширной электронной оболочки), к следующему разу все опять забывая и, видимо, намеренно не желая готовить вывод перед лекцией. Капица одобрял и как бы «непрофессиональное» поведение Резерфорда, считая, что некоторая затяжка времени окупается здесь подлинностью демонстрируемого творческого процесса. И, раз он одобрял его, значит, считал желательным подражать ему – и действительно подражал. Одним из полезнейших следствий такого рода поведения было то, что Капица своим примером учил нас удивляться. Ведь без способности удивляться тому, что для остальных кажется само собой разумеющимся, нет настоящего ученого. Говорят, у Ньютона был старший брат – как и их отец, простой фермер. Однажды будущий физик, тогда еще юноша, сказал брату: «Знаешь, что меня поражает? Что все тела падают вниз!» Тот в ответ покатился со смеху: «Ну и глуп же ты, Исаак, куда же им падать – вверх, что ли?» А потом младший брат стал гениальным ученым, а старший так и остался землепашцем. Не знаю, был ли и вправду такой эпизод в жизни Ньютона, но уверен, что общая теория относительности была обязана своим возникновением тому, что однажды Эйнштейн удивился независимости ускорения тел в гравитационном поле от их массы.
Вот этим-то умением широко открытыми и удивленными глазами смотреть на природные процессы Капица заражал своих учеников. Для него был важен внутренний настрой человека, наличие в человеке научного романтизма, и тогда он выделял его из массы и старался помочь утвердиться в физике. В этой связи расскажу о случае, относящемся ко мне, так как это тот случай, который известен мне лучше всех других. Кажется, в начале второго курса я ради интереса поставил перед собой задачу: каковы должны быть длина и толщина кварцевой нити, чтобы использующие ее крутильные весы могли обнаружить световое давление? Конечно, задача эта очень проста, но на тогдашнем уровне моих математических познаний мне пришлось с ней основательно повозиться. Наконец я получил нужную формулу, подставил в нее параметры кварца и выписал окончательный ответ. Гордый самостоятельно полученным результатом, я оформил его в виде микрореферата, сделав поясняющие чертежи и рисунки. Не помню, кому я хвалился этим «трактатом», но каким-то путем он дошел до Капицы. И вот я узнаю: Петр Леонидович говорит на кафедре, что студенту Тростникову надо предоставить все необходимые материалы и приборы и пусть он в институтской лаборатории поставит опыт Лебедева. По какой-то причине я этого не сделал, но сам факт интереса у знаменитого академика к моему «детскому лепету» произвел на меня сильное впечатление и заставил о многом задуматься. Но лишь теперь я до конца понял, что скрывалось за этим неожиданным интересом. Капица учил нас не физике, а учил быть физиками, а понятие «физик», как и вообще «ученый», определяется не внешними признаками – суммой знаний, – а внутренними – способностью быть любопытным по отношению к природе и стремлением во что бы то ни стало свое любопытство удовлетворить.
С убежденностью Капицы в первичности внутреннего фактора в творчестве и в «производной» природе внешнего я столкнулся несколько позже еще раз. Увлекшись математикой, я задумал перейти на мехмат МГУ. Переводы такого рода администрацией не поощряются, поэтому я попросил аудиенции у Петра Леонидовича, рассчитывая на его содействие. Рассказав об изменении своих интересов, я спросил, не сможет ли он походатайствовать за меня перед ректором. Не стану приводить всю нашу беседу, имевшую для меня большое воспитательное значение, но в ней Капица выразил мнение, что совершенно не важно, какой диплом получает начинающий ученый, ибо важно только то, чем он интересуется. «Вы вполне можете заниматься математикой, кончив физический факультет», – сказал мне Капица, и этой фразой проблема, так долго мучившая меня, была мгновенно решена. Добавлю, что, окончив физфак МГУ, я впоследствии стал заниматься чистой математикой и диссертацию защитил уже в этой области науки, так что мудрость моего наставника вполне себя оправдала.
Понимая, что нельзя ждать, пока каждый студент сам увлечется чем-то и самостоятельно поставит перед собой задачу, которая на его стадии развития будет для него творческой проблемой, он решил помочь нам и дал собственную подборку физических задач. В годы нашей учебы она «ходила по рукам» в машинописном виде и лишь в шестидесятых годах была опубликована в брошюре издательства «Знание». Затем, уже в дополненном виде, она печаталась и в других издательствах, и ныне достаточно широко известна, так что анализировать ее тут нет надобности. Скажу только, что все «задачи Капицы» были сформулированы именно так, чтобы студент, избравший какую-то из них для размышления, чувствовал себя пионером в исследовании некоторого явления, поскольку к ним не было дано никаких ответов и даже было непонятно, решал ли их сам Капица или нет. Характерной особенностью этих задач было то, что нужные для решения параметры не давались и их приходилось брать из справочников, а также то, что при решении необходимо было учитывать не только свойства того объекта, по отношению к которому ставился вопрос, но и поведение окружающей его среды, т. е. четко осознавать всю физическую ситуацию в целом. Скажем, решить задачу: «Река образует наклонную плоскость; может ли тело из-за этого плыть по реке со скоростью, превышающей скорость течения?» – можно лишь при том условии, что человек разобрался в картине распределения скоростей в толще воды. «Скоростью течения» мы называем фактически только скорость самого верхнего слоя воды, но под ним лежат слои, имеющие все меньшую скорость движения, а на самом дне вода неподвижна. Этот, обычно игнорируемый, факт и всплывает наружу, когда мы приступаем к размышлению над задачей, и уже одно это оказывается полезным.
Я добавил бы к этому, что «задачи Капицы» трогательны сквозящей в них заботой о студентах. Труд по их составлению был проявлением душевной щедрости, т. е. в конечном счете любви к людям. Те, кто знал Петра Леонидовича близко, единодушно говорят, что он был исключительно доброжелательным человеком. Нам, конечно, было не так просто уловить эту его черту, так как разница положений студента и академика все же очень велика и особой интимности в отношениях здесь быть не может. Сокровенность его доброты усугублялась еще и тем, что это был человек железной воли, а это качество воспринимается людьми, не обладающими большим жизненным опытом, как противоположное доброте.
Но мне все же повезло и здесь. Однажды я совершенно случайно присутствовал при его неожиданной встрече с академиком В.А. Фоком. Я писал тогда брошюру об А.А. Фридмане и нуждался в интервью с хорошо знавшим его Фоком. Последний назначил мне встречу в Президиуме Академии наук СССР, куда прибыл из Ленинграда по какому-то делу. И вот, в момент нашего разговора, в комнату случайно заглянул Капица. Не могу передать, как просияло его лицо. Я был надолго забыт и затаив дыхание следил из уголка за сценой свидания двух любящих друг друга людей. Не было такой мелочи, относящейся к быту, которую бы не выспросил Петр Леонидович, выясняя, насколько удобно устроился в Москве Владимир Александрович. Много раз при этом дознании он приходил в ужас от жутковатых условий проживания ученого и каждый раз при этом предлагал переехать к нему на Николину гору, уверяя, что этот переезд не составит никакого труда, так как есть и машина и шофер. Неуютное казенное помещение вдруг озарилось светом и наполнилось теплом, а два титана мировой науки вдруг сбросили маски «величия» и сделались теми, кем они всегда на самом деле и оставались – навеки преданными друг другу товарищами.
Вспоминая невольно подсмотренную мною встречу академиков Капицы и Фока, я вижу в ней теперь новую сторону. Я начинаю догадываться, что эмоциональность этого свидания объяснялась тем, что тогда сошлись два представителя вымирающей породы ученых, сошлись «последние из могикан». Фок был всего на четыре года младше Капицы и в молодости варился в той же кухне европейской физики, которая была родной и для Капицы. Хотя Капица был экспериментатором, а Фок – теоретиком, они были близкими коллегами по созданию новой физики, основанной на ядерно-оболочечной модели атома и квантовых представлениях. В этой работе они участвовали совместно с блестящими физиками своего поколения Бором, Дэвиссоном, Комптоном, Де Бройлем, Гейзенбергом, Шредингером, Дираком, Паули, Штерном, Эренфестом и другими. А в то время, когда произошла их встреча в апартаментах Академии наук, большинство из этих физиков, чьи имена звучат для нас как абстрактные символы таких-то открытий, а для них наполнялись конкретными воспоминаниями о близких людях, каждый из которых был неповторимой, непохожей ни на кого другого личностью, – большинство из них уже оставили сей мир. Два тлеющих уголька, оставшихся от грандиозного костра человеческого гения, волею судьбы сблизились и на несколько минут стали снова разгораться. Но вернуть тот небывалый огонь, осветивший глубочайшие тайны материи, было уже невозможно…
Да, своеобразие прошедшей эпохи, ее «психологический тип», проявлявшийся в наиболее активных ее деятелях, нельзя воспроизвести заново, даже если очень захочется. В жизни человечества все настолько связано, что для восстановления прежнего духовного настроя надо было бы восстановить всю структуру прежней жизни, начиная от бытовых условий и средств связи и кончая распространенными тогда традициями; а к тому же и вычеркнуть из памяти новейшую историю, оказывающую на умы необратимое воздействие. Это, разумеется, совершенно невозможно, еще не было в истории случая, чтобы ностальгия, пусть даже очень сильная, породила что-то более серьезное, чем стилизацию под старину и музеи. И было бы пустым занятием призывать сейчас к тому, чтобы наука опять украсилась ореолом романтики, окружавшим ее в начале нашего столетия. Этот атрибут придали ей тысячи и миллионы объективных причин, нам неподвластных и в большинстве своем нам неизвестных. Плеяда научных романтиков сделала свое историческое дело и удалилась со сцены. Это произошло уже на наших глазах, ибо мы видели и знали того из плеяды, кто ушел последним, – Петра Леонидовича Капицу. И мы должны ясно понять, что в ближайшее время таких людей в науке уже не будет, ибо настала новая эпоха.
Но хотя мы не можем вернуть прошедшего (да это и не нужно), мы обязаны сделать из него выводы, которые могут быть полезными для настоящего. Вглядевшись в ярчайшего представителя этого прошедшего – Капицу, мы заметили, что главной чертой его натуры было отношение к науке как увлекательнейшему разгадыванию загадок природы, т. е. как к занятию чрезвычайно интересному, независимо от получаемой от него выгоды – как для общества, так и для себя лично. Конечно, эта же черта была свойственна и всем крупным физикам его эпохи, работавшим в первой половине двадцатого века. Это были подлинные энтузиасты, а нередко и фанатики науки, и величайшее счастье им доставлял сам процесс исследования. И что же? Именно эти бескорыстные романтики заложили базу всей той корысти, которую мы извлекаем теперь в огромных количествах из научных достижений. Когда они стали уходить из науки, расширение и укрепление этой базы остановилось. Ведь не секрет, что после создания в 1930-х годах квантовой механики, т. е. на протяжении уже пятидесяти лет, в физике не было получено ни одного фундаментального результата. Теория элементарных частиц топчется на месте, и ей не помогают миллионные затраты на гигантские ускорители, единой теории поля нет, геометро-динамика представляет собой лишь набор «программ», и даже лазеры, которыми мы так склонны гордиться, явились реализацией теоретического расчета Эйнштейна, сделанного в 1916 году. Но мы не хотим видеть этого и продолжаем говорить и писать о быстром развитии науки, выдавая за него развитие технологии. Однако, когда технология исчерпает научную базу, ее рост прекратится, и тогда нам уже вообще нечем станет гордиться – ни наукой, ни технологией.
Я не могу дать по этому поводу каких-то рекомендаций, да и кто я такой, чтобы давать кому бы то ни было рекомендации? Но я позволю себе высказать на этот счет некоторые субъективные соображения, навеянные образом Капицы. Мне кажется, что постоянное акцентирование в печати, докладах, по радио и по телевидению практической пользы науки является неправильным и недальновидным. Мы боремся с тем, чтобы наука не превращалась в кормушку для защитивших диссертации, но не понимаем, что ее нельзя представлять кормушкой и для всего человечества в целом. Конечно, не надо делать вид, будто нас интересует лишь чистое познание, а не польза, но надо начинать не с пользы, а с познания. Если оно будет истинным, а не фальшивым, то польза последует обязательно, ибо никакое проникновение в тайны природы не может не принести пользы – в том или ином смысле. В понятии «научно-техническая революция» мы делаем ударение не на том слове, и это совсем не безобидно, ибо может привести к тому, что никакой «революции» вообще не произойдет. В произнесении этой формулы нам нужно подражать нашим великим покойным учителям, которые совершили полвека назад великую научную революцию, а совершив, не впали в хвастливость и не ударились в прожектерство, а до конца своих дней оставались в твердом убеждении, что величайшим из всех триумфов является триумф познающей мир человеческой мысли.
Он один знал, куда ведет Россию
Старец проснулся в обычное время, попытался подняться и не смог, такая охватила слабость. И понял, что уже не встанет.
За окном было еще темно, бревенчатые стены озарялись лишь тусклой лампадкой. Страха смерти не было. И снова, в который раз, он начал перебирать свою жизнь, чтобы еще до Страшного Суда дать ей свою собственную оценку.
Если это был он
Скромный путевой дворец. Скоро зима. Что делать? Возвращаться в Петербург, ежедневно напоминающий ему об отце, опять оказаться в центре придворной суеты и с деланой улыбкой на лице ждать, когда масоны приведут в исполнение приговор, вынесенный ему за запрещение их лож? Господи, но это же было свыше моих сил! А тут такой шанс, какого больше не будет. Верный друг Дибич не проболтается, а лейб-медик Вилье за хорошие деньги составит заключение о смерти. И составил, только в протоколе осмотра трупа допустил ошибку: отметив повреждение от падения в молодости с лошади, о котором не раз слышал, перепутал левую ногу с правой. Но на это, к счастью, никто не обратил тогда внимания.
Господи, простишь ли меня за это решение? Обман народа, вовлечение брата в великий грех – помазание в
Успенском соборе на царство при живом миропомазаннике. Старец застонал, как от физической боли, и уставшая от напряжения его душа обратилась к более светлым воспоминаниям – к романтической дружбе с Адамом Чарторыжским, ко встрече в Париже с Лагарпом, который воспитывал его в республиканском духе, а потом сам стал убежденным монархистом. И, конечно, как всегда, появился тот самоуверенный, смелый, гениальный – с которым он шесть лет вел сложнейшую партию-многоходовку и поставил-таки ему под Лейпцигом мат, оказавшись более хитрым игроком, что и сам побежденный признал на острове Святой Елены…
Вот какие тени слетались к убогой крестьянской избе на окраине Томска в начале февраля 1864 года. Если, конечно, это был ОН.
Начало царствования
Не было в России монарха более недооцененного, более окарикатуренного в литературе, а потом и в фильмах, чем Александр Первый. «Плешивый щеголь, враг труда» – вот что получил он вместо благодарности за труды на благо Отечества. И от кого получил? От поэта, выучившегося на его деньги в основанном им лицее – одном из многочисленных новых учебных заведений, сеть которых царь создавал на всей территории России, считая просвещение граждан важным этапом подготовки отмены крепостничества. Даже к ненавидимому дворянством за попытки ограничить его своеволие и потому оклеветанному Павлу история не так несправедлива.
А за что, кроме просвещения, было благодарить Александра I – может, больше и не за что? Ответить на этот вопрос чрезвычайно легко, надо лишь вспомнить евангельскую мудрость: о дереве судят по его плодам. А плоды всякого царствования – суть те изменения, которые произошли в стране за его годы. Значит, нам надо взять Россию 1825 года, когда Александр покинул трон, и вычесть из нее Россию 1801 года, когда он на него взошел. Разница и будет плодом, по которому надо оценивать правление этого императора.
Политическое наследие, которое ему досталось, было ужасающим. Никакого законного государственного порядка не существовало, действия власти, как и то, кто завтра будет у власти, предсказать было невозможно. Дворянская верхушка, трепетавшая перед Петром и потому державшаяся в рамках дисциплины, после его смерти с накопившимся за 30 лет нетерпением рванулась к власти. Пользуясь тем, что Петр не оставил никаких указаний, касающихся твердого порядка престолонаследия, она стала действовать, как преторианцы в Древнем Риме – возводить на трон того, кто, по ее мнению, хорош для нее. Так наступила «эпоха дворцовых переворотов», как назвал ее Ключевский. Легкость смены монархов была невероятной. Анна Иоанновна стала императрицей по интригам одного человека – боярина Димитрия Голицына; Елизавету Петровну посадили на престол 19 гвардейцев; убили Петра Третьего и наделили верховной властью Екатерину Вторую два человека – братья Орловы; зверски забили до смерти Павла Первого – граф Пален с десятком пьяных подельников. Тридцатилетнее отсутствие переворотов при Екатерине (не считая неудавшейся попытки Пугачева) не должно создать иллюзии, будто установилась наконец законность. Наоборот, на большинство населения, т. е. на крепостных крестьян, распространилось в этот период самое чудовищное беззаконие – они были превращены в безгласных и бесправных рабов. Просто эта мудрая правительница всемерно баловала дворян – дарила им земли, отнятые у монастырей и завоеванные в результате успешных военных кампаний, истратила 40 миллионов на своих фаворитов. Понятно, что они пылинки сдували со своей «матушки-государыни».
Правил железной рукой в бархатной перчатке
Вот какую страну получил в свои руки Александр – северный вариант латиноамериканской «банановой республики», где все решает очередная хунта. При этом ему был показан изуродованный труп отца, увидев который он, как стоял, так и рухнул навзничь. Это был намек: видишь, что бывает с царями, которые не находят с нами общего языка! Этот намек Александр прекрасно понял и в один день превратился из юноши с открытым сердцем, видящим в каждом человеке прежде всего хорошее, в глубоко спрятавшего в себе свои настоящие мысли и чувства актера, игравшего роль безобидного простачка. Он прослыл безвольным, подверженным внешним влияниям – то «интимного кабинета», то Сперанского, то Аракчеева, то архимандрита Фотия – и этим усыпил бдительность дворянства и сохранил себе жизнь, а на самом деле он умело использовал то одних, то других фигурантов, чтобы они, каждый на своем этапе, содействовали осуществлению его стратегической программы, известной только ему. И вдобавок к тому, что он переиграл французского императора, ему удалось переиграть и русское дворянство, сковав его амбиции прочной сетью законов, властью Государственного совета, укреплением местной администрации разного уровня нормативными актами, накопившимися постепенно и незаметно. И когда очередные заговорщики 14 декабря 1825 года подошли к Зимнему дворцу уже не с кучкой авантюристов, а с целым войском, вместо взрыва, который должен был сбросить Николая, получился пшик: Россия была уже не та. В конце царствования Александра она стала ПРАВОВЫМ ГОСУДАРСТВОМ, пусть даже лишь отчасти.
Стоит ли докапываться до правды?
Неужели он дожил-таки до освобождения крестьян, о котором мечтал с первых дней своего правления и которое так основательно и всесторонне подготавливал?
Есть много убедительных доводов в пользу мнения, что таинственный сибирский старец Федор Кузьмич был на самом деле покинувшим престол императором Александром. Но все эти доводы косвенные. Прямым доказательством мог бы стать только сравнительный анализ ДНК. Провести его проще простого. В Томске лежат мощи Федора Кузьмича, ставшего местночтимым святым, в Голландии наверняка найдутся потомки по женской линии королевы Анны Павловны – родной сестры Александра Павловича. Московский патриарх и нынешняя голландская королева Беатрикс благословение на экспертизу, думается, дадут, а обойдется она всего в несколько тысяч долларов. Вопрос в другом: нужно ли раскрывать тайну человека, который сознательно решил унести ее в могилу?
Кто нашей стране нужней – губернаторы или сатирики?
Двадцать восьмого января 2006 года исполнилось 180 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Круглая дата весьма кстати заставляет нас вспомнить об этом выдающемся сыне России, который в последнее время почти выпал из нашего общественного сознания. Кстати не только потому, что забывать о людях, составляющих гордость нации, всегда нехорошо, но и потому, что для осмысления сути его творчества нынче есть особые причины.
Два дела ради одной цели
По прошествии длительного времени мы обычно имеем дело не с человеком, а с его образом, и чем масштабнее человек, тем большему искажению подвергается его образ. В случае Салтыкова-Щедрина – фигуры масштаба поистине громадного – образ потерял всякую схожесть с оригиналом, и нам надо начать с восстановления хотя бы минимальной правды об этом деятеле.
Правду о нем надо искать прежде всего в том, как воспринимали его современники, что он делал для той России, в которой жил. А делал он вот что: с огромным напряжением, на пределе отпущенных ему сил и очень действенно служил тому конкретному отечеству, в рамках которого протекало его земное существование.
А что было отпущено ему судьбой? Великий литературный талант, редкие административные способности и бесконечная любовь к своей Родине. Окончив знаменитый Царскосельский лицей, задуманный Александром Первым как «кузница высших управленческих кадров», он уже в возрасте 18 лет поступил на государственную службу, на которой с небольшими перерывами провел около двадцати лет. Эта сторона его жизнедеятельности часто замалчивается, и очень напрасно, ибо по затраченной на нее энергии и принесенной ею пользе она вполне сравнима с его литературным трудом. В Рязани, а затем в Твери он был вице-губернатором. В трех губерниях – Пензенской, Тульской и той же Рязанской он занимал другую генеральскую должность управляющего казенной палатой – фактически местного министра финансов. И главным, чему он посвящал свои усилия на этих высоких постах, была борьба с коррупцией, как и ныне, захлестывавшей тогда Россию. Всюду, где он служил, он становился грозой взяточников.
Вскоре он решил, что локальными мерами положения в стране не исправить и что надо привлекать внимание общества к недостаткам административной системы в целом, обволакивающей всех царских ревизоров патриархальной лаской и щедростью и тем самым не позволяющей Петербургу составить истинное представление о ситуации в провинции. Так Салтыков-Щедрин встал на путь литературной сатиры, которая сделалась второй стороной его государственного служения. Но после его кончины вспоминали только об этой второй стороне, и в каждую эпоху трактовали ее так, как было выгодно для текущего момента. Этого он не предусмотрел.
Над кем он смеялся
Что представляют собой «Губернские очерки», «Пошехонская старина», «История одного города», сказки Салтыкова-Щедрина? Конечно, это смех сквозь слезы. Это не бичевание кого-то, каких-то внешних злых сил, это самобичевание. Салтыков-Щедрин говорил читателям: что же мы с вами за люди, не проявляем никакой инициативы и возлагаем все упования только на начальство, которое от этого наглеет и коснеет в лени и тупости? И это «мы» всегда оставалось единственным предметом его едких насмешек, нигде не переходя в «они». В послереформенной России Салтыков-Щедрин был таким знаменитым патриотом, так ясно выразил свое антизападническое мировоззрение в «Убежище Монрепо» и свое восхищение сметкой и умом русского народа в блистательной сказке «Как один мужик двух генералов накормил», так добросовестно нес цареву службу, что никому не могло прийти в голову заподозрить его в русофобии или в призывах к свержению монархии. Зная о своей репутации, он позволял себе порой перегибать палку, и это было проявлением недальновидности, которая впоследствии дала возможность спекулировать на его имени.
Большевики записали его в свои ряды
При советской власти Салтыков-Щедрин сделал посмертно блестящую карьеру, которой, конечно, никогда себе не пожелал бы. Но марксисты не спросили его согласия и беспардонно записали в революционеры. Разумеется, это была величайшая фальсификация. Салтыков-Щедрин убедительно доказывал, что наши беды коренятся в наших собственных недостатках и, чтобы жизнь стала лучше, надо признать эти недостатки, покаяться и очиститься от них; советские идеологи приписали ему совершенно противоположную мысль: мы хорошие, а живем плохо потому, что у нас плохая власть, которую, следовательно, надо сбросить. В таком «откорректированном» виде в 1934 году был экранизирован роман «Господа Головлевы», ничего общего не имевший с революционной пропагандой и представлявший собой высокохудожественный образец критического реализма. В 1946 году в докладе Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» было прямо сказано, что партия «устами Ленина и Сталина неоднократно признавала огромное значение великих русских революционно-демократических писателей и критиков – Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, Плеханова». Вот в какую компанию попал бедный вице-губернатор – все, кроме него, тут откровенно деклассированные маргиналы! Вот цена неосторожности в высказываниях.
Куда конь с копытом, туда и рак с клешней
Но еще хуже, лживее и гаже большевиков извратили литературные находки Салтыкова-Щедрина люди, которые появились лишь в начале двадцатого века, в его середине стали очень популярными, а сегодня просто-таки доминируют на эстраде и на телевидении. Народ метко припечатал их кличкой «смехачи».
Сами-то они считают себя сатириками. Но объект их сатиры – не «мы», а «они», только теперь это уже не власти, а простые русские люди, наш народ. Эта русофобия началась с давнего сюжета Жванецкого «В греческом зале, в греческом зале», а сейчас достигла апогея. Чтобы доказать это, придется, преодолевая отвращение, привести цитату. Как-то раз по всероссийскому телеканалу под «фанеру» с записью идиотского гогота толпы был озвучен неким смехачом такой текст: «Купец поехал в дальние страны, спросил дочерей, что им привезти. Старшая сказала: бальное платье. Средняя сказала: накидку с каменьями. Младшая же попросила: “«Привези мне чудище мохнатое для сексуальных утех”…»
Все. Дальше падать некуда, это дно. Любой узнает здесь самую целомудренную и самую трогательную сказку «Аленький цветочек», вызывавшую слезы умиления и восхищения бескорыстной самоотверженной любовью у многих поколений русских деток. Современному смехачеству необходимо было отравить и это ядом цинизма и пошлости. Теперь оно может торжествовать.
Мне понятно, что могут рождаться на свет такие моральные уроды, как этот «сатирик». Мне понятно и то, что по нашей лености не нашлось человека, который специально разыскал бы этого негодяя, чтобы плюнуть ему в лицо. Но одного я так и не могу понять – что в его репризе смешного.
Думаю, этого не понял бы и Салтыков-Щедрин, если бы вернулся к жизни. А мы не стали бы ему ничего объяснять и посоветовали бы, дабы не плодить бездарных подражателей, не высмеивать глупость публично, а возглавить какую-нибудь губернию и устраивать в ней жизнь по-умному.
За всех за нас вы думали в Кремле
Начиная разговор о Сталине, нужно отдавать себе отчет в том, что ты непременно навлечешь на себя чей-то гнев. Что бы ты о нем ни сказал, какую бы-ни дал оценку его личности и его деятельности, всегда найдется достаточно много людей, которых это возмутит. Единственным способом избежать негодования было бы говорить о Сталине так, как говорят о Навуходоносоре, жившем две с половиной тысячи лет назад и сделавшемся за это время чистой абстракцией. Но это невозможно, ибо для большинства наших граждан умерший всего полвека назад вождь представляет собой живую конкретность.
Однако само наше пристрастное отношение к этой персоне делает ее обсуждение актуальным и даже необходимым. Ведь все равно рано или поздно эмоции надо будет заменить трезвым подходом, и лучше это начать делать до того, как историческая правда начнет забываться и вместо реального Сталина появится Сталин мифологический. Пятьдесят лет – срок для этого оптимальный: страсти уже поостыли, а колоссальная фигура, нависавшая недавно надо всем миром, еще живет в нашей памяти.
Объективный подход должен заключаться в том, чтобы оценивать Сталина исключительно по историческому результату его правления, полностью отвлекаясь от специфики тех средств, которые он применял для достижения этого результата. Конечно, отвлечься от них психологически трудно, ибо именно средства, к которым он прибегал, больше всего задевают за живое, но постараться сделать это необходимо. Иначе уйдет время истины, которое примерно через пятьдесят лет кончается, вместе с уходом из жизни последних свидетелей эпохи. Именно через такой период Толстой дал верное описание Отечественной войны 1812 года, а Фолкнер – Гражданской войны в США.