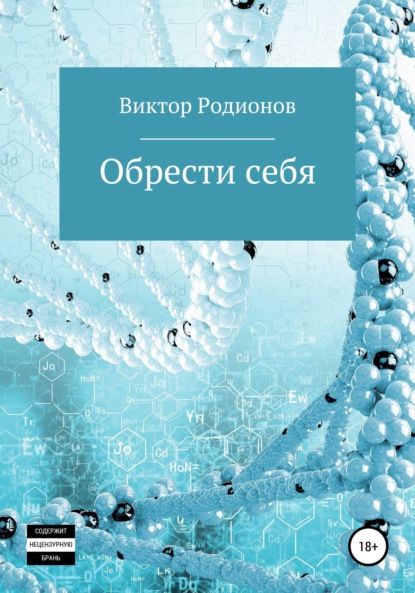По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Обрести себя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Славик, глупая я была, – прости меня, если сможешь, – надо было слушать маму… Сама себя я вряд ли когда-нибудь прощу… Не повторяйте моих ошибок со своими детьми…
Потом она говорила, что надо бы показаться врачу, и надо подумать, к кому лучше, что вот если бы была жива бабушка…
Я слушал, кивал головой, и мне было всё равно, – всё плыло, слова слышались откуда-то из тумана, лекарственный морок одолел меня, – я уже засыпал…
С того дня, дядя Боря исчез из моей жизни. Уже навсегда. Если я и вспоминал тот случай, он уже не вызывал никаких эмоций, – как будто всё это происходило не со мною. Врач не понадобился. «Гнилой зуб» выпал сам…
А пение птиц мне больше не казалось эротичным. Я совершенно успокоился и … шагнул на следующую ступень своей жизни…
Платье
Неожиданно для меня, у нас с мамой установились доверительные отношения. Оказалось, она давно ждала этого, но не торопила события, – ждала пока я «созрею» сам. Я стал иногда советоваться с ней.
Мы теперь часто проводили вечера все вместе, – пили чай, или просто сидели и разговаривали, – была та же удивительная атмосфера, как тогда, когда мы сидели на моей постели втроём, накрывшись одеялом. Однажды, под настроение, я рассказал тот свой случай с насосом, – Ленка-то давно об этом знала, но мама слышала эту историю впервые, – и все смеялись от души. Насмеявшись, мама сказала:
– Не знала я, что у мальчиков это бывает так. Я же девочкой была. Вот был бы отец у вас…
Я стал романтичнее и мечтательнее: теперь меня интересовала тема любви, и я летними вечерами читал разные книги, – я хотел понять для себя, разобраться, что это такое, – любовь. Наконец, я вернулся и к романам «про любовь».
Во всех романах, любовь обычно была несчастна, герои страдали, и вокруг этих страданий строился весь сюжет. Романтичности добавляла разлука или другие непреодолимые препятствия.
Ромео и Джульетта, Петрарка и Лаура, Татьяна и Евгений и многие, многие другие, – всё это были совершенно разные истории, но их объединяло одно, – любовные переживания героев, воспевание возлюбленных и невозможность быть вместе. В одних романах чувства были взаимными, в других – безответными, а в третьих, – герой влюблялся в придуманный им самим образ. Ни у одного романа не было счастливого конца.
«Скорее всего, это просто особенность жанра», – размышлял я. – «Но не могла же она возникнуть на пустом месте. Возможно, это просто особенность человеческой натуры: потребность людей сопереживать героям и породила эти романы. Странная какая она, – эта любовь, – к чему все эти страдания?».
Перечитывал я и те книги, которые читал раньше. И каждый раз заново осознавал их.
Какими же пошлыми мне стали казаться истории, описанные в «Метаморфозах» у Апулея, и я удивлялся, как мне это вообще могло нравиться. Думаю, всему виною была та «буря», которая правила моей душой в течение нескольких месяцев. Правда тогда, в прошлом году, я не дочитал эту книгу до конца, – там герой снова возвращается к человеческому облику, а потом сильно меняется и даже становится священником. Мне в то время это показалось скучным, и книгу я отложил. Взяв её вновь, и полистав, я заинтересовался и, наконец, осознал: это был авторский ход, – гипертрофированное изображение пороков тогдашнего общества, – это был канун распада римской империи, – и порочность самого героя, просто усиливали впечатления о том, какой духовный путь пришлось пройти герою, испытавшему настоящую метаморфозу. Эта книга, похоже, и не задумывалась, как сборник эротических историй. Пошлый эротизм, мерзкие поступки героев в её первых частях были нарочитыми и служили просто для назидания, оттеняя главную мысль последних разделов произведения, – они были почти богословскими, – автор размышлял о Боге и о путях спасения.
Любви там не было.
И я продолжал свои поиски…
В сентябре начался новый учебный год, и наступила обычная рутина. Внезапно для себя, я заметил девочку из параллельного класса, Маринку. Я знал её и раньше, но не обращал на неё никакого внимания. Маринка за лето сильно изменилась, – она как-то налилась, округлилась и стала совсем девицей. Мне она показалась очень милой. Когда я заговаривал с ней, то ощущал какие-то флюиды, исходящие от неё: она оказалась очень обаятельной и умной.
И я влюбился! Она стала сниться мне по ночам. Её мысленный образ я носил с собой, как драгоценную жемчужину… Это были совершенно новые для меня чувства, совершенно не те, которые я испытывал к «тому насосу», Эдику, – в них совсем не было плотских желаний. Наоборот, сама мысль о плотских желаниях по отношению к ней, была кощунственной: для меня она была недосягаемым идеалом.
Я постоянно искал повода быть рядом с ней. Я даже изучил расписание её класса и специально задерживался после пятого урока, если у них было шесть. Я как будто невзначай встречал её, и мы шли домой рядом, – она жила недалеко от нашего дома и было по пути. Ну, почти… Иногда она доверяла мне нести свой портфель, и я нёс его как великую ценность: к нему прикасалась рука моей возлюбленной!
Я шёл рядом, мы весело болтали, и я испытывал нестерпимое желание взять её за руку. От этой мысли я трепетал, и… не смел прикоснуться к ней. Я страдал от этого, но боялся, что простое прикосновение что-то разрушит в моей душе. Стихов я никогда не учил, но вдруг они сами иногда приходили в голову, и я цитировал сонеты Петрарки, стихи Сафо. Как-то раз мы разговаривали об античности, и я к слову продекламировал ей наизусть отрывок «Энеиды» Вергилия на латыни, – она слышала звучание этого языка впервые, и слушала, как мне казалось, с интересом. А я, гордясь своей «учёностью», заливался соловьём. Соловьём с павлиньим хвостом!
Но, она не была, – как пишут в романах, – «благосклонна» ко мне. Оказалось, ей просто нравился другой парень, существенно старше нас – сокурсник её старшего брата. Однажды, я застал их вместе, и увидев, как она смотрит на него, и как улыбается ему, всё понял… Вначале я ревновал, злился на него, а потом смирился. Постепенно её образ померк, и она стала мне безразлична.
Шло время…
С Ленкой тоже явно что-то происходило.
У нас стал бывать Стас, – он был уже в десятом, – он приходил к нам поиграть со мною в шахматы и посмотреть бабушкины книги. Когда Ленка была рядом, он играл как-то рассеяно, невпопад. Я видел взгляды, которые он тайком бросает на Ленку, и догадался: он был влюблён в мою сестрёнку!
Ленка с ним была весела, они болтали, хохотали и даже немного возились: ставили руки на локти и боролись ими. А потом иногда начинали шутливо препираться и толкаться, прямо как в детстве. Она была с ним… тем озорным мальчишкой из дворовой ватаги, – и как юношу она его, похоже, не воспринимала. И, как написали бы в романе:
«Она отвергла его любовь и тем разбила его юное сердце».
Вскоре Стас утратил интерес к «шахматам» и ходить к нам перестал.
Как оказалось, Ленка просто была влюблена в другого!
Я догадался об этом, когда однажды, войдя в комнату, обнаружил её сидящей в полутьме на подоконнике с мечтательным выражением лица. Она подняла на меня свои глаза, и в них было что-то такое, что я сразу решил: нужно оставить её одну.
Через некоторое время дверь нашей комнаты хлопнула, и я пошёл к себе. Ленка встретилась мне по пути. Она была спокойная и задумчивая. Задержав меня на мгновение, и чмокнув в щёку, она пошла дальше. Мне всё вдруг стало ясно!
Скорее из озорства, чем из любопытства, я как-то с улыбкой спросил её:
– Ну, и кто твой рыцарь?!
В ответ я ожидал услышать что-нибудь из рода «Дура-а-к!» или про секреты от девочек и мальчиков. Но она, опустив взгляд, просто ответила:
– Никто… Потом узнаешь.
Её вид умилил меня, и я обнял её…
Ни с того, ни сего, Ленка решила сшить себе платье. Она отродясь никогда не занималась рукоделием, а тут – раз, и надумала.
Вытащив из шкафа коробку с детальками от Зингера, она, повозившись с машинкой несколько вечеров, собрала её и наладила: на этом антиквариате стало можно шить.
Мама в молодости шила на Зингере, пока машинка не испортилась; и она взялась помочь Ленке.
Они долго что-то выбирали в журналах, обсуждали, рисовали на бумаге и вырезали выкройки, а потом скалывали их булавками, и Ленка в этих бумажных «платьях» вертелась перед зеркалом. Потом они выбирали ткань.
Всё это было долго, основательно, и создавало ощущение, что творится великое таинство.
«Это для Него!» – догадывался я, и меня это очень забавляло.
Раскроив ткани, Ленка сидела и сшивала куски белой ниткой. Она постоянно кололась иголкой и чертыхалась. Вроде, шов, как шов, но ей он казался неровным, или нитки путались, – она переделывала, – и упорно продолжала своё занятие. На мамины предложения о помощи, она отвечала:
– Я сама!
Наконец, подготовленные части платья были торжественно уложены на стол. Шитьё было намечено на воскресение.
В старших классах, после окончания уроков, никто обычно сразу не уходил, – толпились на крыльце, болтали, смеялись, кто-то тайком курил, – у всех были свои дела. Потом, собираясь небольшими компаниями, постепенно расходились.
В пятницу я пришёл домой немного позже Ленки, – после уроков у нас был классный час. Войдя в квартиру, я заметил, что Ленкино пальто висит на вешалке несколько небрежно, а туфли валяются на полу, как будто их в спешке просто сбросили.
«Приспичило», – подумал я и вошёл в комнату.
Нет, не «приспичило». Войдя в комнату, я услышал Ленкины всхлипывания и успел заметить, что заготовки платья комком валяются в углу. У меня сразу мелькнула догадка:
«Поссорились»!