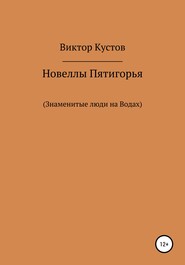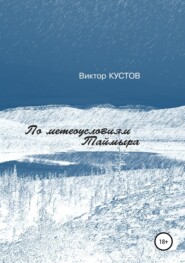По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вестник. Повесть о Данииле Андрееве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не то. Надо найти себе бога и поверить в мудрость его…
Как всегда, мы заспорили. После одного из таких споров он прислал мне корректуру рассказа «Стена». А по поводу «Призраков» он сказал мне:
– Безумный, который стучит, это – я, а деятельный Егор – ты. Тебе действительно присуще чувство уверенности в силе твоей, это и есть главный пункт твоего безумия и безумия всех подобных тебе романтиков, идеализаторов разума, оторванных мечтой своей от жизни».
И Даниил был благодарен Горькому за это признание в собственном безумии и от этого ещё больше уважал отца, сожалея, что не имел счастья вести с ним подобные беседы. Может быть потому, что был мал. А может по какой другой причине…
«Я знаю, что бог и дьявол только символы, но мне кажется, что вся жизнь людей, весь её смысл, в том, чтобы бесконечно, беспредельно расширять эти символы, питая их плотью и кровью мира. А вложив все, до конца, силы свои в эти две противоположности, человечество исчезнет. Они же станут плотскими реальностями и останутся жить в пустоте вселенной глаз на глаз друг с другом, непобедимые, бессмертные. В этом нет смысла? Но его нигде, ни в чём нет».
Эту фразу Даниил выделил особо, ещё до конца не постигув её смысла, но отчего-то зная, что обязательно к ней вернётся.
А ещё он подчеркнул, с улыбкой и удивлением:
«…И наконец русский писатель обязан быть либералом, социалистом, революционером – чёрт знает, чем ещё! И – всего меньше – самим собою.
Усмехаясь, он добавил:
– По этому пути шёл мой хороший приятель Горький, и – от него осталось почтенное, но – пустое место. Не сердись».
И Горький представился ему грешником, который вот так исповедально пытался всенародно покаяться…
Теперь Даниил более всего близок с Коваленским. Тот всё ещё ходит в корсете. К тому же у него обнаружилась эпилепсия. Даниилу семнадцать, ему двадцать шесть и он жалуется всем знакомым, что до сих пор ничего не сделал в жизни значимого и не стал чем-нибудь… Но для Даниила он прежде всего поэт. У него необыкновенный творческий ум, эрудиция, музыкальный вкус, хорошо играет на фисгармонии, рисует. Он очаровывал самого скептически настроенного собеседника, не скрывал своих мистических убеждений и знакомые женщины влюблялись в него, а заодно и в Шурочку. Ольга Бессарабова не скрывает своего обожания и по возможности приезжает к ним из пригорода и тогда они говорят ночи напролёт…
Шурочка мужа обожает и даже перестала любить театр, который тот не признавал. И зовёт его ласково «Биша», чтобы отделять от других Александров. А тот в свою очередь стал Даниила, с которым быстро сошёлся, звать «Брюшон».
Коваленский писал стихи в стол, не надеясь на публикацию и читая только самым близким людям. Даниил любил эти вечера читок:
«… Но папоротник абажура
Сквозит цветком нездешних стран…
Бывало ночью сядет Шура
У тихой лампы на диван.
Чуть слышен дождь по ближним крышам.
Да свет каминный на полу
Светлеет, тлеет – тише, тише,
Улыбкой дружеской – во мглу.
Он – рядом с ней. Он тих и важен.
Тетрадь раскрытая в руке…
Вот плавно заструилась пряжа
Стихов, как мягких струй в реке.
Созвездий стройные станицы
Поэтом-магом зажжены,
Уже сверкают сквозь страницы
«Неопалимой купины».
И разверзает странный гений
Мир за мирами, сон за сном,
Огни немыслимых видений,
Осколки солнц в краю земном…»
«Неопалимая купина» – это поэма Коваленского. Для своих.
А ещё Коваленский писал детские стихи. Для всех.
И Даниил хотел быть похожим на него и также легко писать…
Он собирался поступать в университет, но несмотря на то, что вышла книга об отце и тем самым как бы тот был признан новой властью, он был уже «сыном контрреволюционного писателя» и таких даже не допускали к экзаменам.
Поэт Брюсов только основал литературный институт, в который охотно поступали даже наследственные поэты. Здесь учились Игорь Дельвиг, потомок поэта и друга Пушкина, внучка издателя Лена Сытина, дети менее известных, но имеющих отношение к литературе людей, и Даниил решил пойти туда, не сомневаясь в своём поэтическом призвании.
…Сочельник 1924 года встречали большой компанией у искусствоведа Анатолия Васильевича Бакушинского, который был хранителем галереи. устроителем выставок и преподавал Даниилу. Пришли Коваленские, Добровы, Александр с Ириной, Даниил, Оля Бессарабова и другие знакомые хозяина. За столом сели так, что один его конец был занят гостями пожилыми и солидными, другой молодыми. Говорили как всегда в основном об искусстве и может поэтому женщины посплетничали и об облике мужчин. Александр Добров всеми без исключения был признан самым высоким и самым красивым. Коваленский – самым умным. Что же касается Даниила, то Вавочка сказала, что его голова похожа на голову Байрона с профилем Гоголя, но остальным больше понравилось сравнение его с врубелевским демоном, с чертами его отца. Кто-то сказал, что Даниилу можно играть Гамлета без грима. И следом посыпались предположения, что он похож и на композитора Листа и на Паганини, если, конечно, сделать хороший грим.
Обсуждали не очень громко, бросая взгляды на явно смущённого Даниила, который сам считал себя некрасивым.
Шуточно гадали и как всегда читали стихи..
А потом был траурное окончание января – умер Ульянов-Ленин (на плакатах было начертано более точное «Ильич умер. Ленин жив»).
27 января похороны Ленина. День морозный, везде костры и вереницы, толпы людей в гнетущей тишине, разрываемой заводскими гудками.
Олечка Бессарабова не скрывает переполнявших её эмоций: «Острое чувство события огромного значения – смерть Ленина. Его жизнь так тесно слита с жизнью страны. Записываю в отдельной тетради все отзвуки о нём от живых людей, видевших его, работавших с ним, слышавших его. Какая это целеустремлённая, большая жизнь. Человек.
Ленин не только для нашей страны, на весь мир. И не только, когда он жил на свете, а навсегда и на будущее, может быть, ещё больше, чем при его жизни».
Но время берёт своё и 12 февраля Шурочка и Биша отметили два года счастливой семейной жизни. И на этом событии восемнадцатилетний Даниил впервые был в костюме, который ему предложил Коваленский. А Александр Викторович надел чёрную бархатную блузу Даниила с отложным воротником, которая очень пошла ему, так что женщины стали советовать дома ходить всегда в такой одежде.
Говорили о Михаиле Бакунине, о «Бесах» Достоевского и статье Гроссмана о Бакунине и Ставрогине и критике на неё. Одним словом, разгорелись полемические страсти не на шутку, и хорошо, что вовремя перевели разговор на сочинения Уэльса: утопии не вызывают такого накала эмоций.
Этот год закончился тоже печально, в октябре не стало Брюсова. И существование института, собравшего тех, кто уже осознал себя поэтами, или мечтали таковыми стать, стало неясным. Наконец институт был преобразован в высшие государственные литературные курсы, вечерние и платные. Правда преподаватели остались те же, что были в институте, и требования тоже были прежними.
Но более всего занимали разговоры с Коваленским. Невзирая на периодически обострявшуюся болезнь, он не унывал. На новый 1925 год приболевшей Бессарабовой он прислал своё стихотворение: