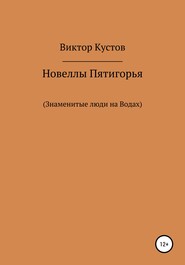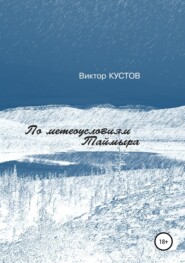По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вестник. Повесть о Данииле Андрееве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ишь буржуй, худышкой стал! А во-вторых, какой я тебе дворник? Кто старое вспомнит – тому глаз вон.
– А вот мы, Василий, настоящее вспоминаем, ты теперь будешь буржуй, ты, мой дворник.
Взрослые картинку обсудили, соглашаясь, что устами младенца отражается та самая истина. А потом дядя Филипп как всегда сел за рояль и то, что было там, за стенами дома, уже не казалось таким пугающим…
Но уверенности дяди Филиппа, и не только его, в прекрасном будущем уже очевидно поубавилось. К тому же ощутимо менялся привычный образ жизни, даже пациенты стали обращаться меньше к своим докторам, словно совсем перестали болеть. Надо было на чём-то зарабатывать, чтобы содержать семью, и доктор Добров составил рецепт дрожжей, благотворно действующих на организм. Стоили они недорого, а отклики первых больных оказались настолько хороши, что желающих их заказать становилось всё больше. Сам дядя Филипп уже не успевал их разносить по адресам, и тогда Даня вызвался помочь. А с ним охотно согласилась бегать по Москве Танечка Оловянишникова, которую он знал столько же, сколько помнил себя. Она жила рядом, была верным другом во всех играх и делах. Вдвоём они обошли почти всю Москву, приобретя привычку к неспешным прогулкам по её улицам с внимательным разглядыванием и обсуждением всего, что встречалось на пути.
Но более всего Даниила тянуло в Кремль. Сердце Москвы – Красная площадь с собором Василия Блаженного – было для него олицетворением Горнего мира и, а Большой театр – исключительно земным порождением. Это было особое место, которое он остро чувствовал, но не мог объяснить почему.
А ещё он любил гулять в Нескучном саду…
И было интересно путешествовать на дребезжащем трамвае по Арбату, окидывая взглядом пёструю публику, которой всегда здесь много.
Вообще на трамвае можно было многое объехать и он пользовался этой возможностью, чтобы увидеть незнакомые ему уголки Москвы.
А ещё у него был свой мир. Он так и написал в предисловии, которое должно было разъяснить читателю, как относиться к тому, что они прочтут. «Автор сочинения «Юнона» имел целью позабавить молодёжь своеобразной и оригинальной выдумкой «мой собственный мир»… Лишь некоторые дети придумывали от скуки подобные вещи… Автор сочинения «Юнона» фантазирует , что где-то в бесконечных полутёмных пустынях вселенной есть уголок с почти такой же, как и наша, планетой. Эту планету, которую он окрестил именем «Юнона», т.е. богиня плодородия, населяют такие же люди как мы сами».
По вечерам, укладываясь в постель, а нередко и днём, отвлекаясь от скучного урока в гимназии, он уносился мыслями на свою планету, пристально разглядывая её поверхность, открывая уклад жизни, знакомясь с правителями государств, портреты которых он рисовал и развешивал на стенах своей комнаты.
Ему не нужна была большая планета, которую трудно охватить взглядом, и он решил, что Юнона значительно меньше Земли. А следовательно, она быстрее вращается и её год тоже меньше и составляет всего 64 земных дня. Но так как она всё же похожа на Землю, значит, материков на ней также пять, только маленьких. И государства очень похожи на земные, они также или торгуют или воюют, захватывая чужие территории, а управляются они по-разному. У них даже боги разные.
И этих богов он тоже рисовал.
Теперь в его комнате было тесно от всяческих событий, происходящих на Юноне, и от правителей тамошних государств…
И ему было интересно и радостно придумывать, как от главы к главе он будет описывать, что в его мире на Юноне происходит. Все события должны были завершиться путешествием по Вселенной с посещением Луны, Марса, на котором есть жители и о них он тоже расскажет, затем мимо Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, корабль долетит до звезды Альфа, в систему которой Юнона и входит, и там будет …
Нисколько не сомневаясь, он предположил, что там его путешественники увидят рай, в котором теперь мама и Бусенька…
Но как тот должен был выглядеть, представить никак не получалось, отчего вдруг возникли сомнения, и он написал в плане своего сочинения: «Что это – рай?» А затем добавил ещё одну, последнюю, главу «Ай! А это – ад!.. ай!», посчитав, что она также необходима, но пока не определив, кого из знакомых там увидит…
Но был и другой мир, в котором он не был летописцем, как в своём.
…О смерти Леонида Николаевича Андреева Добровы узнали слишком поздно, чтобы успеть на похороны. Да и Финляндия была уже заграницей и время было не для поездок, поэтому он не видел отца в гробу. Но представляет как это было сентябрьским днём 1919 года, когда уже больной, но всё ещё настроенный воевать с большевистской идеологией, отец покинул этот мир, отправившись вслед за мамой и Бусенькой по дороге в Рай.
Во всяком случае он надеялся, что в Рай, хотя никогда не был с отцом по-настоящему близок…
Добровы выбрали для него частную гимназию. Здесь он увидел Галочку Русакову. Они учились в одном классе и он довольно скоро понял, что она и есть главная героиня его сочинения и даже его жизни. Всё в этой девочке привлекало его. Ему хотелось видеть её постоянно, но они виделись только в классе, у неё были другие интересы и ей нравились другие мальчики. А он грезил, как они, взявшись за руки, будут гулять по тем местам в Москве, которые так дороги ему…
Правда, время было уже не для гуляний, на улицах стреляли, грабили, убивали… На смену одним правителям так стремительно приходили другие, что трудно было разобраться, кто куда ведёт страну. Наконец верх взяли большевики, на улицах стало много людей в шинелях и штатских в кожанках и с оружием. Какое-то время гимназия ещё работала как прежде, потом становилось всё труднее придерживаться прежнего распорядка, многие учителя и гимназисты ушли из неё, первые по причине ненужности их предметов или по нелояльности к новой власти, последние не видя смысла в продолжении обучения. Всё, что происходило теперь вокруг, было так непостижимо интересно, что заветная тетрадь с «Юноной» была забыта. Но зато другая, куда он записывал стихи, теперь часто открывалась…
Свои чувства к Галочке он держать в себе не мог. И какое-то время ему казалось, что она тоже испытывает к нему, пусть и не такое всепоглощающее, как у него, ощущение благодарной нужности. Ей было интересно с ним разговаривать, он это видел. Но видел и то, как она провожала взглядом других гимназистов, особенно тех, кто был старше. Иногда она, не задумываясь, что делает ему больно, спрашивала:
– Данечка, скажи, а вот этот мальчик такой же умный, как ты?.. Мне кажется, он тоже пишет стихи…
Он сердито поджимал губы и коротко бросал, что этот мальчик ему незнаком, но привлекательная внешность не всегда говорит об уме.
– И у девочек тоже? – в отместку спрашивала она, не сомневаясь, что в девочках главным для мальчиков как раз является внешность.
Но он не соглашался, потому что уже понимал очарование умной женщины, даже если та и не была красавицей. Такой в его памяти осталась Бусенька. Такой была мама Лиля. И даже Шурочка, удивлявшая экзотичностью своих нарядов, поступков и суждений. Правда, она готовилась стать актрисой и её поведение он считал исполнением ею же выдуманных ролей.
Но были и другие заботы и игры, в которых каждый старался самоутвердиться перед сверстниками, иногда ссоры и даже драки, которых он старался избегать, но если не получалось, поступал как и положено мальчишке.
А ещё дух гимназии, в которой учителя позволяли ученикам раскрыть свои способности, множил споры и эксперименты. Так однажды заспорили, сколько груза поднимут воздушные шары. В складчину купили связку шаров и стали искать, что привязать. Мимо пробегала дворовая собачка. Кто-то предложил использовать её вместо груза. Эта идея всем понравилась, потому что позволяла увидеть, как поведёт себя живое существо, когда оторвётся от земли. Пёсика подманили и привязали шары. И неожиданно для всех спорщиков те подняли собаку до второго этажа и она с громким лаем, пугая прохожих и удивляя выглядывающих из окон жильцов, летела вдоль переулка, пока шарики не перестали её держать…
Они переходили из класса в класс, взрослея и не очень-то вникая в круговерть вокруг, потому что в гимназии, которая умудрилась сохраниться, что возможно было только благодаря влиянию родителей гимназистов и покровителей, которые, кто искренне, а кто по необходимости приняли новую большевистскую власть, занятия шли не прерываясь. Добровы же большевиков то принимали, то не принимали, в отличие от крёстного Даниила, который был на короткой ноге с их вождём Лениным. Но так же как и прежде этот дом был открыт для гостей, куда теперь они тянулись особенно в осенние и зимние холодные вечера, потому что у Добровых всегда было тепло: пациенты доктора часто расплачивались дровами. Правда теперь это были не друзья и ровесники хозяев, а молодые и азартные сверстники Шурочки.
У большевиков сторонников становилось всё больше и больше. Было холодно и голодно и всем хотелось уже спокойствия, а не перемен.
Леонид Николаевич эмигрировал в Финляндию. Он был всё также категоричен и непримирим: «Большевики не только опоганили революцию, они сделали больше: быть может навсегда убили религию революции. Сто с лишним лет революция была религией Европы, революционер – святым в глазах врагов.... Ясно, что Бог ушёл из революции и превратилась она – в занятие».
Большое семейство Андреевых в Финляндии бедствует. Посланец передаёт Леониду Андреевичу предложение Горького дорого продать сочинения издательству, которое тот организует. Но отец отвергает это предложение своего старого и, как оказалось, милосердного к идейному противнику друга-врага.
Что касается Даниила, то он относился к происшедшим переменам и к новой власти вполне лояльно, веря в то, что со временем всё станет лучше, хотя изучение истории революции в той же Франции не располагало к оптимизму.
В дела отца он особо не вникал, они виделись с ним в последний раз в начале 1918 года. Но имя писателя Андреева было у всех на устах и Даниилу стоило немало трудов, чтобы в какой-то мере отстраниться и от отца, и от Горького, который становился всё более известным и влиятельным деятелем уже новой России.
Главным объектом интереса теперь была обворожительная Галочка или, когда она не обращала на него внимания, другие повзрослевшие и такие притягательные девушки. Галочка была лучше всех, но она честно сказала ему, что ей нравятся другие и они могут быть только исключительно друзьями. И он согласился быть её другом, нежно обожавшим и не оставившим надежду когда-нибудь стать и любимым…
Он писал теперь стихи в первую очередь именно для неё, видя её облик перед собой, такой воздушно-притягательный, светлый… Но не всегда решался ей их прочесть.
Ему было уже почти пятнадцать лет, вокруг все менялось динамично и трудно объяснимо. Теперь в его жизни были неразделённая любовь и притягательные Шурочкины подруги и знакомые.
Так и не ставшая актрисой из-за боязни сцены, что чрезвычайно удивило всех её знакомых, она прекрасно чувствовала себя среди интеллектуальной публики, представая перед гостями то загадочной персиянкой, то недоступной египтянкой. И к друзьям старших Добровых: писателю Борису Зайцеву и его жене Вере Алексеевне, актрисе Надежде Сергеевне Бутовой, подруге Елизаветы Михайловны (правда она теперь бывала совсем редко, болела), вдове композитора Скрябина Татьяне Фёдоровне, пианисту Игумнову, с которым Филипп Александрович любил играть на рояле в четыре руки, добавились друзья Шурочки. Подолгу жили здесь болезненная Эсфирь, Виктор и Вера Затеплинские, впечатлительная Варя Мирович, которую все звали Вавой. Самая интересная и непредсказуемая Эсфирь, которая чаще бывает раздражённой, чем умиротворённой, и вечно с кем-то конфликтует. Но она здесь давно и уже своя. А Виктора, бывшего офицера, вдруг арестовали, отчего Вера стала безутешной и тоскливой.
Иногда заходили Владимир Маяковский, Лиля Брик, Марина Цветаева.
Вновь объявившаяся Олечка Бессарабова, когда-то бывшая воспитательницей Даниила, а потом подруга Шурочки, познакомила их со своим братом Борисом, который воевал, был ранен и после госпиталя командирован в военную железнодорожную организацию столицы. Он был большевиком и очаровал Марину Цветаеву (ее встретил на одном из собраний у Шурочки, пикировавшуюся здесь с громогласным и загадочным Маяковским, уже слывшим первым поэтом нового времени). Цветаева, претендующая также на это звание, однажды вечером прочла стихотворение, посвящённое ему. Это стихотворение было неинтересным, оно неловко скрывало завистливую насмешку и не запомнилось Даниилу. А вот ответ Маяковского был короток и отменен: «Поэты града Московского, к вам тщетно взываю я – не делайте под Маяковского, а делайте под себя!».
Они с Ариадной Скрябиной, дочерью композитора и его сверстницей, также пристрастной к сочинительству, тоже читали свои стихи, заслуживая поощрительного одобрения.
Иногда заходил к гостям и Александр Добров, высокий, стройный, красивый, неотразимый для женщин трепетных, в основном балерин и актрис. Интеллектуальные разговоры его мало прельщали, он предпочитал обольщать внешностью, поэтому долго не задерживался, убегая к очередной своей поклоннице.
Шурочкины гости все были старше Даниила и у них были свои симпатии. Цветаева соблазнилась Борисом Бессарабовым: «Коммунист… Без сапог… Ненавидит евреев… В последнюю минуту, когда белые подступали к Воронежу, записался в партию. Недавно с Крымского фронта… Отпускал офицеров по глазам…
Слывёт дураком… Богатырь… Малиновый – во всю щеку – румянец – кровь взыграла! – вихрь неистовых – вся кровь завилась! – волос, большие, блестящие как бусы, чёрные глаза…»
А Шурочке понравился Александр Коваленский. Теперь в доме Добровых часто собирались три Александра: сама Шурочка, её младший брат Александр и жених.
Коваленский был увлечён мистикой и находил некий мистический смысл во всём происходящем в России, и он нравился Даниилу больше всех.
Впрочем, Россия теперь воспринималась как-то отстранённо, столичные жители были озабочены решением собственных проблем, привыканием к новой власти и к новым условиям существования. По инерции ещё ходили друг к другу в гости, но столы становились всё менее хлебосольными, а разговоры менее оптимистичными: где-то на окраинах новой советской России шла война, в которой русские убивали русских.
А в доме Добровых всё ещё старались жить как прежде: Елизавета Михайловна всё также проводила дни на кухне за стряпнёй для семьи, приживалок и гостей, Филипп Александрович свободное от пациентов время – в латыни, в стихах… Шурочка теперь была главным истопником, она отвечала за тепло, за печи. Даниил же весь обитал в своём творчестве и в своей юной жизни, отчего в его лице многие видели следы напряжённой работы мысли, подтверждавшие одарённость мальчика, превращавшегося в юношу.
Ему уже исполнилось пятнадцать лет. И у него есть свои тайны и откровения. Как отметила проницательная Вава: «Ты, Данечка, один у нас в эмпиреях живёшь…»
И он действительно не замечает как вымоталась Елизавета Михайловна, мама Лиля, которая жалуется на сердечные боли, как мечется Шурочка, которая всё собирается куда-то уехать от всех. Даже не замечает то, что дом словно взбунтовался, то прорвало водопровод, то обвалился потолок, то испортилась плита, то вдруг оказалось, что закончились дрова…