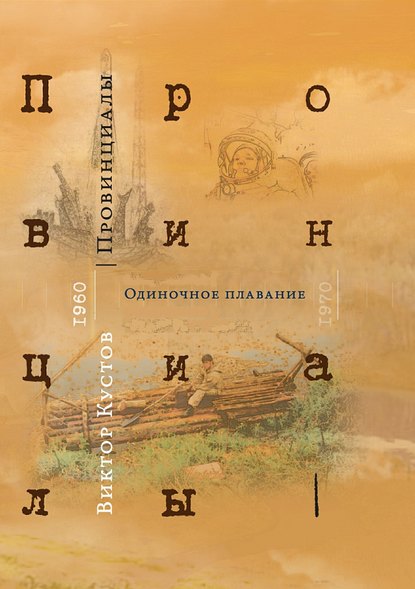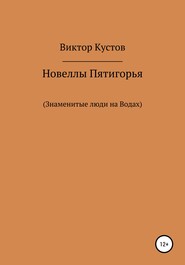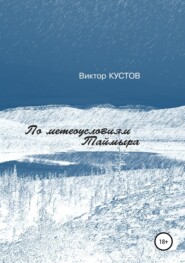По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Провинициалы. Книга 1. Одиночное плавание
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бронька молча моргал, не понимая, куда тот клонит.
– Н-да, – вздохнул Степан и уже прямым текстом пояснил: – Тащи маткин самогон, полечимся и заодно событию отметим…
– А-а… – опять разулыбался Бронька. – Сейчас спрошу…
На этот раз Сопчиха не кричала, а лишь что-то нашептывала, никто не смог разобрать, о чем шла речь во дворе, но скоро у калитки появился не Бронька, а она сама, как всегда в черном длинном платье и черном платке, надвинутом на самый лоб, с двухлитровой бутылью в руках. Оглядела сначала мужиков, сидящих на ее скамейке, потом скамейку перед домом деда Сурика, задержала тяжелый взгляд больших глаз на Степане, отчего тот передернул плечами и потянулся за новой папиросой.
– Событью, говоришь, отметить…
Голос у Сопчихи всегда был зычным, даже когда в доме командовал мужик. Дед Сурик, помнивший ее еще девкой, рассказывал, что многие парни из-за этого голоса и не женихались с ней. Вот и досталась ядреная молодуха приехавшему чужаку, у которого ни роду ни племени не было, даже фамилию жинкину взял, а потом оказалось, что родичи-то есть, но в проклятой Германии…
Степан собрался было ответить, какое событие он имел в виду, но она поставила бутыль на край скамейки, откуда только что поднялся Бронька, сказала:
– Отметь событью, помяни мужика моего, сёдни как раз душа его и отлетела…
– Да я вообще-то… – начал было Степан, но она, поманив за собой сына, уже скрылась во дворе, и он не успел ничего объяснить.
Пока, раздумывая, чесал затылок, вышел Бронька, поставил рядом с бутылью стакан, положил полбулки черного хлеба, шматок сала, нож, сделанный из немецкого штыка.
– Вот, матка дала…
Улыбнулся, оглядывая мужиков, и те понимающе покивали: что взять с придурка…
Степан сплюнул папиросу, потер руки.
– Помянуть человека тоже не грех…
Ловко нарезал сало, хлеб, плеснул в стакан.
– Испытаю…
Выпил, сморщился, бросил в рот корочку хлеба, пожевал вдумчиво.
– А что, мужики, первачок…
Уже весело налил полстакана, поднес деду Сурику. Тот помедлил, словно чего-то вспоминая, потом перекрестился.
– Царство небесное рабу твоему, – еще раз перекрестился. – Хоть и вредный был, но такого ж людского стада… – медленно, словно процеживая, выпил, крякнул, пожаловался: – На сальце зубов не хватат…
– Что ж ты, дед, людей стадом обзываешь? – спросил Иван. – Вроде не скотина мы…
– Не, Вань, не скотина, скотина добрее, своих не забивает… А стадо, потому что без пастыря не могём… Николашка был, царь значит, потом Ленин, потом Сталин, значит… нынче этот кукурузник, башковитый…
Степан поднес стакан Ивану. Тот помотал головой.
– Не за что пить…
– Ты ж слыхал, помяни усопшего…
– Врагов не поминаю.
Бронька перестал улыбаться, насупился.
– Что было, то прошло, быльем поросло, чего вспоминать. – Степан приблизился к Ивану, прошептал: – За ледоход выпей…
– Не буду, – отодвинул тот его руку со стаканом.
– Не хочешь, нам больше достанется.
Степан протянул стакан Касикову, но и тот мотнул головой и произнес:
– Пацаны возвращаются…
Сашка еще издали выпалил:
– Не Пантюхина это, он сказал, что она сверху шла, наверное, деревенских…
– Точно, скорей всего из Селезней, – согласился Петруха-рыбак, принимая от Степана стакан. – Там такие я видел…
Начал пить, но так и не допил, зашелся в кашле, судорожно глотая воздух, и Степан вовремя успел перехватить стакан. С жалостью посмотрел на тщедушного чахоточника, пошел дальше обносить мужиков нежданным самогоном, прикидывая, чтобы еще на раз, а может, и более хватило, чтобы можно было потом вспомнить, какой славный был ледоход в одна тысяча девятьсот шестьдесят втором году…
– А ить идет, – радостно сказал он, взглянув в сторону реки. – К завтрему весь сойдет…
– Не упрется на косе – сойдет, – подтвердил дед Сурик.
– В сплавной уже катера красят, – вставил молчаливый Михаил Привалов, мужик степенный и работящий. Огород Привалова упирался в дедов, и там, возле межи, Михаил начал ставить баньку, чем дед был недоволен. Сам он эту зиму работал в кузне при сплавной конторе, а до этого и плотничал, и лес валил, и дома ставил вместе с Генкой Коротким.
У Привалова было три девки, выродившиеся одна за другой, боевая жинка, работавшая продавщицей в сельпо и откликавшаяся на одно, без отчества, имя, так ее все и звали, и малые и старые: Нинка, хотя девки уже вытянулись с самого Привалова и вовсю невестились, гляди, не сегодня-завтра в подоле принесут. Старшую, русоволосую Вальку, по вечерам под раскидистым кустом сирени тискал Петька Дадон. Но ни Валька, ни остальные, хоть целоваться и давали, большего не позволяли, и у Петьки все руки были в синяках да ссадинах, оттого что Валька и отбивалась не жалеючи, и щипалась не играючи.
Петька всем хвастался, что это она в страсти горячая, как сама Нинка, о которой нет-нет да и поговаривали, что та баба в постели – огонь и мужикам уступчивая… Правда, последнее время, как Привалов перестал калымить по деревням и дома стал жить, сплетен поубавилось, но зато в компаниях подпившая Нинка любила всех мужиков перецеловать, отчего не раз ходила битой обиженными и ревнивыми бабами.
– А я выпью… Хоть и полицай он был, а особого зла не наделал…
И Нинку мою с девками не сгубил…
Опрокинул стакан, вытер усы шершавой заскорузлой ладонью с мозолями, глянул на Ивана. Жовнер промолчал. Знал он, что не лютовал Сопко, пока полицайствовал, ту же Нинку не выдал, не донес, что Привалов коммунистом был, на всю улицу единственным (правда, поговаривали, что в том заслуга была самой Нинки, приласкавшей полицая, пока муж на фронте, но кто, кроме нее, теперь это знать мог, а наговорить всякий горазд). Он вспоминал Евсеева, других ребят, не доживших до этих дней, и холодно становилось в груди.
– Ладно, пойдем, старшина, – сказал Касиков, – скоро уж День Победы придет, всех поминать станем…
– Бывайте, мужики. – Иван махнул рукой, пошел по улице, приноравливаясь к размашистому шагу Касикова.
– Давай зайдем ко мне, чекушка есть, – предложил Иван, когда подошли к его дому.
Дом Жовнеров был самым свежим на улице, желтевшим еще пахучей, слезящейся янтарной смолой, дранкой, двумя окнами глядящим на разбухший почти до самых берегов ручей, тремя – в огород, на котором пять лет назад, начав строить дом, Иван посадил три прутика антоновки и куст крыжовника. Яблони в этом году, похоже, должны были наконец-то начать плодоносить по-настоящему (только сегодня Иван разглядывал и щупал набухшие почки), а крыжовник уже раздался и радовал нечастыми, но зато крупными, с солнечной рыжинкой, ягодинами.
Еще две стены выходили во двор, и в каждой было по окну, но из них любоваться было нечем, разве что гуляющими курами и сараем, где истошно требовал еды кабанчик.
Сначала дом был пятистенком, и Сашкина кровать стояла напротив родительской. Потом Полина стала стесняться ночных мужниных ласк, прислушиваться, все ей казалось, что сын слышит, чем они занимаются, и Иван выгородил между кухней и залом маленькую, чуть шире кровати, комнатку. Теперь сын спал за перегородкой, и они могли даже побаловаться, стараясь не особо скрипеть сеткой, или поругаться…