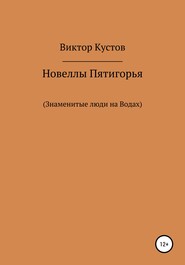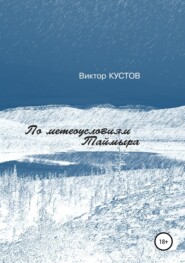По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Провинциалы. Книга 3. Гамлетовский вопрос
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Формально – руководитель литобъединения, – почему-то решил уточнить Сашка.
– Я в курсе, – кивнул тот головой, из-за шевелюры густых черных волос выглядевшей непропорционально крупной даже на этом туловище, – мы с первым секретарем обкома общались…
Произнес и замолчал, откровенно разглядывая Сашку, давая ему возможность постичь равенство его отношений с формальным начальством Жовнера.
Сашка тоже молчал, начиная понимать, что Кантаров, похоже, поторопился усаживать его за новый рабочий стол. Интуиция его не подвела. Заворотный стал рассказывать, как важно для крайкома, обкома комсомола, чтобы о делах молодежи в многонациональной автономной области знали повсюду в крае, что появление собственного корреспондента, его публикации замечают, на них реагируют.
– Я знаю, что вы нужны и здесь, в редакции. Мы с Сергеем Никифоровичем говорили о вас, да и Виктор Иванович просил перевести вас в штат. Со временем мы так и сделаем, но пока, Александр Иванович, придется пожить в Черкесске. Мы с Евгением Евгеньевичем решили, что будем поощрять вас повышенным гонораром.
Он многозначительно замолчал, по-видимому, ожидая слов благодарности, но Сашка «спасибо» говорить не стал, переваривал Никифоровича, Ивановича, Евгеньевича, стараясь правильно подставить их к знакомым именам, как и осознать собственное отчество, так четко произнесенное редактором.
– Там у нас внештатный корреспондент есть, – он заглянул в бумажку, лежащую на краю стола, – Ставинский Алексей Леонардович…
Сашка кивнул.
– Да, есть.
– Он сможет вас заменить?
Вопрос был неожиданным, и Жовнер не сразу нашелся, что ответить. Наконец не совсем уверенно произнес:
– Заменить не сможет, но оперативно освещать мероприятия вполне. Я могу ему помочь…
– Вот это я и хотел услышать, – с нескрываемым облегчением сказал редактор. – Значит, так и договоримся, вы постепенно вводите Алексея Леонардовича в курс дела, подсказываете, правите его материалы и готовитесь к переезду.
– И как долго… вводить?
– Пока не могу определенно сказать, – произнес Заворотный. И, словно извиняясь, пояснил: – Мне нужно разобраться… К тому же вам необходимо жилье. На первое время мы сможем вас одного, без семьи, устроить в общежитие. Но я не знаю, когда редакция получит квартиры, к тому же есть очередь… Было бы замечательно, если бы вы обменяли…
– Мы живем в квартире моих родителей, – сказал Жовнер. – Они сейчас дорабатывают на Севере, скоро приедут, так что менять нам нечего.
– А вы стоите на очереди?
– Вроде да, – неуверенно отозвался он, вспомнив, что прежний редактор Белоглазов обещал внести его в список нуждающихся в квартире.
– Я имею в виду в Черкесске, в обкоме? – уточнил Заворотный.
– В обкоме?.. Нет.
– Нужно было встать, там можно получить довольно быстро, будет что менять… Поговорите с первым секретарем обкома, проясните ситуацию. Если есть возможность скоро получить, правильнее будет подождать… Нужно будет, мы со своей стороны походатайствуем.
– Я поинтересуюсь, – неуверенно пообещал Жовнер.
– Ну, что же…
Редактор поднялся из-за стола, не особенно над ним возвысившись, но подавив внушительными размерами туловища, протянул маленькую, широкую, почти круглую ладонь:
– Пишите чаще, помогайте всем отделам и готовьте Ставинского, нам очень нужен в области собкор…
Заходить к Кантарову Сашка не стал, какой смысл, пусть между собой разберутся. И по отделам не пошел. Даже не поинтересовался, есть ли замечания к материалам, вопросы, предложения, чего никогда прежде делать не забывал. Вспомнил об этом, только завернув на проспект, ведущий к автовокзалу. Но возвращаться не стал.
Уезжал с необъяснимым осадком. Вроде и не настраивался на переезд от любимой жены, дочери (одному жить совсем не хотелось), но и лестно было – значит, газете необходим. Да и город побольше, культурная жизнь интенсивнее… Все же после Красноярска комфортнее он чувствовал себя в больших городах. К тому же после предновогоднего разговора с Красавиным и Кантаровым он прочитывал газету от первого до последнего абзаца. У него появились предложения и по структуре, и по кадровой расстановке (та же Селиверстова явно не тянула свой отдел, как не способны были писать заметные материалы Пасеков и Гаузов), и по тематике. Интересно, на какой отдел прочил его Кантаров?.. Впрочем, неважно, главное, втроем (если редактор не будет мешать) они действительно могут сделать если и не самую лучшую, как замахнулся Кантаров, то уж одну из лучших молодежных газет в стране точно…
Но не зря говорят: первую половину дороги думаешь о том, что позади, вторую – что впереди.
А впереди был небольшой зеленый многоязычный Черкесск, где его ждали любимая и любящая жена и вполне освоившаяся в своем многоцветном и многомерном детском мире дочь (непреходящая радость), а также привычный рабочий стол в обкоме комсомола напротив стола Азамата в кабинете возле окна, в которое в ветреную погоду стучались ветки раскидистого каштана. Заведующий отделом Адам, который, не вмешиваясь в график работы Жовнера, все же при случае не забывал напоминать, что тот является сотрудником обкома комсомола, конкретно – его отдела и, если не отчитывается перед ним, то хотя бы должен ставить в известность, куда уходит и чем занимается.
А еще были новые поездки по области, запланированные и неожиданные встречи с героями и антигероями его публикаций, немноголюдные (семеро пишущих на русском языке, включая Ставинского), но всегда бурные и долгие заседания литературного объединения. И более всего запоминающиеся (от узнавания неведомого прежде) откровенные разговоры допоздна в интернациональных компаниях за вином или даже чем покрепче. И тогда перед Сашкой раскрывался весь спектр непростых отношений наций и народностей, предпочитавших просторам иных территорий – той же необъятной Сибири с ее грандиозными стройками – тесноту горных ущелий, постижение национальных традиций и неписаных, но неукоснительно исполняемых законов, исторических преданий и правд многочисленных кланов, обсуждение застарелых обид на притеснения и несамостоятельность…
Независимости (без четкого ответа на вопрос «Для чего она нужна?») хотели и неспешные абазины, и хитровато-мудрые ногайцы, и спокойные черкесы. Но более всего жаждали ее самые многочисленные, после русских, карачаевцы. Для них, искони занятых животноводством, постоянным местом обитания были горные ущелья в верховьях Кубани, Теберды, Большого и Малого Зеленчуков, высокогорные плато, куда весной на летние выпасы вереницами тянулись из долин отары овец и стада коров, поэтому они отторгали цивилизацию и иную культуру. Здесь говорили на родном языке, хорошо помнили своих героев всех мелких сражений и непостижимых по масштабам, а оттого и не казавшихся страшными мировых войн. И с особой обидой и горечью вспоминали оскорбительную для народа департацию… Здесь исполняли наказ старейшин, навечно оставшихся в казахских степях: рожать в родных ущельях как можно больше детей. Здесь чтили принадлежность к кланам и многовековым родам, хотя революция и годы советской власти все перевернули с ног на голову: хозяин превратился в нищего, а раб стал начальником…
Это были незнакомая и не всегда понятная Жовнеру культура, чуждый уклад жизни, в которых ему помогали разобраться тот же не по возрасту серьезный и строгий, словно несущий в одиночестве груз исторических перипетий своего народа член литобъединения Юсуф Созаруков и немногословный, менее резкий в оценках, но более сведущий в этих вопросах писатель Мусса Батчаев, когда приезжал из своего аула в город. Мусса относился ко всему происшедшему, происходящему и тому, чему еще предстояло произойти, как к неоспоримой данности, считая, что главное для живущего в этом мире – стараться не переделывать, а познавать его…
В Черкесске преобладали если не обрусевшие, то оцивилизованные горцы, избравшие языком общения русский, получившие высшее образование, как правило, в хороших, чаще всего столичных вузах, куда поступали по квотам, вследствие чего занимавшие квотированные же места в партийных и советских органах, управленческие должности на заводах, делавшие либо престижную научную карьеру в научно-исследовательском институте (который был создан для того, чтобы найти истоки каждого из малых народов и показать их изначальное коренное родство, отчего-то утраченное к дням нынешним), либо публичную актерскую – в областном драматическом театре с национальными труппами, уникальном учреждении для столь маленького городка. Они уже были менее памятливы, более толерантны, жили и мыслили, как подавляющее большинство советских людей, имели друзей и знакомых среди прочих национальностей, прежде всего среди русских, из завистливого любопытства стремились восстановить связи с рассеянными по всему миру (включая территорию «заморской акулы капитализма» Соединенных Штатов Америки) сородичами, но по окончании земного пути неизбежно возвращались на место своего появления на свет – в родовой аул.
Таков был непреложный закон горцев.
Жовнеру, выросшему в центральной части России, сформировавшемуся, как он сам считал, на сибирских просторах, где для профессионального роста, формирования отношения к тебе окружающих имели значение исключительно умение и характер, а не национальность, было трудно понять и иную религию, влияние которой только здесь он впервые ощутил. Впервые попав на мусульманские похороны скоропостижно скончавшегося еще молодого актера местного театра, с которым был знаком, он не знал, как себя вести во время прощания. По обычаям умершего нельзя было снимать головной убор. Крещеному же положено провожать покойника с непокрытой головой. В конце концов, он поступил как православный…
В повседневной жизни Сашка не мог привыкнуть к тому, что у каждого знакомого–нацмена (кстати, слово «нацмен» тоже резало ему слух), помимо имени, данного при рождении, порой, правда, труднопроизносимого, было и второе, русское. И предпочитал называть людей настоящими, порой труднопроизносимыми и непривычными именами.
Он не мог постигнуть многого из того, что теперь его окружало, но старался понять и, если даже не понимал, уважать иные обычаи, традиции, нравы…
Впрочем, национальная интеллигенция, говорящая по-русски, практически ничем не отличалась от уже знакомой ему среды. Здесь, так же, как и в Сибири, были в моде приватные разговоры на кухнях о том, что не все благополучно «в датском королевстве», а в комнате в это время исходил патетикой успехов самого прогрессивного в мире общества «равенства, братства и свободы» телевизионный экран, блаженно улыбчивый и уже плохо понимаемый населением звездоносный генеральный секретарь коммунистической партии Леонид Ильич
Брежнев получал очередную награду…
И все же юг расслаблял, поощряя духовную леность и пассивную созерцательность. Вопрос о справедливости государственного устройства с очевидным прессом непогрешимых партийных органов над всеми остальными гражданскими институтами (несмотря на то, что этот пресс здесь ощущался гораздо мощнее, чем в Сибири) был менее актуален, чем проблемы сосуществования людей разных наций, народностей, вероисповеданий, взглядов на этой плодородной, но, очевидно, тесной для всех желающих жить богато и беззаботно земле. По этой причине умственный потенциал активной части населения – практически весь, без остатка – уходил на карьерное продвижение либо поиск более злачных и перспективных мест работы и дополнительных источников дохода (на одну зарплату не проживешь), приобретение правдами и неправдами (лучше всего это получалось по родству, должности или знакомству, объединяемым понятием «блат») дефицитных благ и, нереализованный в полной мере по предназначению (быть со-творцом мира), создавал в многоликом обществе атмосферу повышенной агрессивности и жестокости в отношениях с себе подобными… Словно иллюстрируя естественную – по эволюционной теории Дарвина – примитивную борьбу биологических видов за место под солнцем…
Жовнер не был одержимым ни одним из увлечений, считавшихся в среде комсомольских функционеров здравыми и целесообразными, и оттого воспринимался сослуживцами и большинством знакомых несколько ущербным. От полного отнесения в разряд неудачников в глазах прагматичных окружающих его спасала только причастность к журналистской профессии, которую здесь уважали и даже побаивались. Никто не догадывался, что он и сам мучился, только не от своей непрактичности и неумения использовать служебное положение и связи, а от невозможности высказать все, что думает по поводу государства, в котором ему выпало жить. А еще его раздражало славословие партии и членов центрального комитета, дважды в год возвышающихся на одинаковых черно-серых портретах над колоннами демонстрантов, идущих по площадям больших и малых городов в честь дня трудящихся первого мая и седьмого ноября – в честь празднования очередной годовщины Октябрьской революции.
Раздражали хвалебные лживые отклики на брошюры многократного героя Леонида Ильича (который, если судить по наградам, заслугами перед страной превзошел всех своих предшественников), рапорты о трудовых победах и достижениях, в то время как на глазах пустели магазинные прилавки и дефицит становился тотальным.
Ему хотелось поделиться с кем-то своими мыслями и сомнениями.
Он не понимал, почему растет пропасть между тем, что его окружает в повседневной жизни, и тем, что звучит со всевозможных трибун…
Попробовал как-то со Ставинским поговорить на эту тему, но тот, не особенно вникая, согласно покивал и перевел разговор в плоскость реальную, посоветовав, пока Сашка работает в обкоме комсомола, вступить в партию, без членства в которой карьеру не сделаешь, будь ты хоть семи пядей во лбу…
Сам он затеял организовать в заводском ДК образцово-показательную дискотеку, которая приходила на смену танцам. Сашку, как человека семейного, дискотеки не интересовали, но идея Ставинского предварять танцевальную часть идейным театрализованным представлением показалась интересной, и Сашка с удовольствием подключился к написанию сценария, а потом и к репетициям, заражаясь энтузиазмом молодых ребят, которых тот сумел собрать. Сам Леша забросил все свои рутинные секретарские дела, игнорируя и поручения, и отчетность, явно давая повод если не для увольнения, то для очередного выговора.
Даже перестал писать в газету.
Свое беспокойство по этому поводу Жовнеру сначала высказал Адам, посоветовав предупредить своевольного Ставинского о неполном служебном соответствии, а затем выразил и редактор, напомнив, что от того, как быстро Алексей будет готов его заменить, зависит и Сашкин переезд в краевую столицу.
Но наступившее лето с ясными знойными днями и томными южными ночами не располагало ни к работе в кабинете, ни к разлуке с женой, поэтому он решил не форсировать события, понимая, что, переехав в Ставрополь, неизбежно будет втянут в ритм отнюдь не творческого конвейера. А оттяжку обосновывал нужностью здесь, предлагая темы одна интереснее другой, и с удовольствием мотался по командировкам: то к чабанам на дальние горные выпасы под снежные хребты, то к ученым Зеленчукской обсерватории с самым большим телескопом в мире, по воле случая (или предопределенной закономерности) построенной рядом с первыми православными храмами в Архызской долине, то к мирным артиллеристам – укротителям градовых туч, то к строителям самого большого в Европе тепличного комбината, то на археологические раскопки самого древнего на Северном Кавказе Хумаринского городища…
Это было интереснее, чем готовить дежурные отчеты о комсомольских мероприятиях, да и сами материалы получались читабельными, но неожиданно для Сашки они вдруг перестали появляться в газете. Наконец, он не выдержал, позвонил Сергею Кантарову, и тот недовольным тоном сообщил, что все материалы лежат на его столе, но есть первоочередные, более актуальные темы, а не «грезы восторженных барышень».