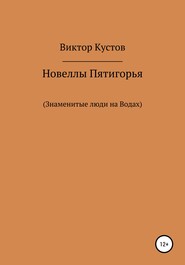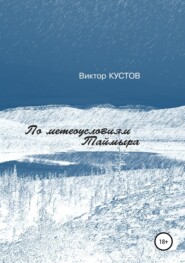По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Провинциалы. Книга 3. Гамлетовский вопрос
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Последние годы в обществе зрело ожидание перемен. И, насколько Жовнер теперь понимал, оно нарастало именно ближе к центру, к кремлевской стене, за которой и прятались грозные старички. В Сибири, отвлекаемой от проблем и «разрешающейся» то одной, то другой грандиозной стройкой (а они действительно были грандиозные, со звучными названиями: КАТЭК, Самотлор, БАМ), о необходимости перемен задумывались немногие: энтузиастам и рвачам за работой не до того (первые не щадили себя во имя идеи, вторые – денег), а у комсомольских активистов вообще не было времени думать – надо было претворять грандиозные планы партии и комсомола в жизнь.
Другое дело – здесь, на юге, пусть и не в самом центре страны, но в местах, издавна обжитых, более близких к столице, где эпоха освоения и больших строек осталась в прошлом и уже сами партийные и комсомольские лидеры начинали понимать неизбежность перемен, отчего за исполнение установок, спускаемых сверху, брались не столь яро, а на вышестоящие решения реагировали зачастую формально, смещая акценты от бескорыстного служения стране и народу на обустраивание собственного быта и быта родных и друзей.
Дедушки из политбюро все чаще становились героями самого короткого литературного жанра – анекдотов, которые имели широкое хождение не только в народе и партии, но и в преданном комитете государственной безопасности.
И вот человек, которому суждено было многие годы быть правителем огромной державы, с чьим именем была связана целая эпоха жизни страны, выпавшая на отрочество и юность поколения Жовнера, ушел в мир иной, вызвав вместо сожаления и печали надежду на неизбежные перемены.
Но надежде не суждено было сбыться: его место занял столь же больной соратник.
Накопившееся ожидание не исчезло, оно перешло на новый уровень ироничного отношения, тайного бунта, не уходящего раздражения.
Немощный государственный механизм, замерший было в преддверии если не встряски, то хотя бы хорошей смазки и ожидавший этого, вновь продолжил медленное движение, скрипя, треща, напрягаясь, изо всех сил тщась, но уже явно не набирая даже той, что была еще совсем недавно, скорости…
То ли от несбывшихся надежд, то ли от напряженной работы в дни всесоюзных похорон, когда просиживали за полночь, отслеживая телетайпные ленты, читая в две-три «свежих головы», готовя соответствующие моменту собственные материалы, наступила апатия.
Неделю неприкаянно бродили по редакции (за исключением Кости Гаузова – в спортивном календаре страны и края все шло без сбоев), заходя в кабинеты друг к другу, болтая ни о чем, но думая об одном и том же и все еще надеясь на чудо обновления…
Даже Кантаров никого не подгонял и сам заводил праздные разговоры, просиживая в кабинете Березина, который в эти дни в полной мере ощутил статус пусть и маленького, но все-таки партийного секретаря. Пару раз Кантаров заводил разговор и с Жовнером, не скрывая своего отношения к происшедшему и высказывая крамольные мысли о существующем строе, но Сашка, ссылаясь на то, что далек от всякой политики, от них уходил – между ними уже выросла стена, которую он не хотел преодолевать…
…Наконец-то выкроили время, чтобы посидеть вдвоем с Красавиным. Закрылись в его кабинете, когда в редакции оставались лишь Кантаров и редактор, распечатали бутылку коньяка, нарезали колбасы и сыра и не столько пили, сколько говорили о том, что произошло в стране, стараясь угадать, что будет. А когда отзвучали в коридоре шаги редактора, а затем ушел и Кантаров, дернувший пару раз дверь кабинета, заговорили громче и откровеннее, понимая, что сторожу-пенсионеру, закрывшему входную дверь и устроившемуся в кабинете редактора перед телевизором, не до них.
Иногда только Красавин, если Сашка давал волю эмоциям, облекая их в гневные, обличающие партийных деятелей слова, или когда он сам изрекал нечто подобное, воздевал палец к потолку и напоминал, что у стен, тем более редакционных, тоже есть уши…
Но коньяк понемногу делал свое дело, и скоро они уже говорили, не таясь, обо всем, что думали.
– Американский фермер сеять на поле выходит с карманным компьютером… Посадит, тут же пощелкает, урожай посчитает… До уборки уже знает, сколько соберет, сколько прибыли получит, куда потратит…
Мы отстали лет на двадцать, если не больше, – размахивал недоеденным бутербродом Красавин. – Мы катастрофически отстали от Америки, от других капиталистических стран, от всего мира, понимаешь?.. Но наши старцы там, – он махал рукой вверх и в сторону предполагаемого севера, где находились столица, Кремль, ЦК, – ничего не способны понять. Им пора на погост, они уже не могут думать о будущем… – наконец откусывал бутерброд, жевал с печально-провидческим выражением лица. – Мы придумываем ипатовский метод, потому что у нас нет той техники, которая есть у капиталистов. А урожаи все равно намного меньше, чем у них… И у нашего крестьянина нет заинтересованности, которая есть у американского фермера…
– Откуда ты про технику знаешь? – необязательно поинтересовался Жовнер, с трудом представляющий и заботы американского фермера, и ипатовский метод – изобретение местных руководителей, отмеченных за это орденами и медалями, о котором так много писал тот же Березин, подумав, что надо бы разобраться, за что награды раздают…
– Неважно, – отмахнулся тот. – Важно, что это понимают уже и в партии… – он подался вперед и, понизив голос, продолжил: – Капитализм, развитой социализм… Все это условности – мир движется к единому универсальному экономическому укладу…
– Теория конвергенции… – догадливо подсказал Сашка. – Я читал критику…
– Критика – ерунда… Зачем ее читать… Соединение лучшего из двух систем… Это закономерный процесс развития цивилизации…
И победят те общественные отношения, которые будут привлекательнее не в будущем, а в настоящем…
– Спорить не стану… – неуверенно согласился Жовнер. – Хотя верится в это с трудом. К тому же для нашей страны главная проблема в том, что сегодня нами правит серость… Все умные люди обсуждают свои идеи на кухнях или уехали за границу…
– Ну, это ты уж слишком упрощаешь, – неожиданно не согласился Красавин. – Среди тех, кто там… – он опять ткнул рукой вверх, – есть умные и понимающие… И в крайкоме есть… А кто уехал? Слабаки или откровенные враги…
– А Солженицын, – не согласился Сашка, совсем недавно перечитывавший «Один день Ивана Денисовича».
Красавин задумался.
– Хорошо, не спорю… Но он один.
– Зиновьев, – вспомнил Жовнер. – А еще Бродского выслали… А до этого Вадимова, Кузнецова, Некрасова…
– Не слыхал, – недовольно произнес Красавин, – какие-нибудь злопыхатели…
– Бродский – поэт. За тунеядство судили, а потом выслали… Александр Зиновьев – философ… Его за то, что за границей книга вышла. «Зияющие высоты» называется. Про то, что коммунизм – утопия… Вадимов, Кузнецов и Некрасов – писатели…
– Я не согласен насчет коммунизма, – поводил вправо-влево пальцем Красавин, решив не уточнять, что те написали. – Коммунизм – это не утопия, это идеал общества. Просто, как любой идеал, его извратили… А Солженицын против культа Сталина, потому что пострадал… Но, согласись, Хрущев его в свое время хорошо поддержал?.. В «Новом мире» опубликовали… А ты знаешь, что Солженицын родом из-под Георгиевска? А в Черкесске в газете тоже диссидент работал, Максимов. Не слышал?
– О Максимове?.. Слышал. За границей живет, на «голосах» выступает… Но я не знал, что он раньше здесь жил, – искренне удивился Жовнер, не в силах до конца поверить, что известный диссидент мог когда-то жить в маленьком южном городке.
– К тому же в областной партийной газете работал… А что касается этого старца генсека, то он ненадолго, это очевидно, год-два, и будет новый генсек, а перемены все равно неизбежны. Это уже многие понимают…
…Обсудив общегосударственные проблемы и придя к единому мнению, что есть резон набраться терпения в ожидании лучших времен, перешли на редакционные дела, довольно быстро согласившись друг с другом, что требования ответственного секретаря не только не улучшают газету, но, наоборот, делают ее все более неинтересной, не молодежной, приближая к партийной. Отношение же к сотрудникам просто хамское, за что, по-хорошему, морду бы надо набить…
– В крайкоме комсомола о газете тоже сложилось мнение, что она перестает отражать жизнь молодежи, – сказал Красавин. – Но у Кантарова рука в крайкоме партии, там кое-кому нынешняя газета нравится. Да и Заворот его поддерживает.
– Мы-то ладно, выстоим, – оптимистично произнес Жовнер. – А вот пацанов он затюкал. Мой Смолин настроился увольняться…
– А я своих в обиду не даю.
– У тебя они повзрослее, сами огрызаются…
– Но тоже когда-то были как твой… – Красавин посерьезнел, окинул Сашку оценивающим взглядом. – Нам в редколлегии надо большинство иметь. Гаузов ни рыба ни мясо, но примкнет, когда увидит силу. Я с Березиным беседы веду, он пока колеблется. Еще бы штатного шахматиста перетянуть на нашу сторону…
Сашка не сразу понял, кого он имеет в виду. После мучительных размышлений (все-таки крепок коньяк) догадался.
– Кузьменко?
– Ну да, он… Тогда нас большинство будет. А их всего трое, семейка и редактор. Но Заворот, как только почует, куда ветер подул, примкнет к большинству. А если наверху порекомендуют, тем более… Так что убедим остальных, останутся Кантаров да Селиверстова…
– А рука в крайкоме партии? – выразил сомнение Жовнер.
– Я с Белоглазовым разговаривал, там тоже не всем нравится газета… А рука не всесильная…
– Не люблю я интриги, – поморщился Сашка.
– Привыкай. Это тебе не сибирские просторы, где на комсомольских стройках места всем карьеристам хватает… Без интриг в наших теплых густонаселенных краях никак нельзя. Тем более в творческом коллективе. Тут же каждый мнит себя если не гением, то бесспорным талантом. А если до власти дорвется, никого не слышит и не видит…
– Что с Сергеем произошло? – с сожалением спросил Жовнер. – Мы же хотели вместе…
– Даже маленькая власть – большое искушение, – перебил его Красавин. – Так ты готов драться?
– За правое дело? – усмехнулся Сашка. И уже серьезно добавил: – Готов.
– Поговори с Костей Гаузовым, они с Кантаровым все время скандалят, а я пока Березина обработаю…
– Ладно, – кивнул Сашка. – Хотя не умею я это делать…
– Вот так же и наверху, – повысил голос Красавин. – Все понимают, менять надо, а смелости не хватает, каждый за свое кресло держится…