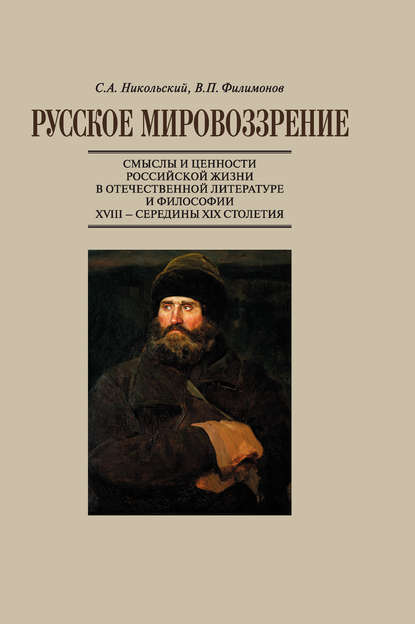По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русское мировоззрение. Смыслы и ценности российской жизни в отечественной литературе и философии ХVIII – середины XIX столетия
Жанр
Серия
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Русское мировоззрение. Смыслы и ценности российской жизни в отечественной литературе и философии ХVIII – середины XIX столетия
Сергей Анатольевич Никольский
Виктор Петрович Филимонов
Русское мировоззрение #1
Авторы предлагают содержательную реконструкцию русского мировоззрения и в его контексте мировоззрения русского земледельца. Термин «русское» трактуется не в этническом, а в предельно широком – культурном смысле. Цель работы – дать описание различных сторон этого сложного явления культуры.
На начальном этапе – от Пушкина, Гоголя и Лермонтова до ранней прозы Тургенева, от Новикова и Сковороды до Чаадаева и Хомякова – русская мысль и сердце активно осваивали европейские смыслы и ценности и в то же время рождали собственные. Тема сознания русского человека в его индивидуальном и общественном проявлении становится главным предметом русской литературной и философской мысли, а с появлением кинематографа – и визуально-экранного творчества.
С.А. Никольский, В.П. Филимонов
Русское мировоззрение. Смыслы и ценности российской жизни в отечественной литературе и философии XVIII – середины XIX столетия
Предисловие
Тема русского мировоззрения и, в ее контексте, мировоззрения земледельческого хотя и может показаться знакомой, на самом деле почти не освоена.
В самом деле, разве не пишут о русском мировоззрении Н. Бердяев и С. Франк? Разве не открывает нам его глубины гений А. Пушкина и Н. Гоголя? И разве нет в творчестве великого И. Тургенева персонажей-земледельцев, чьи мысли о мире и самих себе впервые в русской литературе формулируются развернуто и внятно?
Размышление над понятием русского мировоззрения и, в его контексте, мировоззрения русского земледельца составляет содержание нашего исследования. То есть говорить о какого бы то ни было рода дефиниции возможно лишь в финале работы. Вот почему было бы ошибочно ожидать, что авторы с самого начала сообщат читателю, что такое русское мировоззрение вообще и земледельческое мировоззрение в частности, а также сразу дадут их определения. Мы также не претендуем на целостный аутентичный анализ тех идейных пластов, из которых состоит каждый рассматриваемый нами художественный текст, тем более что мы, как правило, будем иметь дело с образцами высокой литературы. Это же относится и к воззрениям русских философов, чье «присутствие» в контексте нашей проблематики мы посчитали необходимым.
Тем не менее предстоящая работа требует некоторого исходного понимания феномена мировоззрения, и потому нам все же необходимо сделать несколько предварительных замечаний.
Если попытаться обозначить содержание этого феномена, выходя за рамки отдельного индивида и обращаясь к социальному слою или даже народу, то можно встретить массу трудностей. Проиллюстрируем некоторые из них, связанные с пониманием субъекта мировоззрения.
География, природно-климатические, исторические и собственно культурные факторы вынуждают рассматривать Россию не столько как целостно-единообразное, сколько как синтетическо-многообразное системное явление, внутри которого по этим критериям можно выделить различные мировоззренческие типы.
В связи с темой мировоззрения земледельца придется добавить еще одно измерение – «исторически длительный период существования в условиях свободы или рабства». Согласно этому критерию, половина населения страны вообще никогда не жила в условиях крепостного права, а в каких-то регионах оно проявляло себя то в большей, то в меньшей степени.
Помимо этого, на наш взгляд, имеет смысл ввести и предложить личностный критерий различения синкретичного понятия «русское мировоззрение», представляющий собой совокупность как минимум трех элементов: нравственно проработанной позиции субъекта, глубины и объема освоенных данным субъектом культурных смыслов и ценностей, собственного личного достоинства.
Различение с применением личностного критерия сопряжено в основе своей с включением субъекта в тело культуры, с выбором субъектом характера и траектории связи с тем или иным содержанием традиций – традиций своей семьи, своего социального слоя, народа и страны, а также с личной жизненной позицией и практикой, что обусловлено в конечном счете не только социальными, но и индивидуальными биопсихологическими факторами.
Очевидно, что в процессе социализации каждый конкретный субъект вырабатывает собственное отношение к наследуемому им прошлому. Познавая прошлое, он выносит относительно него свое суждение, принимает ту или иную трактовку его содержания, вырабатывает сам или принимает те или иные его оценки. Осваивая в познавательном и предметно-практическом смысле действительность, он определяется в отношении прошлого и настоящего, проективно позиционирует себя в вероятном будущем. В процессе личностного самоопределения и происходит становление мировоззрения конкретных субъектов.
Вместе с тем, как нам представляется, в этом процессе формируются не только не поддающиеся систематизации и классификации индивидуально неповторимые типы, но складываются и могут быть выделены различные синкретичные субъекты. И это не просто, например, раб-крепостной и господин-помещик. Внутри этих социальных типов встречаются «господствующие рабы», которые ощущают и проявляют себя независимо, в то время как среди помещиков попадаются подлинно рабские натуры. Вспомним, например, фигуры немого Герасима и его хозяйки – крепостницы-помещицы в рассказе Тургенева «Му-му». Достоинство, ощущение себя частью великого природного целого, а не одним из предметов имущества барыни, готовность, если его самоощущение будет попрано, отправиться на дно реки вслед за собачонкой – вот что прочитывается в нравственной позиции и поведении великана-немого. Будучи крепостным – всего лишь живым орудием в руках помещицы, – сам Герасим таковым себя не ощущает и не признает. И если бы ему представилась возможность самоопределиться в семейной, социально-групповой или народной истории, то его личностное измерение можно было бы считать критерием для выделения определенного типа русского мировоззрения.
Или другой пример. Обладают ли Илья Ильич Обломов и Андрей Иванович Штольц – герои романа И.А. Гончарова «Обломов» – общим мировоззрением или по крайней мере таким, которое совпадает в значительной части своих характеристик и черт? Вероятно, да. Но только когда мы говорим о нравственно-достойном позиционировании обоих героев по отношению к внешнему миру. Оба сходятся в том, что относиться к миру следует так, чтобы при этом не утратить собственное достоинство. Безусловно, в практическом отношении к миру они выступают по-разному: один – пассивно-бездеятельно, другой – творчески-преобразовательно. Но как же в таком случае объединять их под одним общим понятием «русское мировоззрение»? Столкнувшись с этой проблемой, многие исследователи и начали числить Штольца немцем, то есть обладателем иного, нерусского мировоззрения.
Еще один пример такого рода – из истории. Отличалось ли мировоззрение дворян, выступивших 14 декабря 1825 г. против Николая I, от мировоззрения тех, кто остался верен царю? Риторический вопрос. Но в таком случае как можно говорить об общем русском мировоззрении применительно к данному историческому периоду и конкретным событиям? А что делать со «степным» (В.К. Кантор) по своей сути мировоззрением Ивана Грозного и западнической ориентацией Петра Великого? Искать в них некие отличающие обоих русских инварианты? Может быть, но это не снимает проблемы различения внутри самого русского мировоззрения. Или аутентичным проявлением русского мировоззрения считать итоговый исторический результат и мировоззрение, возобладавшее в результате борьбы? В случае Петра это будет мировоззрение, в котором не будут учтены мировоззрения его оппонентов, например бояр, а в случае с Николаем I нужно будет пренебречь мировоззрением декабристов. Вряд ли это будет верно.
Как ни посмотри, оказывается, что единого русского мировоззрения нет. Более того, ни один из видов русского мировоззрения не исчезает бесследно, а дает о себе знать или даже берет реванш в иное время. (В известном смысле мировоззрение Сталина – ремейк мировоззрения Ивана Грозного.)
Поэтому мы предлагаем говорить не о некоем едином русском мировоззрении, а об основных его типах, присущих россиянам. Конечно, они необязательно должны пребывать в антагонистической борьбе. Разные типы мировоззрения, обладая собственной траекторией развития, могут находиться на различных ступенях существования: один может переживать стадию «зрелости», в то время как другой только заявляет о своем историческом «рождении» и его, возможно, ожидает большое будущее. Впрочем, это пока догадки, которые нам предстоит проверить в дальнейшем.
Обсуждая понятия «мировоззрение» и «русское», было бы уместно напомнить слова выдающегося русского ученого Д.С. Лихачева: «Национальные особенности – достоверный факт. <…> Отрицать наличие национального характера, национальной индивидуальности – значит делать мир народов очень скучным и серым. <…> Именно индивидуальные особенности народов связывают их друг с другом, заставляют нас любить народ, к которому мы даже не принадлежим, но с которым столкнула нас судьба. Следовательно, выявление национальных особенностей характера, значение их, размышление над историческими обстоятельствами, способствовавшими их созданию, помогают нам понять другие народы. Размышление над этими национальными особенностями имеет общее значение. Оно очень важно»[1 - Лихачев Д.С. Заметки о русском. М., 1981. С. 64–65.].
Возникнув на начальном этапе становления отечественной философской мысли и достигнув своего наивысшего расцвета в конце XIX – начале XX вв., в дальнейшем проблематика русского мировоззрения была предана забвению. Ее место, как известно, было занято советской идеологией, в частности учением о коммунистическом мировоззрении. Цель настоящей работы – показать, что значительная часть проблематики русского мировоззрения, какой она видится сегодня, имеет глубокие исторические корни и по-прежнему актуальна.
В пользу этого замечания есть и определенные лингвистические доводы. Так, о своего рода национальной мировоззренческой первооснове говорят языковые проявления сознания: русские «типично национальные» понятия – «душа», «судьба», «тоска», «счастье», глагольные формы – «собираться», «добираться», «постараться», «сложилось», «довелось», «получилось», «появилось». Они, как отмечают филологи, характерны именно для нашей национальной языковой картины мира, а в других языковых картинах мира отсутствуют[2 - См., например: Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005. С. 452–460.].
В качестве рабочей гипотезы мы полагаем, что национальное мировоззрение возникает у народа не сразу: ему предшествуют некоторые «протоформы» – «мироощущения» и «мировосприятия», сходящиеся в «миросознание». Эти неотрефлексированные, а подчас и вовсе неосознанные первичные мировоззренческие образования на определенной стадии исторического развития оказываются присущими народу в целом либо его большим социальным группам. Учитывая постепенность движения от состояния «миросознания» до состояния «мировоззрения», мы будем употреблять эти термины как взаимозаменяемые.
Понятие «русское» трактуется нами, конечно, не в этническом, а в предельно широком – культурном смысле. Мировоззрение индивида, не принадлежащего к русскому этносу, но принимающего как родные русскую культуру и русский язык, можно характеризовать как русское. Так, в XX в. «русскими поэтами» ощущали и называли себя, например, великие мастера русского слова евреи Осип Мандельштам и Иосиф Бродский.
При определении «местоположения» мировоззрения в системе духовных координат мы полагаем верным, как это рекомендовалось еще выдающимся русским философом С.Л. Франком, обратить внимание на содержательные компоненты «национального духа». В его известной статье «Русское мировоззрение» читаем: «Национальное мировоззрение, понимаемое как некое единство, ни в коем случае, конечно, не является национальным учением или национальной системой – таковых вообще не существует; речь идет, собственно, о национальной самобытности мышления самого по себе, о своеобразных духовных тенденциях и ведущих направлениях, в конечном счете о сути самого национального духа. Объект нашего исследования – не таинственная и гипотетическая “русская душа” как таковая, а ее, если можно так выразиться, объективные проявления и результаты, точнее, преимущественно идеи и философемы, объективно и ощутимо для всех содержащиеся в воззрениях и учениях русских мыслителей. <…> Поскольку облечь в понятия внутреннее содержание национального духа и выразить его в едином мировоззрении крайне трудно, а исчерпать его каким-либо понятийным описанием и вовсе невозможно, мы должны все-таки исходить из предпосылки, что национальный дух как реальная конкретная духовная сущность вообще существует и что мы путем исследования его проявлений в творчестве сможем все-таки прийти к пониманию и сочувственному постижению его внутренних тенденций и своеобразия»[3 - Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 163. – Курсив наш. – С.Н., В.Ф.].
В этом же духе о методе познания национального мировоззрения, переданного художником в литературных текстах, говорил и один из крупнейших русских философских и религиозных мыслителей XX столетия отец Сергей Булгаков. В своих работах, посвященных исследованию философского содержания творчества А.П. Чехова, в качестве метода анализа мировоззрения его героев он предлагал «суммирование мыслей и впечатлений, этими произведениями вызываемых». Конечно, впечатления зависят от художественных средств, от того, как писатель доносит до нас то или иное переживание, ту или иную идею. Однако для понимания духовного мира художника и изображаемых им персонажей нам, подчеркивает Булгаков, важно остановить наше внимание не столько на художественной стороне, сколько на том, «что составляет святая святых в каждом человеке, будь он великий мастер или заурядный чернорабочий, на его миросозерцании»[4 - См. ст. С.Н. Булгакова в кн.: Путешествие к Чехову. М., 1996. С. 592. – Курсив наш. – С.Н., В.Ф.].
В приведенном тезисе Франка о понимании и сочувственном постижении национального духа прежде всего хотелось бы обратить внимание на две принципиально важные мысли: национальный дух постигаем через исследование творчества (а в первую очередь Франк имеет в виду творчество литераторов и философов) и «понимание и сочувственное постижение» есть ключевые установки методологии исследования проблемы. При этом, как представляется, если предметом «понимания» могут быть идеи и философемы, то с предметом «сочувственного постижения» дело обстоит сложнее. На наш взгляд, в системе русского мировоззрения сочувственному постижению исследователя могут быть доступны только такие его элементы, которые действительно вызывают в нас, исследователях, согласное, согласованное с нами чувство (со-чувство). Если же эти элементы таковое чувство не вызывают, а даже порождают противное чувство, в том числе неприятие или негодование, то исследователям не остается ничего иного, как постараться понять и сколь возможно рационально объяснить наблюдаемое – разумеется, с позиции исследуемого исторического времени.
Предлагаемый Франком метод понимания и сочувственного постижения имеет «трехшаговый» характер. Во-первых, в воззрениях и учениях русских мыслителей (не только философов, но и писателей) нужно найти объективно и ощутимо содержащиеся «идеи и философемы». Во-вторых, своеобразие этих идей и философем необходимо постичь посредством «интуитивного углубления и вчувствования». И наконец, в-третьих, на этой основе должно состояться «сочувственное постижение» внутренних тенденций и своеобразия «национального духа». Отметим, что во всех «трех шагах» большую роль играет не столько рационально-логическое, сколько интуитивно-чувственное постижение. Хотя значение рационально-логического постижения, по крайней мере на заключительных этапах этого анализа – от классификации и систематизации до построения системы, преуменьшать также нельзя.
Однако только этих установок – понимания и сочувственного постижения – для осмысления проблемы во всей ее объемности недостаточно. Требуется дополнительное прояснение. Прежде всего онтологическое – национальное (в том числе и русское) мировоззрение не возникает у народа в оформленном виде в самом начале его исторического пути: народу нужно прожить некоторую, иногда значительную, часть своей истории, накопить в общественном сознании и памяти определенную критическую массу впечатлений о пережитых событиях. И уже на их основе народ составляет внятное, отрефлексированное представление об окружающем мире и о себе самом, формулирует систему отличительных фундаментальных принципов, жизненных смыслов и правил, которым, по мере осознания и публичного приятия, придается общенародный статус. В этом смысле, как мы полагаем, дух народа есть концентрированное выражение его истории, как объективной, так и истории его общественного сознания, включая историю идей, базовых ценностей, переживаний, чувств.
Впрочем, во всякий момент исторического развития не только реальное событие формирует народное мировоззрение и народный дух, но и само событие является продуктом и результатом материализации народного мировоззрения и народного духа. Причем поведение отдельных личностей не раз служило причиной такого поворота событий, который никак не вытекал из предшествуемых ему мировоззренческих установок народа.
В гносеологическом отношении национальному мировоззрению, как нам представляется, присущи некоторые особенности. Во-первых, народ исключительно редко заявляет о своем мировоззрении сам. Как правило, суждения выносят рефлексирующие на этот счет философы и писатели, которые собственные представления о народном мировоззрении предлагают в качестве мировоззрения народа. Отличить их представление от отображаемого ими за редким исключением не представляется возможным, и остается только полагаться на проницательность и честность «толкователей». Вторая гносеологическая особенность национального мировоззрения, на наш взгляд, состоит в том, что перед исследователем всегда стоит вопрос – какие из мировоззренческих проявлений считать индивидуальными или типичными для небольших групп, а какие отнести в разряд мировоззрения больших групп и даже установок национального мировоззрения.
Не забегая вперед, мы хотели бы обратить внимание на следующее: как часто и на каком основании та или иная характерная особенность или установка подается писателями или философами как собственно национальная и в какой мере исследователи согласны считать ее именно таковой. Так, например, А.С. Пушкин, В.А. Соллогуб, Л.Н. Толстой и другие русские писатели неоднократно говорили об одной и той же установке или даже убеждении русского дворянства – о праве «жить не по средствам»[5 - Вспомним «Евгения Онегина»: «Служив отлично-благородно / Долгами жил его отец / Давал три бала ежегодно / И промотался наконец» (Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. IV. М., 1981. С. 7). // В беседах главных героев повести В.А. Соллогуба «Тарантас» Ивана Васильевича и Василия Ивановича неоднократно повторяются слова о болезни русского дворянства – так называемой «жизни сверх состояния»: «Кажется, что наши дворяне ищут нищеты. У нас дворянская роскошь придумала множество таких требований, которые сделались необходимыми, как хлеб и вода; например, толпу слуг, лакеев в ливреях, толстого дворецкого, буфетчиков и прочей сволочи от двадцати до сорока человек, большие квартиры с гостиными, столовыми, кабинетами, экипажами в четыре лошади, ложи, наряды, кареты, – словом, можно сказать, что в Петербурге роскошь составляет первую жизненную потребность. Там сперва думают о ненужном, а уж потом о необходимом. Зато и каждый день дворянские имения продаются с молотка» (Соллогуб В.А. Три повести. М., 1978. С. 162). // Из «Анны Карениной» Л.Н. Толстого приведем диалог Степана Аркадьевича Облонского и Бартнянского о деньгах. // «– Деньги нужны, жить нечем. // – Живешь же? // – Живу, но долги. // – Что ты? Много? – с соболезнованием сказал Бартнянский. // – Очень много, тысяч двадцать. // Бартнянский весело расхохотался. // – О, счастливый человек! – сказал он. – У меня полтора миллиона и ничего нет, и, как видишь, жить еще можно!» (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 9. М., 1982. С. 321–322). // Об этой же дворянской «болезни» вспоминает и А.И. Герцен в «Былом и думах»: «Отец мой провел лет двенадцать за границей, брат его – еще дольше; они хотели устроить какую-то жизнь на иностранный манер без больших трат и с сохранением всех русских удобств. Жизнь не устроивалась, оттого ли, что они не умели сладить, оттого ли, что помещичья натура брала верх над иностранными привычками?» (Герцен А.И. Былое и думы. М., 1969. С. 34).].
Ведь отсюда вовсе не следует, будто такая установка была присуща исключительно русскому дворянству. Нечто похожее обнаруживается и у представителей привилегированных классов других стран. А если говорить о крестьянах, то в мировоззрениях, например, русского и французского крестьянства есть особенности, ярко проявляющиеся у одних и начисто отсутствующие у других в одно и то же историческое время[6 - Обратимся, например, к роману «Крестьяне» Оноре де Бальзака. Действие в нем происходит в одной из деревень Франции в начале XIX в. Лесник пытается арестовать крестьянку, совершившую незаконную порубку молодого дерева. // «…Тут распахнулась дверь и, преодолев усилием воли, никогда не покидающей контрабандиста, последнее препятствие – крутую лестницу, – в кабачок влетела и растянулась во весь рост бабка Тонсар. <…> // Вслед за старухой в дверях показался лесник… // После минутного колебания лесник сказал… // – У меня есть свидетели. <…> В вязанке у нее десятилетний дубок, распиленный на кругляки… // – Свидетели чего?.. Что ты говоришь? – проговорил Тонсар (сын старухи. – С.Н., В.Ф.), став перед лесником. – Убирайся-ка отсюда подобру-поздорову… Можешь составлять протоколы и хватать людей на дороге, там твое право, разбойник, а отсюда уходи. Мой дом, надо думать, принадлежит мне. // – Я поймал ее на месте преступления. Идем со мной, старая. // – Арестовать мою мать у меня в доме, – да какое ты имеешь на это право? Мое жилище неприкосновенно! Уж это-то мне хорошо известно. Есть у тебя приказ об аресте за подписью следователя, господина Гербе? Сюда без судебного постановления ты не войдешь!» (Оноре де Бальзак. Собр. соч.: В 24 т. Т. 18. М., 1998. С. 65). // При этом Бальзак, отмечая довольно высокий уровень правового сознания крестьян, вовсе не идеализирует их. Более того – жестко судит: «…Следует раз навсегда разъяснить людям, привыкшим к крепким устоям буржуазных семейств, что в крестьянском быту не очень-то щепетильны по части морали. Родители обольщенной дочери только в том случае взывают к нравственности, если обольститель богат и труслив. На сыновей, пока государство не отнимет их у семьи, в деревне смотрят, как на средство наживы. Корысть завладела всеми помыслами крестьян, после 1879 года в особенности; им не важно, законен ли тот или иной поступок, не безнравственен ли, а только выгоден ли он для них, или нет. <…> Вполне честный и нравственный крестьянин – редкость» (Там же. С. 51). // Можно ли, говоря о правовом сознании, представить нечто подобное в системе отношений власти и русских крестьян не то что в начале XIX в., но и столетие спустя?].
Заявленная тема также требует пояснений в связи с попыткой соединения в ней философского, литературоведческого и киноведческого анализа. Как отмечал Бердяев, «противоречия русского бытия всегда находили себе отражение в русской литературе и русской философской мысли»[7 - Бердяев Н.А. Русская идея. Судьба России. М., 2000. С. 228.]. Еще определеннее и сильнее высказывался на эту тему Франк. Анализируя вопрос о познании духовного начала в русском народе посредством изучения творчества Пушкина, философ отмечал, что мысли Пушкина, выраженные в его прозе и поэзии, как и его непосредственные духовные интуиции, образуют то, что можно назвать «духовным содержанием творчества Пушкина». «…Гений – и в первую очередь гений поэта – есть всегда самое яркое и показательное выражение народной души в ее субстанциальной первооснове»[8 - Франк С.Л. Русское мировоззрение. С. 213, 214.]. На связь литературного и философского анализа действительности, даже на литературную форму русского философствования как на особенность именно отечественной философской традиции Франк указывал специально: «В России наиболее глубокие и значительные мысли и идеи были высказаны не в систематических научных работах, а в литературной форме. Мы видим здесь художественную литературу, пронизанную глубоким философским восприятием жизни: кроме всем известных имен Достоевского и Толстого, я напомню о Пушкине, Лермонтове, Тютчеве, Гоголе. Собственной формой русского философского творчества выступает свободно написанная статья, которая крайне редко посвящена определенной философской теме и обыкновенно пишется “по поводу”, связанному с какой-либо проблемой исторической, политической и литературной жизни, и в то же время затрагивает глубокие и важные мировоззренческие вопросы»[9 - Там же. С. 151.].
Оговаривая обстоятельства, которые нам необходимо учитывать при занятиях темой русского мировоззрения и, в её пределах, темой мировоззрения русского земледельца, мы хотели бы отметить, что в отечественной философии, когда она обращается к мировоззрению и его первичной форме – миросознанию русского человека, мы почти не находим указаний на то, что речь идет о миросознании представителя какого-то определенного общественного слоя, например земледельца – крестьянина или помещика (земледельца, как правило, не столько непосредственного, сколько, так сказать, опосредованного). Обычно говорится о миросознании или мировоззрении русского народа в целом. Однако, по нашему мнению, в этом случае (по крайней мере в XVIII и XIX вв.) имеется в виду прежде всего земледелец. Наша уверенность основывается на том факте, что в те времена российское население на девяносто процентов состояло из жителей деревни или живших в городах, но существовавших за счет деревни помещиков. Впрочем, города эти (уездные прежде всего) не слишком отличались от деревенских поселений. Когда же русские философы хотели подчеркнуть иную социальную принадлежность (за рамками «русского народа»), они говорили о русской интеллигенции, духовенстве или офицерстве. Таким образом, по нашему мнению, для русской философии фигуры крестьянина и помещика – сельского дворянина в качестве предмета размышления являются центральными.
То же самое характерно и для русской литературы. При этом в отличие от философии, занятой попыткой реконструкции национального мировоззрения в его целостности, литература начиная с «Записок охотника» Тургенева, то есть примерно с середины XIX столетия, работает с персонажами в их индивидуально-типической конкретности. Именно конкретность позволяет глубже воспринимать проявляемые через персонажи национальные черты и оценивать справедливость предлагаемого литератором обобщения. Эта же мысль верна и для философа. То есть конкретные персонажи и демонстрируемые ими качества, типы мировоззрения, равно как и примеры нравственного или безнравственного поведения, вкупе могут выступать в качестве критерия для подобной оценки философами. Показать, что литературная конкретика была одним из оснований для философских обобщений, а философские обобщения, в свою очередь, поверялись литературными образами, – одна из центральных линий, проходящих через все наше исследование.
Конечно, литераторы не могут предоставить читателю мировоззрение земледельца – крестьянина или помещика в их имманентном виде. Художественный текст не исторический документ, в отличие, например, от писем крестьян, их документальных обращений к властям или фольклорных произведений. В литературном произведении мы чаще всего имеем дело с авторским вымыслом, представлениями самого художника о мировоззрении создаваемых им персонажей. Однако представления эти, с одной стороны, тяготеют к форме обобщенно-типической, возникают на основе художественного познания конкретной действительности и потому оказываются не менее ценны и значимы, чем философское познание и обобщение. С другой стороны, созданные художником образы суть продолжение, воплощение, материализация осознаваемых им его собственных пороков, представленных, естественно, не в непосредственном, а в превращенном виде. Так, Гоголь, отвечая на вопрос о том, почему же его поэма так «испугала Россию», пишет: «“Мертвые души” не потому так испугали Россию и произвели такой шум внутри ее, чтобы они раскрыли какие-нибудь ее раны или внутренние болезни, и не потому также, чтобы представили потрясающие картины торжествующего зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или перевести дух бедному читателю и что по прочтенье всей книги кажется, как бы точно вышел из какого-нибудь погреба на Божий свет. Мне бы скорей простили, если бы я выставил картинных извергов; но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более чем все его пороки и недостатки. <…> Вот в чем мое главное достоинство; но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной.
<…> Во мне заключалось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. <…> Я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моей собственной дрянью»[10 - Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. М., 1994. С. 77–78. – Курсив наш. – С.Н., В.Ф.].
Что же происходит в этом случае? Не оказывается ли художественное произведение лишь слепком с души писателя[11 - Да и «слепком с души» «гадость и дрянь» в полном смысле назвать нельзя в силу того, что отношение к ним автора принципиально иное, чем у его героев. «Не думай, однако же, после этой исповеди, – продолжает Гоголь в письме к анонимному адресату, – чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет Бог» (Там же. С. 81).], не имеющим отношения к самой жизни, то есть не теряет ли художественное произведение способность быть свидетельством, эстетическим документом действительности? Вопрос этот не праздный и, как известно, волновавший многих великих писателей. Вот какой ответ на него находим опять-таки у Гоголя: «…Когда я начал читать Пушкину первые главы из “Мертвых душ”… Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: “Боже, как грустна наша Россия!” Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда»[12 - Там же. С. 79. – Курсив наш. – С.Н., В.Ф.].
Можно сказать, что созданное писателем не есть исключительно слепок с его души, а в преломленном через душу виде является прежде всего слепком с действительности; обе эти составляющие философско-художественного обобщения непременно должны присутствовать. В разговоре с адресатом письма Гоголь сетует: «Вот если бы ты… да собрал бы… дельные замечания на мою книгу, как свои, так и других умных людей, занятых, подобно тебе, жизнью опытною и дельною, да присоединил бы к этому множество событий и анекдотов, какие ни случались в околотке вашем и во всей губернии, в подтвержденье или в опроверженье всякого дела в моей книге, которых можно бы десятками прибрать на всякую страницу, – тогда бы ты сделал доброе дело, и я бы сказал бы тебе мое крепкое спасибо»[13 - Там же. С. 80.].
«Тебе объяснится также и то, почему не выставлял я до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам хотя сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь медным лбом и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств – мертвечина будет все, что ни напишет перо твое, и, как земля от Неба, будет далеко от правды. Выдумывать кошемаров – я также не выдумал, кошемары эти давили мою собственную душу: что было в душе, то из нее и вышло»[14 - Там же. С. 81.].
Таким образом, заручившись свидетельствами двух великих авторов о том, что подлинное художественное произведение может быть достаточным документом, посредством которого возможен анализ отражаемой в нем действительности, перейдем к дальнейшему обоснованию нашего предмета исследования.
Наше внимание будет уделено земледельцам, то есть тем субъектам хозяйствования, чья жизнь и деятельность прямо или косвенно связаны с занятиями сельскохозяйственным трудом, в первую очередь – с возделыванием земли. В XVIII и XIX столетиях это были помещики и крестьяне[15 - Здесь нам представляется уместным привести одно из определений крестьянства. По нашему мнению, это «одна из исторически первых появившихся на земле социальных групп, занятая натуральным или натурально-товарным сельскохозяйственным производством на базе семейного хозяйства (двора), существующая в специфическом природном и культурном контекстах, а также отличающаяся особым типом ментальности и подчиненным положением по отношению к власти и иным социальным группам». Подробнее см., например: Никольский С.А. Крестьянство. Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т. II. С. 20.] разного статуса – помещичьи, государевы, свободные. С конца XIX в. к ним добавились, а частично и вытеснили капиталистические предприниматели – сельские буржуа-«кулаки», а также наемные работники-«батраки». В период советской власти к категории земледельцев относили колхозников, рабочих совхозов и немногочисленных крестьян-единоличников, а в конце XX столетия в нее вошли и постепенно стали занимать их место фермеры, управляющие и члены корпоративных (ЗАО, ОАО, ООО, ТНВ и других) сельскохозяйственных производственных структур.
Как отмечалось, избранная нами для рассмотрения социальная группа земледельцев в российском обществе всегда была очень многочисленной. По этой причине мировоззрение земледельцев периода XVIII – середины XIX в. можно считать совпадающим с русским мировоззрением вообще.
О терминах «русское» и «российское» необходимо сказать следующее. Безусловно, термин «российский» шире и включает в себя мировоззрение не только русского, но и других народов. Однако в анализируемом нами текстовом материале (по крайней мере, вплоть до начала XX столетия) практически нет обобщений (за исключением, пожалуй, тех, которые содержатся в текстах Гоголя и Сковороды), выходящих за рамки «русского мировоззрения». По этой причине и в связи с тем, что изучение мировоззрения иных народов, кроме нашего собственного, потребовало бы дополнительных значительных усилий, поставленная нами задача и без того широка, мы будем анализировать только русское мировоззрение, прежде всего в его базовом проявлении – мировоззрении русского земледельца.
Следующий вопрос, требующий пояснения, – что именно и на основании каких критериев мы будем включать в содержание понятия «мировоззрение русского земледельца». Сейчас, на начальной стадии исследования, нам представляется правильным относить к его содержанию те идеи, взгляды, представления (и далее – по данному ранее определению понятия «мировоззрение»), которые, во-первых, непосредственно выделяются в качестве таковых самим автором философского или литературного текста; во-вторых, непосредственно обозначаются в качестве таковых художественным персонажем или персонажами; и наконец, в-третьих, хотя и не проговариваются автором или художественным персонажем, но тем не менее проходят через весь текст произведения и могут быть выведены из него методом «интуитивного углубления и вчувствования» и названы в качестве таковых читателем, а значит, и нами, авторами исследования.
Сергей Анатольевич Никольский
Виктор Петрович Филимонов
Русское мировоззрение #1
Авторы предлагают содержательную реконструкцию русского мировоззрения и в его контексте мировоззрения русского земледельца. Термин «русское» трактуется не в этническом, а в предельно широком – культурном смысле. Цель работы – дать описание различных сторон этого сложного явления культуры.
На начальном этапе – от Пушкина, Гоголя и Лермонтова до ранней прозы Тургенева, от Новикова и Сковороды до Чаадаева и Хомякова – русская мысль и сердце активно осваивали европейские смыслы и ценности и в то же время рождали собственные. Тема сознания русского человека в его индивидуальном и общественном проявлении становится главным предметом русской литературной и философской мысли, а с появлением кинематографа – и визуально-экранного творчества.
С.А. Никольский, В.П. Филимонов
Русское мировоззрение. Смыслы и ценности российской жизни в отечественной литературе и философии XVIII – середины XIX столетия
Предисловие
Тема русского мировоззрения и, в ее контексте, мировоззрения земледельческого хотя и может показаться знакомой, на самом деле почти не освоена.
В самом деле, разве не пишут о русском мировоззрении Н. Бердяев и С. Франк? Разве не открывает нам его глубины гений А. Пушкина и Н. Гоголя? И разве нет в творчестве великого И. Тургенева персонажей-земледельцев, чьи мысли о мире и самих себе впервые в русской литературе формулируются развернуто и внятно?
Размышление над понятием русского мировоззрения и, в его контексте, мировоззрения русского земледельца составляет содержание нашего исследования. То есть говорить о какого бы то ни было рода дефиниции возможно лишь в финале работы. Вот почему было бы ошибочно ожидать, что авторы с самого начала сообщат читателю, что такое русское мировоззрение вообще и земледельческое мировоззрение в частности, а также сразу дадут их определения. Мы также не претендуем на целостный аутентичный анализ тех идейных пластов, из которых состоит каждый рассматриваемый нами художественный текст, тем более что мы, как правило, будем иметь дело с образцами высокой литературы. Это же относится и к воззрениям русских философов, чье «присутствие» в контексте нашей проблематики мы посчитали необходимым.
Тем не менее предстоящая работа требует некоторого исходного понимания феномена мировоззрения, и потому нам все же необходимо сделать несколько предварительных замечаний.
Если попытаться обозначить содержание этого феномена, выходя за рамки отдельного индивида и обращаясь к социальному слою или даже народу, то можно встретить массу трудностей. Проиллюстрируем некоторые из них, связанные с пониманием субъекта мировоззрения.
География, природно-климатические, исторические и собственно культурные факторы вынуждают рассматривать Россию не столько как целостно-единообразное, сколько как синтетическо-многообразное системное явление, внутри которого по этим критериям можно выделить различные мировоззренческие типы.
В связи с темой мировоззрения земледельца придется добавить еще одно измерение – «исторически длительный период существования в условиях свободы или рабства». Согласно этому критерию, половина населения страны вообще никогда не жила в условиях крепостного права, а в каких-то регионах оно проявляло себя то в большей, то в меньшей степени.
Помимо этого, на наш взгляд, имеет смысл ввести и предложить личностный критерий различения синкретичного понятия «русское мировоззрение», представляющий собой совокупность как минимум трех элементов: нравственно проработанной позиции субъекта, глубины и объема освоенных данным субъектом культурных смыслов и ценностей, собственного личного достоинства.
Различение с применением личностного критерия сопряжено в основе своей с включением субъекта в тело культуры, с выбором субъектом характера и траектории связи с тем или иным содержанием традиций – традиций своей семьи, своего социального слоя, народа и страны, а также с личной жизненной позицией и практикой, что обусловлено в конечном счете не только социальными, но и индивидуальными биопсихологическими факторами.
Очевидно, что в процессе социализации каждый конкретный субъект вырабатывает собственное отношение к наследуемому им прошлому. Познавая прошлое, он выносит относительно него свое суждение, принимает ту или иную трактовку его содержания, вырабатывает сам или принимает те или иные его оценки. Осваивая в познавательном и предметно-практическом смысле действительность, он определяется в отношении прошлого и настоящего, проективно позиционирует себя в вероятном будущем. В процессе личностного самоопределения и происходит становление мировоззрения конкретных субъектов.
Вместе с тем, как нам представляется, в этом процессе формируются не только не поддающиеся систематизации и классификации индивидуально неповторимые типы, но складываются и могут быть выделены различные синкретичные субъекты. И это не просто, например, раб-крепостной и господин-помещик. Внутри этих социальных типов встречаются «господствующие рабы», которые ощущают и проявляют себя независимо, в то время как среди помещиков попадаются подлинно рабские натуры. Вспомним, например, фигуры немого Герасима и его хозяйки – крепостницы-помещицы в рассказе Тургенева «Му-му». Достоинство, ощущение себя частью великого природного целого, а не одним из предметов имущества барыни, готовность, если его самоощущение будет попрано, отправиться на дно реки вслед за собачонкой – вот что прочитывается в нравственной позиции и поведении великана-немого. Будучи крепостным – всего лишь живым орудием в руках помещицы, – сам Герасим таковым себя не ощущает и не признает. И если бы ему представилась возможность самоопределиться в семейной, социально-групповой или народной истории, то его личностное измерение можно было бы считать критерием для выделения определенного типа русского мировоззрения.
Или другой пример. Обладают ли Илья Ильич Обломов и Андрей Иванович Штольц – герои романа И.А. Гончарова «Обломов» – общим мировоззрением или по крайней мере таким, которое совпадает в значительной части своих характеристик и черт? Вероятно, да. Но только когда мы говорим о нравственно-достойном позиционировании обоих героев по отношению к внешнему миру. Оба сходятся в том, что относиться к миру следует так, чтобы при этом не утратить собственное достоинство. Безусловно, в практическом отношении к миру они выступают по-разному: один – пассивно-бездеятельно, другой – творчески-преобразовательно. Но как же в таком случае объединять их под одним общим понятием «русское мировоззрение»? Столкнувшись с этой проблемой, многие исследователи и начали числить Штольца немцем, то есть обладателем иного, нерусского мировоззрения.
Еще один пример такого рода – из истории. Отличалось ли мировоззрение дворян, выступивших 14 декабря 1825 г. против Николая I, от мировоззрения тех, кто остался верен царю? Риторический вопрос. Но в таком случае как можно говорить об общем русском мировоззрении применительно к данному историческому периоду и конкретным событиям? А что делать со «степным» (В.К. Кантор) по своей сути мировоззрением Ивана Грозного и западнической ориентацией Петра Великого? Искать в них некие отличающие обоих русских инварианты? Может быть, но это не снимает проблемы различения внутри самого русского мировоззрения. Или аутентичным проявлением русского мировоззрения считать итоговый исторический результат и мировоззрение, возобладавшее в результате борьбы? В случае Петра это будет мировоззрение, в котором не будут учтены мировоззрения его оппонентов, например бояр, а в случае с Николаем I нужно будет пренебречь мировоззрением декабристов. Вряд ли это будет верно.
Как ни посмотри, оказывается, что единого русского мировоззрения нет. Более того, ни один из видов русского мировоззрения не исчезает бесследно, а дает о себе знать или даже берет реванш в иное время. (В известном смысле мировоззрение Сталина – ремейк мировоззрения Ивана Грозного.)
Поэтому мы предлагаем говорить не о некоем едином русском мировоззрении, а об основных его типах, присущих россиянам. Конечно, они необязательно должны пребывать в антагонистической борьбе. Разные типы мировоззрения, обладая собственной траекторией развития, могут находиться на различных ступенях существования: один может переживать стадию «зрелости», в то время как другой только заявляет о своем историческом «рождении» и его, возможно, ожидает большое будущее. Впрочем, это пока догадки, которые нам предстоит проверить в дальнейшем.
Обсуждая понятия «мировоззрение» и «русское», было бы уместно напомнить слова выдающегося русского ученого Д.С. Лихачева: «Национальные особенности – достоверный факт. <…> Отрицать наличие национального характера, национальной индивидуальности – значит делать мир народов очень скучным и серым. <…> Именно индивидуальные особенности народов связывают их друг с другом, заставляют нас любить народ, к которому мы даже не принадлежим, но с которым столкнула нас судьба. Следовательно, выявление национальных особенностей характера, значение их, размышление над историческими обстоятельствами, способствовавшими их созданию, помогают нам понять другие народы. Размышление над этими национальными особенностями имеет общее значение. Оно очень важно»[1 - Лихачев Д.С. Заметки о русском. М., 1981. С. 64–65.].
Возникнув на начальном этапе становления отечественной философской мысли и достигнув своего наивысшего расцвета в конце XIX – начале XX вв., в дальнейшем проблематика русского мировоззрения была предана забвению. Ее место, как известно, было занято советской идеологией, в частности учением о коммунистическом мировоззрении. Цель настоящей работы – показать, что значительная часть проблематики русского мировоззрения, какой она видится сегодня, имеет глубокие исторические корни и по-прежнему актуальна.
В пользу этого замечания есть и определенные лингвистические доводы. Так, о своего рода национальной мировоззренческой первооснове говорят языковые проявления сознания: русские «типично национальные» понятия – «душа», «судьба», «тоска», «счастье», глагольные формы – «собираться», «добираться», «постараться», «сложилось», «довелось», «получилось», «появилось». Они, как отмечают филологи, характерны именно для нашей национальной языковой картины мира, а в других языковых картинах мира отсутствуют[2 - См., например: Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005. С. 452–460.].
В качестве рабочей гипотезы мы полагаем, что национальное мировоззрение возникает у народа не сразу: ему предшествуют некоторые «протоформы» – «мироощущения» и «мировосприятия», сходящиеся в «миросознание». Эти неотрефлексированные, а подчас и вовсе неосознанные первичные мировоззренческие образования на определенной стадии исторического развития оказываются присущими народу в целом либо его большим социальным группам. Учитывая постепенность движения от состояния «миросознания» до состояния «мировоззрения», мы будем употреблять эти термины как взаимозаменяемые.
Понятие «русское» трактуется нами, конечно, не в этническом, а в предельно широком – культурном смысле. Мировоззрение индивида, не принадлежащего к русскому этносу, но принимающего как родные русскую культуру и русский язык, можно характеризовать как русское. Так, в XX в. «русскими поэтами» ощущали и называли себя, например, великие мастера русского слова евреи Осип Мандельштам и Иосиф Бродский.
При определении «местоположения» мировоззрения в системе духовных координат мы полагаем верным, как это рекомендовалось еще выдающимся русским философом С.Л. Франком, обратить внимание на содержательные компоненты «национального духа». В его известной статье «Русское мировоззрение» читаем: «Национальное мировоззрение, понимаемое как некое единство, ни в коем случае, конечно, не является национальным учением или национальной системой – таковых вообще не существует; речь идет, собственно, о национальной самобытности мышления самого по себе, о своеобразных духовных тенденциях и ведущих направлениях, в конечном счете о сути самого национального духа. Объект нашего исследования – не таинственная и гипотетическая “русская душа” как таковая, а ее, если можно так выразиться, объективные проявления и результаты, точнее, преимущественно идеи и философемы, объективно и ощутимо для всех содержащиеся в воззрениях и учениях русских мыслителей. <…> Поскольку облечь в понятия внутреннее содержание национального духа и выразить его в едином мировоззрении крайне трудно, а исчерпать его каким-либо понятийным описанием и вовсе невозможно, мы должны все-таки исходить из предпосылки, что национальный дух как реальная конкретная духовная сущность вообще существует и что мы путем исследования его проявлений в творчестве сможем все-таки прийти к пониманию и сочувственному постижению его внутренних тенденций и своеобразия»[3 - Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 163. – Курсив наш. – С.Н., В.Ф.].
В этом же духе о методе познания национального мировоззрения, переданного художником в литературных текстах, говорил и один из крупнейших русских философских и религиозных мыслителей XX столетия отец Сергей Булгаков. В своих работах, посвященных исследованию философского содержания творчества А.П. Чехова, в качестве метода анализа мировоззрения его героев он предлагал «суммирование мыслей и впечатлений, этими произведениями вызываемых». Конечно, впечатления зависят от художественных средств, от того, как писатель доносит до нас то или иное переживание, ту или иную идею. Однако для понимания духовного мира художника и изображаемых им персонажей нам, подчеркивает Булгаков, важно остановить наше внимание не столько на художественной стороне, сколько на том, «что составляет святая святых в каждом человеке, будь он великий мастер или заурядный чернорабочий, на его миросозерцании»[4 - См. ст. С.Н. Булгакова в кн.: Путешествие к Чехову. М., 1996. С. 592. – Курсив наш. – С.Н., В.Ф.].
В приведенном тезисе Франка о понимании и сочувственном постижении национального духа прежде всего хотелось бы обратить внимание на две принципиально важные мысли: национальный дух постигаем через исследование творчества (а в первую очередь Франк имеет в виду творчество литераторов и философов) и «понимание и сочувственное постижение» есть ключевые установки методологии исследования проблемы. При этом, как представляется, если предметом «понимания» могут быть идеи и философемы, то с предметом «сочувственного постижения» дело обстоит сложнее. На наш взгляд, в системе русского мировоззрения сочувственному постижению исследователя могут быть доступны только такие его элементы, которые действительно вызывают в нас, исследователях, согласное, согласованное с нами чувство (со-чувство). Если же эти элементы таковое чувство не вызывают, а даже порождают противное чувство, в том числе неприятие или негодование, то исследователям не остается ничего иного, как постараться понять и сколь возможно рационально объяснить наблюдаемое – разумеется, с позиции исследуемого исторического времени.
Предлагаемый Франком метод понимания и сочувственного постижения имеет «трехшаговый» характер. Во-первых, в воззрениях и учениях русских мыслителей (не только философов, но и писателей) нужно найти объективно и ощутимо содержащиеся «идеи и философемы». Во-вторых, своеобразие этих идей и философем необходимо постичь посредством «интуитивного углубления и вчувствования». И наконец, в-третьих, на этой основе должно состояться «сочувственное постижение» внутренних тенденций и своеобразия «национального духа». Отметим, что во всех «трех шагах» большую роль играет не столько рационально-логическое, сколько интуитивно-чувственное постижение. Хотя значение рационально-логического постижения, по крайней мере на заключительных этапах этого анализа – от классификации и систематизации до построения системы, преуменьшать также нельзя.
Однако только этих установок – понимания и сочувственного постижения – для осмысления проблемы во всей ее объемности недостаточно. Требуется дополнительное прояснение. Прежде всего онтологическое – национальное (в том числе и русское) мировоззрение не возникает у народа в оформленном виде в самом начале его исторического пути: народу нужно прожить некоторую, иногда значительную, часть своей истории, накопить в общественном сознании и памяти определенную критическую массу впечатлений о пережитых событиях. И уже на их основе народ составляет внятное, отрефлексированное представление об окружающем мире и о себе самом, формулирует систему отличительных фундаментальных принципов, жизненных смыслов и правил, которым, по мере осознания и публичного приятия, придается общенародный статус. В этом смысле, как мы полагаем, дух народа есть концентрированное выражение его истории, как объективной, так и истории его общественного сознания, включая историю идей, базовых ценностей, переживаний, чувств.
Впрочем, во всякий момент исторического развития не только реальное событие формирует народное мировоззрение и народный дух, но и само событие является продуктом и результатом материализации народного мировоззрения и народного духа. Причем поведение отдельных личностей не раз служило причиной такого поворота событий, который никак не вытекал из предшествуемых ему мировоззренческих установок народа.
В гносеологическом отношении национальному мировоззрению, как нам представляется, присущи некоторые особенности. Во-первых, народ исключительно редко заявляет о своем мировоззрении сам. Как правило, суждения выносят рефлексирующие на этот счет философы и писатели, которые собственные представления о народном мировоззрении предлагают в качестве мировоззрения народа. Отличить их представление от отображаемого ими за редким исключением не представляется возможным, и остается только полагаться на проницательность и честность «толкователей». Вторая гносеологическая особенность национального мировоззрения, на наш взгляд, состоит в том, что перед исследователем всегда стоит вопрос – какие из мировоззренческих проявлений считать индивидуальными или типичными для небольших групп, а какие отнести в разряд мировоззрения больших групп и даже установок национального мировоззрения.
Не забегая вперед, мы хотели бы обратить внимание на следующее: как часто и на каком основании та или иная характерная особенность или установка подается писателями или философами как собственно национальная и в какой мере исследователи согласны считать ее именно таковой. Так, например, А.С. Пушкин, В.А. Соллогуб, Л.Н. Толстой и другие русские писатели неоднократно говорили об одной и той же установке или даже убеждении русского дворянства – о праве «жить не по средствам»[5 - Вспомним «Евгения Онегина»: «Служив отлично-благородно / Долгами жил его отец / Давал три бала ежегодно / И промотался наконец» (Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. IV. М., 1981. С. 7). // В беседах главных героев повести В.А. Соллогуба «Тарантас» Ивана Васильевича и Василия Ивановича неоднократно повторяются слова о болезни русского дворянства – так называемой «жизни сверх состояния»: «Кажется, что наши дворяне ищут нищеты. У нас дворянская роскошь придумала множество таких требований, которые сделались необходимыми, как хлеб и вода; например, толпу слуг, лакеев в ливреях, толстого дворецкого, буфетчиков и прочей сволочи от двадцати до сорока человек, большие квартиры с гостиными, столовыми, кабинетами, экипажами в четыре лошади, ложи, наряды, кареты, – словом, можно сказать, что в Петербурге роскошь составляет первую жизненную потребность. Там сперва думают о ненужном, а уж потом о необходимом. Зато и каждый день дворянские имения продаются с молотка» (Соллогуб В.А. Три повести. М., 1978. С. 162). // Из «Анны Карениной» Л.Н. Толстого приведем диалог Степана Аркадьевича Облонского и Бартнянского о деньгах. // «– Деньги нужны, жить нечем. // – Живешь же? // – Живу, но долги. // – Что ты? Много? – с соболезнованием сказал Бартнянский. // – Очень много, тысяч двадцать. // Бартнянский весело расхохотался. // – О, счастливый человек! – сказал он. – У меня полтора миллиона и ничего нет, и, как видишь, жить еще можно!» (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 9. М., 1982. С. 321–322). // Об этой же дворянской «болезни» вспоминает и А.И. Герцен в «Былом и думах»: «Отец мой провел лет двенадцать за границей, брат его – еще дольше; они хотели устроить какую-то жизнь на иностранный манер без больших трат и с сохранением всех русских удобств. Жизнь не устроивалась, оттого ли, что они не умели сладить, оттого ли, что помещичья натура брала верх над иностранными привычками?» (Герцен А.И. Былое и думы. М., 1969. С. 34).].
Ведь отсюда вовсе не следует, будто такая установка была присуща исключительно русскому дворянству. Нечто похожее обнаруживается и у представителей привилегированных классов других стран. А если говорить о крестьянах, то в мировоззрениях, например, русского и французского крестьянства есть особенности, ярко проявляющиеся у одних и начисто отсутствующие у других в одно и то же историческое время[6 - Обратимся, например, к роману «Крестьяне» Оноре де Бальзака. Действие в нем происходит в одной из деревень Франции в начале XIX в. Лесник пытается арестовать крестьянку, совершившую незаконную порубку молодого дерева. // «…Тут распахнулась дверь и, преодолев усилием воли, никогда не покидающей контрабандиста, последнее препятствие – крутую лестницу, – в кабачок влетела и растянулась во весь рост бабка Тонсар. <…> // Вслед за старухой в дверях показался лесник… // После минутного колебания лесник сказал… // – У меня есть свидетели. <…> В вязанке у нее десятилетний дубок, распиленный на кругляки… // – Свидетели чего?.. Что ты говоришь? – проговорил Тонсар (сын старухи. – С.Н., В.Ф.), став перед лесником. – Убирайся-ка отсюда подобру-поздорову… Можешь составлять протоколы и хватать людей на дороге, там твое право, разбойник, а отсюда уходи. Мой дом, надо думать, принадлежит мне. // – Я поймал ее на месте преступления. Идем со мной, старая. // – Арестовать мою мать у меня в доме, – да какое ты имеешь на это право? Мое жилище неприкосновенно! Уж это-то мне хорошо известно. Есть у тебя приказ об аресте за подписью следователя, господина Гербе? Сюда без судебного постановления ты не войдешь!» (Оноре де Бальзак. Собр. соч.: В 24 т. Т. 18. М., 1998. С. 65). // При этом Бальзак, отмечая довольно высокий уровень правового сознания крестьян, вовсе не идеализирует их. Более того – жестко судит: «…Следует раз навсегда разъяснить людям, привыкшим к крепким устоям буржуазных семейств, что в крестьянском быту не очень-то щепетильны по части морали. Родители обольщенной дочери только в том случае взывают к нравственности, если обольститель богат и труслив. На сыновей, пока государство не отнимет их у семьи, в деревне смотрят, как на средство наживы. Корысть завладела всеми помыслами крестьян, после 1879 года в особенности; им не важно, законен ли тот или иной поступок, не безнравственен ли, а только выгоден ли он для них, или нет. <…> Вполне честный и нравственный крестьянин – редкость» (Там же. С. 51). // Можно ли, говоря о правовом сознании, представить нечто подобное в системе отношений власти и русских крестьян не то что в начале XIX в., но и столетие спустя?].
Заявленная тема также требует пояснений в связи с попыткой соединения в ней философского, литературоведческого и киноведческого анализа. Как отмечал Бердяев, «противоречия русского бытия всегда находили себе отражение в русской литературе и русской философской мысли»[7 - Бердяев Н.А. Русская идея. Судьба России. М., 2000. С. 228.]. Еще определеннее и сильнее высказывался на эту тему Франк. Анализируя вопрос о познании духовного начала в русском народе посредством изучения творчества Пушкина, философ отмечал, что мысли Пушкина, выраженные в его прозе и поэзии, как и его непосредственные духовные интуиции, образуют то, что можно назвать «духовным содержанием творчества Пушкина». «…Гений – и в первую очередь гений поэта – есть всегда самое яркое и показательное выражение народной души в ее субстанциальной первооснове»[8 - Франк С.Л. Русское мировоззрение. С. 213, 214.]. На связь литературного и философского анализа действительности, даже на литературную форму русского философствования как на особенность именно отечественной философской традиции Франк указывал специально: «В России наиболее глубокие и значительные мысли и идеи были высказаны не в систематических научных работах, а в литературной форме. Мы видим здесь художественную литературу, пронизанную глубоким философским восприятием жизни: кроме всем известных имен Достоевского и Толстого, я напомню о Пушкине, Лермонтове, Тютчеве, Гоголе. Собственной формой русского философского творчества выступает свободно написанная статья, которая крайне редко посвящена определенной философской теме и обыкновенно пишется “по поводу”, связанному с какой-либо проблемой исторической, политической и литературной жизни, и в то же время затрагивает глубокие и важные мировоззренческие вопросы»[9 - Там же. С. 151.].
Оговаривая обстоятельства, которые нам необходимо учитывать при занятиях темой русского мировоззрения и, в её пределах, темой мировоззрения русского земледельца, мы хотели бы отметить, что в отечественной философии, когда она обращается к мировоззрению и его первичной форме – миросознанию русского человека, мы почти не находим указаний на то, что речь идет о миросознании представителя какого-то определенного общественного слоя, например земледельца – крестьянина или помещика (земледельца, как правило, не столько непосредственного, сколько, так сказать, опосредованного). Обычно говорится о миросознании или мировоззрении русского народа в целом. Однако, по нашему мнению, в этом случае (по крайней мере в XVIII и XIX вв.) имеется в виду прежде всего земледелец. Наша уверенность основывается на том факте, что в те времена российское население на девяносто процентов состояло из жителей деревни или живших в городах, но существовавших за счет деревни помещиков. Впрочем, города эти (уездные прежде всего) не слишком отличались от деревенских поселений. Когда же русские философы хотели подчеркнуть иную социальную принадлежность (за рамками «русского народа»), они говорили о русской интеллигенции, духовенстве или офицерстве. Таким образом, по нашему мнению, для русской философии фигуры крестьянина и помещика – сельского дворянина в качестве предмета размышления являются центральными.
То же самое характерно и для русской литературы. При этом в отличие от философии, занятой попыткой реконструкции национального мировоззрения в его целостности, литература начиная с «Записок охотника» Тургенева, то есть примерно с середины XIX столетия, работает с персонажами в их индивидуально-типической конкретности. Именно конкретность позволяет глубже воспринимать проявляемые через персонажи национальные черты и оценивать справедливость предлагаемого литератором обобщения. Эта же мысль верна и для философа. То есть конкретные персонажи и демонстрируемые ими качества, типы мировоззрения, равно как и примеры нравственного или безнравственного поведения, вкупе могут выступать в качестве критерия для подобной оценки философами. Показать, что литературная конкретика была одним из оснований для философских обобщений, а философские обобщения, в свою очередь, поверялись литературными образами, – одна из центральных линий, проходящих через все наше исследование.
Конечно, литераторы не могут предоставить читателю мировоззрение земледельца – крестьянина или помещика в их имманентном виде. Художественный текст не исторический документ, в отличие, например, от писем крестьян, их документальных обращений к властям или фольклорных произведений. В литературном произведении мы чаще всего имеем дело с авторским вымыслом, представлениями самого художника о мировоззрении создаваемых им персонажей. Однако представления эти, с одной стороны, тяготеют к форме обобщенно-типической, возникают на основе художественного познания конкретной действительности и потому оказываются не менее ценны и значимы, чем философское познание и обобщение. С другой стороны, созданные художником образы суть продолжение, воплощение, материализация осознаваемых им его собственных пороков, представленных, естественно, не в непосредственном, а в превращенном виде. Так, Гоголь, отвечая на вопрос о том, почему же его поэма так «испугала Россию», пишет: «“Мертвые души” не потому так испугали Россию и произвели такой шум внутри ее, чтобы они раскрыли какие-нибудь ее раны или внутренние болезни, и не потому также, чтобы представили потрясающие картины торжествующего зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или перевести дух бедному читателю и что по прочтенье всей книги кажется, как бы точно вышел из какого-нибудь погреба на Божий свет. Мне бы скорей простили, если бы я выставил картинных извергов; но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более чем все его пороки и недостатки. <…> Вот в чем мое главное достоинство; но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной.
<…> Во мне заключалось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. <…> Я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моей собственной дрянью»[10 - Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. М., 1994. С. 77–78. – Курсив наш. – С.Н., В.Ф.].
Что же происходит в этом случае? Не оказывается ли художественное произведение лишь слепком с души писателя[11 - Да и «слепком с души» «гадость и дрянь» в полном смысле назвать нельзя в силу того, что отношение к ним автора принципиально иное, чем у его героев. «Не думай, однако же, после этой исповеди, – продолжает Гоголь в письме к анонимному адресату, – чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет Бог» (Там же. С. 81).], не имеющим отношения к самой жизни, то есть не теряет ли художественное произведение способность быть свидетельством, эстетическим документом действительности? Вопрос этот не праздный и, как известно, волновавший многих великих писателей. Вот какой ответ на него находим опять-таки у Гоголя: «…Когда я начал читать Пушкину первые главы из “Мертвых душ”… Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: “Боже, как грустна наша Россия!” Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда»[12 - Там же. С. 79. – Курсив наш. – С.Н., В.Ф.].
Можно сказать, что созданное писателем не есть исключительно слепок с его души, а в преломленном через душу виде является прежде всего слепком с действительности; обе эти составляющие философско-художественного обобщения непременно должны присутствовать. В разговоре с адресатом письма Гоголь сетует: «Вот если бы ты… да собрал бы… дельные замечания на мою книгу, как свои, так и других умных людей, занятых, подобно тебе, жизнью опытною и дельною, да присоединил бы к этому множество событий и анекдотов, какие ни случались в околотке вашем и во всей губернии, в подтвержденье или в опроверженье всякого дела в моей книге, которых можно бы десятками прибрать на всякую страницу, – тогда бы ты сделал доброе дело, и я бы сказал бы тебе мое крепкое спасибо»[13 - Там же. С. 80.].
«Тебе объяснится также и то, почему не выставлял я до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам хотя сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь медным лбом и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств – мертвечина будет все, что ни напишет перо твое, и, как земля от Неба, будет далеко от правды. Выдумывать кошемаров – я также не выдумал, кошемары эти давили мою собственную душу: что было в душе, то из нее и вышло»[14 - Там же. С. 81.].
Таким образом, заручившись свидетельствами двух великих авторов о том, что подлинное художественное произведение может быть достаточным документом, посредством которого возможен анализ отражаемой в нем действительности, перейдем к дальнейшему обоснованию нашего предмета исследования.
Наше внимание будет уделено земледельцам, то есть тем субъектам хозяйствования, чья жизнь и деятельность прямо или косвенно связаны с занятиями сельскохозяйственным трудом, в первую очередь – с возделыванием земли. В XVIII и XIX столетиях это были помещики и крестьяне[15 - Здесь нам представляется уместным привести одно из определений крестьянства. По нашему мнению, это «одна из исторически первых появившихся на земле социальных групп, занятая натуральным или натурально-товарным сельскохозяйственным производством на базе семейного хозяйства (двора), существующая в специфическом природном и культурном контекстах, а также отличающаяся особым типом ментальности и подчиненным положением по отношению к власти и иным социальным группам». Подробнее см., например: Никольский С.А. Крестьянство. Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т. II. С. 20.] разного статуса – помещичьи, государевы, свободные. С конца XIX в. к ним добавились, а частично и вытеснили капиталистические предприниматели – сельские буржуа-«кулаки», а также наемные работники-«батраки». В период советской власти к категории земледельцев относили колхозников, рабочих совхозов и немногочисленных крестьян-единоличников, а в конце XX столетия в нее вошли и постепенно стали занимать их место фермеры, управляющие и члены корпоративных (ЗАО, ОАО, ООО, ТНВ и других) сельскохозяйственных производственных структур.
Как отмечалось, избранная нами для рассмотрения социальная группа земледельцев в российском обществе всегда была очень многочисленной. По этой причине мировоззрение земледельцев периода XVIII – середины XIX в. можно считать совпадающим с русским мировоззрением вообще.
О терминах «русское» и «российское» необходимо сказать следующее. Безусловно, термин «российский» шире и включает в себя мировоззрение не только русского, но и других народов. Однако в анализируемом нами текстовом материале (по крайней мере, вплоть до начала XX столетия) практически нет обобщений (за исключением, пожалуй, тех, которые содержатся в текстах Гоголя и Сковороды), выходящих за рамки «русского мировоззрения». По этой причине и в связи с тем, что изучение мировоззрения иных народов, кроме нашего собственного, потребовало бы дополнительных значительных усилий, поставленная нами задача и без того широка, мы будем анализировать только русское мировоззрение, прежде всего в его базовом проявлении – мировоззрении русского земледельца.
Следующий вопрос, требующий пояснения, – что именно и на основании каких критериев мы будем включать в содержание понятия «мировоззрение русского земледельца». Сейчас, на начальной стадии исследования, нам представляется правильным относить к его содержанию те идеи, взгляды, представления (и далее – по данному ранее определению понятия «мировоззрение»), которые, во-первых, непосредственно выделяются в качестве таковых самим автором философского или литературного текста; во-вторых, непосредственно обозначаются в качестве таковых художественным персонажем или персонажами; и наконец, в-третьих, хотя и не проговариваются автором или художественным персонажем, но тем не менее проходят через весь текст произведения и могут быть выведены из него методом «интуитивного углубления и вчувствования» и названы в качестве таковых читателем, а значит, и нами, авторами исследования.