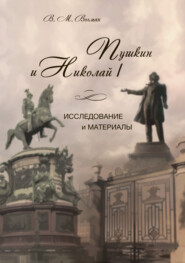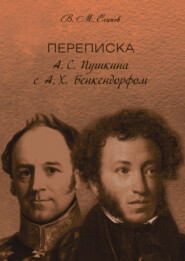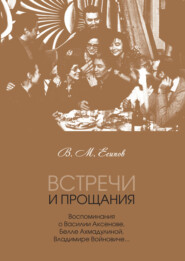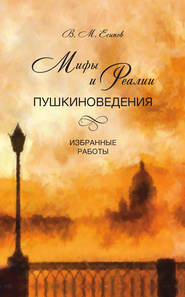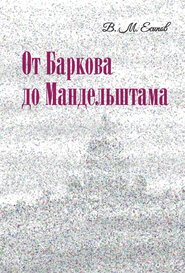По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пушкин. Тридцатые годы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Языком сердца говорю.
Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.
О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный;
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.
Текла в изгнанье жизнь моя;
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Простер – и с вами снова я.
Во мне почтил он вдохновенье;
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленье,
Ему хвалы не воспою?
Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.
Он скажет: презирай народ,
Глуши природы голос нежный,
Он скажет: просвещенья плод –
Разврат и некий дух мятежный!
Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.
А позиция эта, как уже сказано, осознавалась Пушкиным в следующем: используя постоянную связь с царем как читателем и цензором его произведений, влиять на него в целях смягчения нрава самодержца, высказывать ему свои убеждения, облеченные в художественную форму, а иногда и в прямом диалоге – через Бенкендорфа или лично.
В частности, несмотря на отрицательный отзыв царя на важный тезис пушкинской записки «О народном воспитании», где просвещение провозглашалось, по мнению царя, «исключительным основанием к совершенству» (13, 314), Пушкин в стихотворении вновь возвращает этот вопрос царю упоминанием о плодах просвещения в предпоследней строфе!
Бенкендорф в своем письме от 5 марта 1828 года (14, 6) сообщил Пушкину, что царь остался доволен стихотворением «Друзьям», но не разрешил его печатать. Видимо, три последние строфы стихотворения задевали актуальную тему: «рабы и льстецы» находились в окружении императора в изобилии…
Во время упомянутого выше февральского посещения Бенкендорфа Пушкин, видимо, просил его сообщить императору о своем желании участвовать в начинающихся военных действиях против турок. Причем он собирался отправиться на войну вместе с Вяземским. Бенкендорф письмом от 20 апреля 1828 года извещает Пушкина, что царь не согласился определить его в действующую армию, но «воспользуется первым случаем, чтобы употребить отличные» его дарования «в пользу отечества» (14,11).
Точно такое же письмо, датированное 20 апреля, получил от Бенкендорфа Вяземский.
После отказа на просьбу участвовать в войне с Турцией, официально объявленной манифестом Николая I от 14 апреля 1828 года, Пушкин в письме Бенкендорфу от 21 апреля 1828 года (14, 11) обращается с новой просьбой: испросить у императора разрешения на поездку в Париж.
Но, судя по тому, что эта поездка не состоялась, вновь получает отказ.
Следующее письмо Бенкендорфу датируется второй половиной (не ранее 17) августа 1830 года. Пушкину приходится обратиться за защитой к царю в связи с неожиданно для него возникшим требованием обер-полицмейстера отдавать все новые произведения в обычную цензуру, вопреки установленному порядку, при котором царь сам являлся цензором Пушкина (14,25).
Но оказалось, что требование это было связано с расследованием по делу о «Гавриилиаде». Расследование было вызвано жалобой дворовых людей штабс-капитана В. Ф. Митькова на то, что он развращает их в понятиях православной веры, зачитывая развратное сочинение под названием «Гавриилиада».
25 июля 1828 года особая комиссия по расследованию доноса, созданная по указанию Николая I, постановила допросить Пушкина через петербургского генерал-губернатора П. В. Голенищева-Кутузова[85 - Голенищев-Кутузов Павел Васильевич (1772–1843) – боевой генерал, участник войны 1812 г., военный генерал-губернатор Петербурга.].
В первых числах августа 1828 года Пушкин был допрошен и на вопрос, им ли «писана поэма», ответил отрицательно[86 - См.: Показания по делу о «Гавриилиаде» 3–5 августа 1828 года (Рукою Пушкина. С. 749).].
Ответ не удовлетворил царя, и 12 августа 1828 года он дал указание вновь допросить Пушкина. 19 августа 1828 года Пушкин вновь письменно отрекся от своего авторства[87 - См.: Показания по делу о «Гавриилиаде» 19 августа 1828 года (Рукою Пушкина. С. 749–750).]. Причем в черновом варианте ответа авторство поэмы он попытался приписать князю Д. П. Горчакову[88 - Горчаков Дмитрий Петрович (1758–1824) – поэт-сатирик, драматург.], известному для современников автору рукописных сатир. Однако вносить в официальный ответ заведомую неправду Пушкин не решился и исключил упоминание о Горчакове из окончательного текста. Позже он все-таки включит этот сочиненный им «слух» в письмо Вяземскому от 1 сентября 1828 года, зная, что письмо будет перлюстрировано (14, 26–27).
28 августа ответ Пушкина был отправлен Николаю I, который находился в это время в Варне, на театре военных действий против турок. Ответ Пушкина вновь не удовлетворил царя, и он начертал на том же листке резолюцию, в которой одному из членов особой комиссии П. А. Толстому[89 - Толстой Петр Александр ович (1771–1844) – управляющий Главным штабом.] предписывалось вновь призвать Пушкина: «Г. Толстому призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтобы он помог Правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем»[90 - Дела III Отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии об А. С. Пушкине. Предисловие С. Сухонина. СПб., 1906. С. 344.].
Ситуация становилась для Пушкина все более серьезной. Недаром в стихотворении «Предчувствие», которое возникло в августовские дни 1828 года, он признается:
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне…
Резолюция царя была получена Толстым в конце сентября, а 2 октября Пушкин был вызван к нему. Представ перед Толстым и выслушав резолюцию Николая I, Пушкин, буквально загнанный в угол, попросил разрешения написать лично царю. И, получив утвердительный ответ, тут же написал и передал Толстому письмо в запечатанном конверте. По-видимому, письмо царю содержало признание в авторстве «Гавриилиады». В дневнике Пушкина за 1828 год в записи от 2 октября значится: «Письмо к царю»[91 - Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. VIII. С. 18.].
16 октября Пушкин вновь был вызван к Толстому, и тот объявил ему, что «дознание о „Гавриилиаде“ прекращается»[92 - Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 2. С. 425.]. В дневнике Пушкина за 1828 год в записи от 16 октября значится: «Граф Толстой от Государя»[93 - Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. VIII. С. 18.].
Но официальным закрытием расследования явилась резолюция Николая I от 31 декабря 1828 года: «Мне это дело подробно известно и совершенно кончено»[94 - Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 2. С. 446.].
«Обласкан царем»
Не получив от царя разрешения на зачисление в действующую армию, Пушкин решает поехать на Кавказ частным образом, якобы для того, чтобы повидаться с братом, который служил в это время под началом давнего друга поэта Н. Н. Раевского-сына. Предположительно 10 марта Пушкин едет из Петербурга в Москву, где останавливается на некоторое время.
21 марта 1829 года о намерении Пушкина ехать на Кавказ становится известно Бенкендорфу через его ближайшего помощника Фон-Фока[95 - Фон-Фок Максим Яковлевич (1777–1831) – управляющий III Отделением Собственной Е. И. В. канцелярии.], получившего об этом агентурные сведения. При этом Фон-Фок вполне благодушно заметил: «Господин поэт столь же опасен pour l’Etal[96 - Для государства (франц.).], как не очиненное перо. Ни он не затеет ничего в своей ветреной голове, ни его никто не возьмет в свои затеи. Это верно!.. Laissez-le courir le monde, chercher des filles, des inspirations poetigue et – du jei»[97 - Дела III Отделения… С. 82. Перевод франц. текста: «Пусть вращается в свете, ищет девиц, поэтического вдохновения – игры».].
На следующий день Бенкендорф осведомляется у петербургского генерал-губернатора П. В. Голенищева-Кутузова, направил ли он предписание кавказскому начальству установить надзор за поэтом по его прибытии на Кавказ[98 - Дела III Отделения… С. 83.].
В ночь с 1 на 2 апреля Пушкин выезжает из Москвы. Буквально накануне отъезда он через Ф. И. Толстого (Американца)[99 - Толстой Федор Иванович (Американец) (1782–1846) – участник войны 1812 г., авантюрист, картежник, бретер, друг Д. И. Давыдова и Вяземского, посредник во время сватовства Пушкина к Наталье Гончаровой.] просит руки Натальи Гончаровой[100 - Гончарова Наталья Николаевна (1812–1863) – с 18 февраля 1831 г. жена Пушкина.], но получает от ее матери Н. И. Гончаровой[101 - Гончарова Наталья Ивановна, рожд. Загряжская (1785–1848) – мать Натальи Гончаровой.] уклончивый ответ: она не отказывает поэту, но, ссылаясь на молодость дочери, откладывает решение[102 - В это же время, 26–27 марта в Петербурге выходит из печати поэма «Полтава», но рассмотрение фактов творческой биографии поэта не входит в наши задачи.].
До осени Пушкин выпадает из поля зрения Бенкендорфа и царя. В Москву он возвращается лишь 20 сентября, а в Петербург выезжает 12 октября с заездом в Тверскую губернию. Видимо, здесь и настигает его выдержанное в строгом тоне письмо Бенкендорфа от 14 октября 1829 года (14, 49), в котором он требует от Пушкина объяснений по поводу самовольной поездки в «закавказские страны».
Пушкин отвечает Бенкендорфу 10 ноября (14, 50), сразу по прибытии в Петербург. Ему приходится оправдываться не только за поездку, но и за участие в боевых действиях. «Раз я уже был там, – пишет поэт, – мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то путешественника». Завершается письмо просьбой к Бенкендорфу смягчить неудовольствие Николая I, вызванное его (Пушкина) опрометчивым поведением.
7 января 1830 года Пушкин (14, 56) через Бенкендорфа вновь просит царя отпустить его в Европу (во Францию или Италию), а если такая поездка не будет одобрена, просит «соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством». В том же письме Пушкин просит разрешить ему печатание «Бориса Годунова».
Царь отказывает Пушкину в поездках, а по поводу «Бориса Годунова» обещает ответить через несколько дней (14, 58).
Несмотря на неудовольствие царя и строгий тон последних писем Бенкендорфа, Пушкин, выполняя «священный долг» дружбы по отношению к семье Раевских, считает для себя возможным обратиться к шефу жандармов с ходатайством о помощи вдове героя Отечественной войны 1812 года генерала Н. Н. Раевского[103 - Раевский Николай Николаевич (1771–1829) – боевой генерал, участник войны 1812 г.], оказавшейся в бедственном положении после смерти мужа. При этом он оправдывает свой поступок в глазах Бенкендорфа следующим соображением: «То, что выбор ее пал на меня, само по себе уже свидетельствует, до какой степени она лишена друзей, всяких надежд и помощи» (14, 58).
Для нас же ходатайство в пользу вдовы генерала свидетельствует о том, что с царем и Бенкендорфом Пушкин имеет вполне установившиеся отношения, что позволяет ему обращаться к ним с теми или иными просьбами. Особенно актуальным это становится для него во время женитьбы и в период подготовки к ней.
Между тем вместо ответа на просьбу Пушкина разрешить печатание «Бориса Годунова» он получает новый выговор. В письме от 28 января 1830 года Бенкендорф сообщает ему о неудовольствии Николая I в связи с его внешним видом на приеме у французского посланника, где он был «во фраке, между тем как все прочие приглашенные в сие общество были в мундирах». Пушкину указывается, что «в подобных собраниях» ему следует, как и «всем принадлежащим к дворянскому сословию», являться в мундире той губернии, в которой у него имеется имение или в которой он родился (14, 61).
Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.
О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный;
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.
Текла в изгнанье жизнь моя;
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Простер – и с вами снова я.
Во мне почтил он вдохновенье;
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленье,
Ему хвалы не воспою?
Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.
Он скажет: презирай народ,
Глуши природы голос нежный,
Он скажет: просвещенья плод –
Разврат и некий дух мятежный!
Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.
А позиция эта, как уже сказано, осознавалась Пушкиным в следующем: используя постоянную связь с царем как читателем и цензором его произведений, влиять на него в целях смягчения нрава самодержца, высказывать ему свои убеждения, облеченные в художественную форму, а иногда и в прямом диалоге – через Бенкендорфа или лично.
В частности, несмотря на отрицательный отзыв царя на важный тезис пушкинской записки «О народном воспитании», где просвещение провозглашалось, по мнению царя, «исключительным основанием к совершенству» (13, 314), Пушкин в стихотворении вновь возвращает этот вопрос царю упоминанием о плодах просвещения в предпоследней строфе!
Бенкендорф в своем письме от 5 марта 1828 года (14, 6) сообщил Пушкину, что царь остался доволен стихотворением «Друзьям», но не разрешил его печатать. Видимо, три последние строфы стихотворения задевали актуальную тему: «рабы и льстецы» находились в окружении императора в изобилии…
Во время упомянутого выше февральского посещения Бенкендорфа Пушкин, видимо, просил его сообщить императору о своем желании участвовать в начинающихся военных действиях против турок. Причем он собирался отправиться на войну вместе с Вяземским. Бенкендорф письмом от 20 апреля 1828 года извещает Пушкина, что царь не согласился определить его в действующую армию, но «воспользуется первым случаем, чтобы употребить отличные» его дарования «в пользу отечества» (14,11).
Точно такое же письмо, датированное 20 апреля, получил от Бенкендорфа Вяземский.
После отказа на просьбу участвовать в войне с Турцией, официально объявленной манифестом Николая I от 14 апреля 1828 года, Пушкин в письме Бенкендорфу от 21 апреля 1828 года (14, 11) обращается с новой просьбой: испросить у императора разрешения на поездку в Париж.
Но, судя по тому, что эта поездка не состоялась, вновь получает отказ.
Следующее письмо Бенкендорфу датируется второй половиной (не ранее 17) августа 1830 года. Пушкину приходится обратиться за защитой к царю в связи с неожиданно для него возникшим требованием обер-полицмейстера отдавать все новые произведения в обычную цензуру, вопреки установленному порядку, при котором царь сам являлся цензором Пушкина (14,25).
Но оказалось, что требование это было связано с расследованием по делу о «Гавриилиаде». Расследование было вызвано жалобой дворовых людей штабс-капитана В. Ф. Митькова на то, что он развращает их в понятиях православной веры, зачитывая развратное сочинение под названием «Гавриилиада».
25 июля 1828 года особая комиссия по расследованию доноса, созданная по указанию Николая I, постановила допросить Пушкина через петербургского генерал-губернатора П. В. Голенищева-Кутузова[85 - Голенищев-Кутузов Павел Васильевич (1772–1843) – боевой генерал, участник войны 1812 г., военный генерал-губернатор Петербурга.].
В первых числах августа 1828 года Пушкин был допрошен и на вопрос, им ли «писана поэма», ответил отрицательно[86 - См.: Показания по делу о «Гавриилиаде» 3–5 августа 1828 года (Рукою Пушкина. С. 749).].
Ответ не удовлетворил царя, и 12 августа 1828 года он дал указание вновь допросить Пушкина. 19 августа 1828 года Пушкин вновь письменно отрекся от своего авторства[87 - См.: Показания по делу о «Гавриилиаде» 19 августа 1828 года (Рукою Пушкина. С. 749–750).]. Причем в черновом варианте ответа авторство поэмы он попытался приписать князю Д. П. Горчакову[88 - Горчаков Дмитрий Петрович (1758–1824) – поэт-сатирик, драматург.], известному для современников автору рукописных сатир. Однако вносить в официальный ответ заведомую неправду Пушкин не решился и исключил упоминание о Горчакове из окончательного текста. Позже он все-таки включит этот сочиненный им «слух» в письмо Вяземскому от 1 сентября 1828 года, зная, что письмо будет перлюстрировано (14, 26–27).
28 августа ответ Пушкина был отправлен Николаю I, который находился в это время в Варне, на театре военных действий против турок. Ответ Пушкина вновь не удовлетворил царя, и он начертал на том же листке резолюцию, в которой одному из членов особой комиссии П. А. Толстому[89 - Толстой Петр Александр ович (1771–1844) – управляющий Главным штабом.] предписывалось вновь призвать Пушкина: «Г. Толстому призвать Пушкина к себе и сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его слову верю. Но желаю, чтобы он помог Правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем»[90 - Дела III Отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии об А. С. Пушкине. Предисловие С. Сухонина. СПб., 1906. С. 344.].
Ситуация становилась для Пушкина все более серьезной. Недаром в стихотворении «Предчувствие», которое возникло в августовские дни 1828 года, он признается:
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне…
Резолюция царя была получена Толстым в конце сентября, а 2 октября Пушкин был вызван к нему. Представ перед Толстым и выслушав резолюцию Николая I, Пушкин, буквально загнанный в угол, попросил разрешения написать лично царю. И, получив утвердительный ответ, тут же написал и передал Толстому письмо в запечатанном конверте. По-видимому, письмо царю содержало признание в авторстве «Гавриилиады». В дневнике Пушкина за 1828 год в записи от 2 октября значится: «Письмо к царю»[91 - Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. VIII. С. 18.].
16 октября Пушкин вновь был вызван к Толстому, и тот объявил ему, что «дознание о „Гавриилиаде“ прекращается»[92 - Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 2. С. 425.]. В дневнике Пушкина за 1828 год в записи от 16 октября значится: «Граф Толстой от Государя»[93 - Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. VIII. С. 18.].
Но официальным закрытием расследования явилась резолюция Николая I от 31 декабря 1828 года: «Мне это дело подробно известно и совершенно кончено»[94 - Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 2. С. 446.].
«Обласкан царем»
Не получив от царя разрешения на зачисление в действующую армию, Пушкин решает поехать на Кавказ частным образом, якобы для того, чтобы повидаться с братом, который служил в это время под началом давнего друга поэта Н. Н. Раевского-сына. Предположительно 10 марта Пушкин едет из Петербурга в Москву, где останавливается на некоторое время.
21 марта 1829 года о намерении Пушкина ехать на Кавказ становится известно Бенкендорфу через его ближайшего помощника Фон-Фока[95 - Фон-Фок Максим Яковлевич (1777–1831) – управляющий III Отделением Собственной Е. И. В. канцелярии.], получившего об этом агентурные сведения. При этом Фон-Фок вполне благодушно заметил: «Господин поэт столь же опасен pour l’Etal[96 - Для государства (франц.).], как не очиненное перо. Ни он не затеет ничего в своей ветреной голове, ни его никто не возьмет в свои затеи. Это верно!.. Laissez-le courir le monde, chercher des filles, des inspirations poetigue et – du jei»[97 - Дела III Отделения… С. 82. Перевод франц. текста: «Пусть вращается в свете, ищет девиц, поэтического вдохновения – игры».].
На следующий день Бенкендорф осведомляется у петербургского генерал-губернатора П. В. Голенищева-Кутузова, направил ли он предписание кавказскому начальству установить надзор за поэтом по его прибытии на Кавказ[98 - Дела III Отделения… С. 83.].
В ночь с 1 на 2 апреля Пушкин выезжает из Москвы. Буквально накануне отъезда он через Ф. И. Толстого (Американца)[99 - Толстой Федор Иванович (Американец) (1782–1846) – участник войны 1812 г., авантюрист, картежник, бретер, друг Д. И. Давыдова и Вяземского, посредник во время сватовства Пушкина к Наталье Гончаровой.] просит руки Натальи Гончаровой[100 - Гончарова Наталья Николаевна (1812–1863) – с 18 февраля 1831 г. жена Пушкина.], но получает от ее матери Н. И. Гончаровой[101 - Гончарова Наталья Ивановна, рожд. Загряжская (1785–1848) – мать Натальи Гончаровой.] уклончивый ответ: она не отказывает поэту, но, ссылаясь на молодость дочери, откладывает решение[102 - В это же время, 26–27 марта в Петербурге выходит из печати поэма «Полтава», но рассмотрение фактов творческой биографии поэта не входит в наши задачи.].
До осени Пушкин выпадает из поля зрения Бенкендорфа и царя. В Москву он возвращается лишь 20 сентября, а в Петербург выезжает 12 октября с заездом в Тверскую губернию. Видимо, здесь и настигает его выдержанное в строгом тоне письмо Бенкендорфа от 14 октября 1829 года (14, 49), в котором он требует от Пушкина объяснений по поводу самовольной поездки в «закавказские страны».
Пушкин отвечает Бенкендорфу 10 ноября (14, 50), сразу по прибытии в Петербург. Ему приходится оправдываться не только за поездку, но и за участие в боевых действиях. «Раз я уже был там, – пишет поэт, – мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то путешественника». Завершается письмо просьбой к Бенкендорфу смягчить неудовольствие Николая I, вызванное его (Пушкина) опрометчивым поведением.
7 января 1830 года Пушкин (14, 56) через Бенкендорфа вновь просит царя отпустить его в Европу (во Францию или Италию), а если такая поездка не будет одобрена, просит «соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством». В том же письме Пушкин просит разрешить ему печатание «Бориса Годунова».
Царь отказывает Пушкину в поездках, а по поводу «Бориса Годунова» обещает ответить через несколько дней (14, 58).
Несмотря на неудовольствие царя и строгий тон последних писем Бенкендорфа, Пушкин, выполняя «священный долг» дружбы по отношению к семье Раевских, считает для себя возможным обратиться к шефу жандармов с ходатайством о помощи вдове героя Отечественной войны 1812 года генерала Н. Н. Раевского[103 - Раевский Николай Николаевич (1771–1829) – боевой генерал, участник войны 1812 г.], оказавшейся в бедственном положении после смерти мужа. При этом он оправдывает свой поступок в глазах Бенкендорфа следующим соображением: «То, что выбор ее пал на меня, само по себе уже свидетельствует, до какой степени она лишена друзей, всяких надежд и помощи» (14, 58).
Для нас же ходатайство в пользу вдовы генерала свидетельствует о том, что с царем и Бенкендорфом Пушкин имеет вполне установившиеся отношения, что позволяет ему обращаться к ним с теми или иными просьбами. Особенно актуальным это становится для него во время женитьбы и в период подготовки к ней.
Между тем вместо ответа на просьбу Пушкина разрешить печатание «Бориса Годунова» он получает новый выговор. В письме от 28 января 1830 года Бенкендорф сообщает ему о неудовольствии Николая I в связи с его внешним видом на приеме у французского посланника, где он был «во фраке, между тем как все прочие приглашенные в сие общество были в мундирах». Пушкину указывается, что «в подобных собраниях» ему следует, как и «всем принадлежащим к дворянскому сословию», являться в мундире той губернии, в которой у него имеется имение или в которой он родился (14, 61).