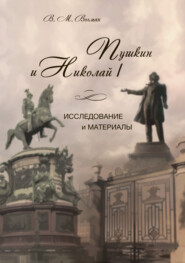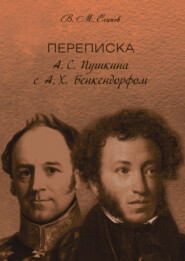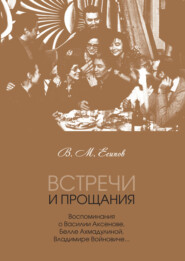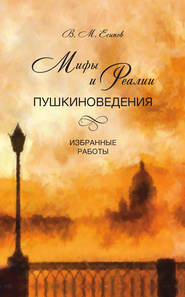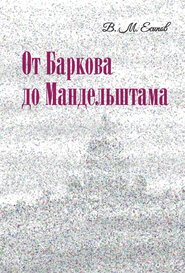По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пушкин. Тридцатые годы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Начало славных дней
Петра Мрачили мятежи и казни.
Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.
«Стансы» были опубликованы лишь через год в № 1 «Московского вестника», и в этом нет никакой скрытой подоплеки. Просто Пушкин не мог представлять на просмотр царю, вызвавшемуся быть его цензором, отдельное стихотворение. Поэтому лишь в середине 1827 года он передал ему через III Отделение и Бенкендорфа сразу несколько произведений, среди которых была и окончательная редакция «Стансов». Ответ пришел через Бенкендорфа 22 августа 1827 года (13, 335). Вот почему № 1 «Московского вестника» со «Стансами» вышел из печати только 15–18 января 1828 года[65 - Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 2. С. 340.].
Само сопоставление Николая I c Петром I в пушкинском стихотворении, конечно, поднимало царя и в собственных глазах, и в общественном представлении.
Не только во враждебных Пушкину кругах, но даже и среди части друзей «Стансы» были восприняты как измена поэта прежним идеалам, как лесть императору. На самом деле в этих стихах, обращенных непосредственно к Николаю I, разговор ведется «на равных», автор ощущает себя личностью, во всяком случае, равновеликой адресату стихотворения, обращается к царю на «ты» и даже позволяет себе давать ему советы, что будет продолжать делать и в дальнейшем.
В возможности хоть в какой-то мере влиять на царя в соответствии со своими представлениями о пользе отечеству, творить таким образом общественное добро, в частности способствовать освобождению сосланных в Сибирь декабристов, состояла теперь принципиальная позиция Пушкина.
Именно в таком ключе следует рассматривать и стихотворение «Во глубине сибирских руд…», написанное буквально через несколько дней (26 декабря 1826 года) после возникновения первой редакции «Стансов» и трактовавшееся в советское время как чрезвычайно радикальное.
На самом деле связь двух этих стихотворений не случайна. В послании к декабристам, которое 2 января 1827 года увезет с собой А. Г. Муравьева[66 - Муравьева Александра Григорьевна (1804–1832) – жена декабриста Никиты Муравьева, одной из первых среди жен декабристов последовала за мужем в Сибирь. Пушкин передал с нею стихотворение «Во глубине сибирских руд…» и послание Пущину «Мой первый друг, мой друг бесценный…».], едущая к мужу в Сибирь, содержится «система намеков на возможное в обозримом будущем освобождение»[67 - Непомнящий В. С. Комментарий к стихотворению «Во глубине сибирских руд…» // Пушкин. Полн. собр. соч., размещенных в хронологическом порядке. Т. V (1826–1827). М.: ИМЛИ РАН, 2015. С. 366.] по милости царя. Пушкин всерьез надеялся на такой исход.
В таком же духе следует воспринимать завершающую строку послания – «И братья меч вам отдадут» – как «возвращение дворянского достоинства, полное восстановление в правах»[68 - Непомнящий В. С. Комментарий к стихотворению «Во глубине сибирских руд…». С. 367.].
Но возвратимся к «Стансам» – они явились несколько отсроченным результатом того впечатления, которое произвел на Пушкина Николай I во время встречи в Чудовом монастыре 8 сентября 1826 года, когда поэт был очарован великодушием и простотой поведения монарха, обладавшего, по воспоминаниям современников, хорошими артистическими данными[69 - Именно это качество Николая I запечатлел Тютчев в эпиграмме 1855 года: «…Ты был не царь, а лицедей».]. Это «очарование» сохранялось долго, чуть ли не до 1833 года.
Однако своеобразный договор с царем, заключенный во время личной встречи, был устным, и некоторые вещи были восприняты сторонами по-разному, что уже в ближайшее время стало проявляться и давать о себе знать.
В уже упомянутом письме от 30 сентября 1826 года Бенкендорф сообщал Пушкину с определенной долей придворного лукавства, что царь не только не запрещает ему посещать Петербург, но и предоставляет ему полную свободу в этом вопросе, «с тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешения через письмо» (13, 298). То есть поехать можно, но не так, как мог поехать любой российский верноподданный: только получив разрешение.
А 22 ноября 1826 года Бенкендорф запрашивает Пушкина, верны ли дошедшие до него сведения о том, что он «изволил читать в некоторых обществах сочиненную им вновь трагедию», имея в виду «Бориса Годунова» (13, 307), и рассматривает этот факт как нарушение поэтом обещания представлять все вновь написанное на просмотр Николаю I.
Пушкину письмом от 29 ноября 1826 года приходится оправдываться. Он признается, что «читал свою трагедию некоторым особам («…конечно не из ослушания, но только потому, что худо понял Высочайшую волю Государя») (13, 308), и обязуется представить «Бориса Годунова» на рассмотрение императору.
Пушкин не мог знать тогда и, вероятнее всего, так и не узнал до своей кончины, какое впечатление произвело это его письмо на императора. И мы бы об этом, возможно, никогда не узнали, если бы заведующий императорской библиотекой Р. А. Гримм[70 - Гримм Р. А. (1884–1903) – заведующий Императорский библиотекой.] не сделал по приказанию императора Николая II выписку из писем А. Х. Бенкендорфа к императору Николаю I, касающихся Пушкина. Как следует из этих выписок, Николай I написал Бенкендорфу следующее: «Я очарован письмом Пушкина, и мне очень любопытно прочесть его сочинение; велите сделать выдержку кому-нибудь верному, чтобы она не распространялась»[71 - Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I // Старина и новизна (исторические сборники). Кн. 6. СПб., 1903. С. 4. Выписки не датированы. Пер. с франц.].
Этим «верным» для Бенкендорфа был Ф. В. Булгарин[72 - Булгарин Фаддей Венедиктович (Ян Тадеуш Кшиштов) (1789–1859) – писатель, критик польского происхождения, впервые в России с 1825 года издатель политической и литературной частной газеты «Северная пчела», в которой начиная с марта 1830 года велась травля Пушкина и писателей его круга.], который и подготовил отзыв о пушкинской трагедии для Николая I.
И как бы ни был царь «очарован» упомянутым письмом Пушкина, его отзыв о трагедии не принес радости ее автору. Высочайший отзыв о трагедии Бенкендорф сообщает Пушкину в письме от 14 декабря 1826 года. Вместе с рядом пометок в тексте трагедии ему было предложено переделать ее в «историческую повесть или роман, наподобие Валтера Скота» (13, 313).
В ответном письме от 3 января 1827 года Пушкин выражает формальное согласие с критикой высочайшего читателя, но по сути ответ его тверд и непреклонен: «Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное» (13, 317).
А в письме от 23 декабря 1826 года Бенкендорф сообщает Пушкину мнение царя о его записке «О народном воспитании», где главной является следующая сентенция Николая I: считать «просвещение и гений… исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия» (13, 314).
Этому письму Бенкендорфа предшествовало его донесение царю о пушкинской записке: «…он (Пушкин. – В. Е.) мне только что прислал свои заметки на общественное воспитание, которые при сем прилагаю. Заметки человека, возвращающегося к здравому смыслу»[73 - Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 5.].
Бенкендорфу понравилось отсутствие радикализма в пушкинском сочинении, но царь, прочитав его, оказался проницательнее своего верного служаки…
Для Пушкина критический отзыв царя не был неожиданностью, но он брался за написание этой записки не для того, чтобы снискать высочайшее одобрение. В разговоре с А. Н. Вульфом[74 - Вульф Алексей Николаевич (1805–1881) – воспитанник Дерптского университета, сын П. А. Осиповой от первого брака, приятель Пушкина.] в 1827 году он скажет: «Мне легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтобы сделать добро»[75 - А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 416.]. Здесь ощутим тот же принцип общения Пушкина с царем, как и в «Стансах».
Таким образом, с самого начала отношения с Николаем I отнюдь не безоблачны, и Пушкину приходится лавировать в определившемся для него коридоре возможностей между опасностью навлечь высочайшее неудовольствие и невозможностью поступиться своими убеждениями.
При этом поэт находится под постоянным надзором агентов Бенкендорфа, о чем свидетельствует следующее его донесение царю: «Пушкин автор в Москве и всюду говорит о Вашем Императорском Величестве с благодарностью и глубочайшей преданностью; за ним все-таки следят внимательно»[76 - Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 5. Следует отнести к концу 1826 года.].
Пушкинское простодушие явно контрастирует с глубоко продуманным и по-прежнему недоверчивым отношением к нему при дворе. Так же, как Пушкин намерен при возможности влиять на царя в сторону либерализации его позиций («делать добро»), царь и Бенкендорф надеются использовать гений поэта в своих целях (направлять его), исходя из своего понимания государственных интересов. Это четко сформулировано в следующем донесении Бенкендорфа царю: «Отец поэта Пушкина здесь[77 - В Ревеле.]; его сын приедет сюда на днях[78 - Пушкин не приедет в Ревель.]. В день моего отъезда[79 - 6 июля 1827 года.] из Петербурга этот последний, после свиданья со мной, говорил в Английском клубе с восторгом о Вашем Величестве и заставлял лиц, обедающих с ним, пить здоровье Вашего Величества. Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно»[80 - Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 6.].
В заключительной фразе – квинтэссенция всегдашнего в России исключительно прагматичного отношения власти к художнику: сам он из себя ничего для них не представляет, но его творчество может быть полезно, если удастся повернуть его талант в сторону государственных, в понимании власти, интересов.
Между тем продолжается еще дело о распространении стихов «На 14 декабря» (не пропущенные цензурой в 1825 году строки из стихотворения «Андрей Шенье»), начавшееся одновременно с вызовом Пушкина в Москву Николаем I.
13 января 1827 года московский обер-полицмейстер поручает привлечь к следствию самого поэта, чтобы получить его личные разъяснения по поводу «возмутительных» стихов. 27 января такие разъяснения в письменном виде были от Пушкина получены[81 - См.: Объяснение по поводу отрывка из «Андрея Шенье», получившего название «На 14-е декабря 1825 г.» от 17 января 1827 года (Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М. – Л., Academia 1935. С. 745–746).]. Этого оказалось недостаточно, и 29 июня того же года Пушкиным были вновь даны в письменном виде разъяснения, что речь в этих стихах идет о Французской революции и они никоим образом не связаны с восстанием декабристов[82 - См.: Объяснение по поводу отрывка из «Андрея Шенье», получившего название «На 14-е декабря 1825 г.» от 29 июня 1827 года (Рукою Пушкина. С. 746–747).]. И, наконец, 24 ноября того же года Пушкин письменно свидетельствует, что отрывок из «Андрея Шенье» стал известен публике, потому что все стихотворение ходило по рукам еще до представления стихотворения в цензуру[83 - См.: Объяснение по поводу отрывка из «Андрея Шенье» от 24 ноября 1827 года (Рукою Пушкина. С. 747–748).].
На этом дело было прекращено.
15 октября 1827 года Пушкин сделал запись у себя в дневнике о случайной встрече с Кюхельбекером. Накануне, 14 октября, на станции Залазы Псковской губернии, где он менял лошадей по дороге из Михайловского в Петербург, внимание Пушкина привлек один из арестантов, предположительно поляк, которых тоже везли через Залазы, но в обратном направлении. Арестант стоял, «опершись у колонны». «Увидев меня, – записал Пушкин в дневнике, – он с живостию на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга – и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством – я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я поехал в свою сторону. На следующей станции узнал я, что их везут из Шлиссельбурга, – но куда же» (12, 307).
Сохранился рапорт фельдъегеря, руководившего перевозкой арестованных: «Господину дежурному генералу Главного штаба Его Императорского Величества генерал-адъютанту и кавалеру Потапову от фельдъегеря Подгорного.
РАПОРТ
Отправлен я был сего месяца 12-го числа в гор. Динабург с государственными преступниками, и на пути, приехав на станцию Залазы, вдруг бросился к преступнику Кюхельбекеру ехавший из Новоржева в С.-Петербург некто г. Пушкин и начал после поцелуев с ним разговаривать. Я, видя сие, наипоспешнее отправил как первого, так и тех двух за полверсты от станции, дабы не дать им разговаривать, а сам остался для написания подорожной и заплаты прогонов.
Но г. Пушкин просил меня дать Кюхельбекеру денег, я в сем ему отказал. Тогда он, г. Пушкин, кричал и, угрожая мне, говорил, что по прибытии в С.-Петербург в ту же минуту доложу Его Императорскому Величеству, как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему на дорогу денег, сверх того не премину также сказать и генерал-адъютанту Бенкендорфу. Сам же г. Пушкин между угрозами объявил мне, что он посажен был в крепость и потом выпущен, почему я еще более препятствовал иметь ему сношение с арестантом, а преступник Кюхельбекер мне сказал: это тот Пушкин, который сочиняет.
28 октября 1827 года»[84 - Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 т. Т. VIII. М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1978. С. 349.].
Из этого рапорта, как и из других документов, которых мы коснемся позже, видно, что Пушкин в особых ситуациях рассчитывает на помощь царя и Бенкендорфа, что он ощущает свою приближенность ко двору.
Расследованиео «Гавриилиаде»
В феврале 1828 года Пушкин посещает Бенкендорфа и передает на одобрение Николаю I шестую главу «Евгения Онегина» и стихотворение «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю…»). Стихотворение «Друзьям» явилось реакцией поэта на критическое восприятие его «Стансов» в либеральных слоях читающего общества. В новых стихах он открыто признается в благодарности и любви к царю: возвратил его из ссылки, стал его цензором, оживил общественную жизнь «войной, надеждами, трудами». Что касается войны, напомним, что за месяц до коронации Николая I персы вторглись в Закавказье и началась Русскоперсидская война 1826–1828 годов. Кроме того, Николай I, в отличие от своего предшественника на троне, занял активную позицию по греческому вопросу. В октябре 1827 года Россия вместе с Англией и Францией участвовала в разгроме турецко-египетского флота (Наваринская битва), ослабившем Турцию. В ответ Турция выслала русских подданных и закрыла для России Босфор. Все это предвещало новую русско-турецкую войну.
В новом стихотворении, непосредственно связанном с персоной императора, Пушкин вновь поясняет свою позицию:
Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Петра Мрачили мятежи и казни.
Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.
«Стансы» были опубликованы лишь через год в № 1 «Московского вестника», и в этом нет никакой скрытой подоплеки. Просто Пушкин не мог представлять на просмотр царю, вызвавшемуся быть его цензором, отдельное стихотворение. Поэтому лишь в середине 1827 года он передал ему через III Отделение и Бенкендорфа сразу несколько произведений, среди которых была и окончательная редакция «Стансов». Ответ пришел через Бенкендорфа 22 августа 1827 года (13, 335). Вот почему № 1 «Московского вестника» со «Стансами» вышел из печати только 15–18 января 1828 года[65 - Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 2. С. 340.].
Само сопоставление Николая I c Петром I в пушкинском стихотворении, конечно, поднимало царя и в собственных глазах, и в общественном представлении.
Не только во враждебных Пушкину кругах, но даже и среди части друзей «Стансы» были восприняты как измена поэта прежним идеалам, как лесть императору. На самом деле в этих стихах, обращенных непосредственно к Николаю I, разговор ведется «на равных», автор ощущает себя личностью, во всяком случае, равновеликой адресату стихотворения, обращается к царю на «ты» и даже позволяет себе давать ему советы, что будет продолжать делать и в дальнейшем.
В возможности хоть в какой-то мере влиять на царя в соответствии со своими представлениями о пользе отечеству, творить таким образом общественное добро, в частности способствовать освобождению сосланных в Сибирь декабристов, состояла теперь принципиальная позиция Пушкина.
Именно в таком ключе следует рассматривать и стихотворение «Во глубине сибирских руд…», написанное буквально через несколько дней (26 декабря 1826 года) после возникновения первой редакции «Стансов» и трактовавшееся в советское время как чрезвычайно радикальное.
На самом деле связь двух этих стихотворений не случайна. В послании к декабристам, которое 2 января 1827 года увезет с собой А. Г. Муравьева[66 - Муравьева Александра Григорьевна (1804–1832) – жена декабриста Никиты Муравьева, одной из первых среди жен декабристов последовала за мужем в Сибирь. Пушкин передал с нею стихотворение «Во глубине сибирских руд…» и послание Пущину «Мой первый друг, мой друг бесценный…».], едущая к мужу в Сибирь, содержится «система намеков на возможное в обозримом будущем освобождение»[67 - Непомнящий В. С. Комментарий к стихотворению «Во глубине сибирских руд…» // Пушкин. Полн. собр. соч., размещенных в хронологическом порядке. Т. V (1826–1827). М.: ИМЛИ РАН, 2015. С. 366.] по милости царя. Пушкин всерьез надеялся на такой исход.
В таком же духе следует воспринимать завершающую строку послания – «И братья меч вам отдадут» – как «возвращение дворянского достоинства, полное восстановление в правах»[68 - Непомнящий В. С. Комментарий к стихотворению «Во глубине сибирских руд…». С. 367.].
Но возвратимся к «Стансам» – они явились несколько отсроченным результатом того впечатления, которое произвел на Пушкина Николай I во время встречи в Чудовом монастыре 8 сентября 1826 года, когда поэт был очарован великодушием и простотой поведения монарха, обладавшего, по воспоминаниям современников, хорошими артистическими данными[69 - Именно это качество Николая I запечатлел Тютчев в эпиграмме 1855 года: «…Ты был не царь, а лицедей».]. Это «очарование» сохранялось долго, чуть ли не до 1833 года.
Однако своеобразный договор с царем, заключенный во время личной встречи, был устным, и некоторые вещи были восприняты сторонами по-разному, что уже в ближайшее время стало проявляться и давать о себе знать.
В уже упомянутом письме от 30 сентября 1826 года Бенкендорф сообщал Пушкину с определенной долей придворного лукавства, что царь не только не запрещает ему посещать Петербург, но и предоставляет ему полную свободу в этом вопросе, «с тем только, чтобы предварительно испрашивали разрешения через письмо» (13, 298). То есть поехать можно, но не так, как мог поехать любой российский верноподданный: только получив разрешение.
А 22 ноября 1826 года Бенкендорф запрашивает Пушкина, верны ли дошедшие до него сведения о том, что он «изволил читать в некоторых обществах сочиненную им вновь трагедию», имея в виду «Бориса Годунова» (13, 307), и рассматривает этот факт как нарушение поэтом обещания представлять все вновь написанное на просмотр Николаю I.
Пушкину письмом от 29 ноября 1826 года приходится оправдываться. Он признается, что «читал свою трагедию некоторым особам («…конечно не из ослушания, но только потому, что худо понял Высочайшую волю Государя») (13, 308), и обязуется представить «Бориса Годунова» на рассмотрение императору.
Пушкин не мог знать тогда и, вероятнее всего, так и не узнал до своей кончины, какое впечатление произвело это его письмо на императора. И мы бы об этом, возможно, никогда не узнали, если бы заведующий императорской библиотекой Р. А. Гримм[70 - Гримм Р. А. (1884–1903) – заведующий Императорский библиотекой.] не сделал по приказанию императора Николая II выписку из писем А. Х. Бенкендорфа к императору Николаю I, касающихся Пушкина. Как следует из этих выписок, Николай I написал Бенкендорфу следующее: «Я очарован письмом Пушкина, и мне очень любопытно прочесть его сочинение; велите сделать выдержку кому-нибудь верному, чтобы она не распространялась»[71 - Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I // Старина и новизна (исторические сборники). Кн. 6. СПб., 1903. С. 4. Выписки не датированы. Пер. с франц.].
Этим «верным» для Бенкендорфа был Ф. В. Булгарин[72 - Булгарин Фаддей Венедиктович (Ян Тадеуш Кшиштов) (1789–1859) – писатель, критик польского происхождения, впервые в России с 1825 года издатель политической и литературной частной газеты «Северная пчела», в которой начиная с марта 1830 года велась травля Пушкина и писателей его круга.], который и подготовил отзыв о пушкинской трагедии для Николая I.
И как бы ни был царь «очарован» упомянутым письмом Пушкина, его отзыв о трагедии не принес радости ее автору. Высочайший отзыв о трагедии Бенкендорф сообщает Пушкину в письме от 14 декабря 1826 года. Вместе с рядом пометок в тексте трагедии ему было предложено переделать ее в «историческую повесть или роман, наподобие Валтера Скота» (13, 313).
В ответном письме от 3 января 1827 года Пушкин выражает формальное согласие с критикой высочайшего читателя, но по сути ответ его тверд и непреклонен: «Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное» (13, 317).
А в письме от 23 декабря 1826 года Бенкендорф сообщает Пушкину мнение царя о его записке «О народном воспитании», где главной является следующая сентенция Николая I: считать «просвещение и гений… исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия» (13, 314).
Этому письму Бенкендорфа предшествовало его донесение царю о пушкинской записке: «…он (Пушкин. – В. Е.) мне только что прислал свои заметки на общественное воспитание, которые при сем прилагаю. Заметки человека, возвращающегося к здравому смыслу»[73 - Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 5.].
Бенкендорфу понравилось отсутствие радикализма в пушкинском сочинении, но царь, прочитав его, оказался проницательнее своего верного служаки…
Для Пушкина критический отзыв царя не был неожиданностью, но он брался за написание этой записки не для того, чтобы снискать высочайшее одобрение. В разговоре с А. Н. Вульфом[74 - Вульф Алексей Николаевич (1805–1881) – воспитанник Дерптского университета, сын П. А. Осиповой от первого брака, приятель Пушкина.] в 1827 году он скажет: «Мне легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтобы сделать добро»[75 - А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 416.]. Здесь ощутим тот же принцип общения Пушкина с царем, как и в «Стансах».
Таким образом, с самого начала отношения с Николаем I отнюдь не безоблачны, и Пушкину приходится лавировать в определившемся для него коридоре возможностей между опасностью навлечь высочайшее неудовольствие и невозможностью поступиться своими убеждениями.
При этом поэт находится под постоянным надзором агентов Бенкендорфа, о чем свидетельствует следующее его донесение царю: «Пушкин автор в Москве и всюду говорит о Вашем Императорском Величестве с благодарностью и глубочайшей преданностью; за ним все-таки следят внимательно»[76 - Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 5. Следует отнести к концу 1826 года.].
Пушкинское простодушие явно контрастирует с глубоко продуманным и по-прежнему недоверчивым отношением к нему при дворе. Так же, как Пушкин намерен при возможности влиять на царя в сторону либерализации его позиций («делать добро»), царь и Бенкендорф надеются использовать гений поэта в своих целях (направлять его), исходя из своего понимания государственных интересов. Это четко сформулировано в следующем донесении Бенкендорфа царю: «Отец поэта Пушкина здесь[77 - В Ревеле.]; его сын приедет сюда на днях[78 - Пушкин не приедет в Ревель.]. В день моего отъезда[79 - 6 июля 1827 года.] из Петербурга этот последний, после свиданья со мной, говорил в Английском клубе с восторгом о Вашем Величестве и заставлял лиц, обедающих с ним, пить здоровье Вашего Величества. Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно»[80 - Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I. С. 6.].
В заключительной фразе – квинтэссенция всегдашнего в России исключительно прагматичного отношения власти к художнику: сам он из себя ничего для них не представляет, но его творчество может быть полезно, если удастся повернуть его талант в сторону государственных, в понимании власти, интересов.
Между тем продолжается еще дело о распространении стихов «На 14 декабря» (не пропущенные цензурой в 1825 году строки из стихотворения «Андрей Шенье»), начавшееся одновременно с вызовом Пушкина в Москву Николаем I.
13 января 1827 года московский обер-полицмейстер поручает привлечь к следствию самого поэта, чтобы получить его личные разъяснения по поводу «возмутительных» стихов. 27 января такие разъяснения в письменном виде были от Пушкина получены[81 - См.: Объяснение по поводу отрывка из «Андрея Шенье», получившего название «На 14-е декабря 1825 г.» от 17 января 1827 года (Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М. – Л., Academia 1935. С. 745–746).]. Этого оказалось недостаточно, и 29 июня того же года Пушкиным были вновь даны в письменном виде разъяснения, что речь в этих стихах идет о Французской революции и они никоим образом не связаны с восстанием декабристов[82 - См.: Объяснение по поводу отрывка из «Андрея Шенье», получившего название «На 14-е декабря 1825 г.» от 29 июня 1827 года (Рукою Пушкина. С. 746–747).]. И, наконец, 24 ноября того же года Пушкин письменно свидетельствует, что отрывок из «Андрея Шенье» стал известен публике, потому что все стихотворение ходило по рукам еще до представления стихотворения в цензуру[83 - См.: Объяснение по поводу отрывка из «Андрея Шенье» от 24 ноября 1827 года (Рукою Пушкина. С. 747–748).].
На этом дело было прекращено.
15 октября 1827 года Пушкин сделал запись у себя в дневнике о случайной встрече с Кюхельбекером. Накануне, 14 октября, на станции Залазы Псковской губернии, где он менял лошадей по дороге из Михайловского в Петербург, внимание Пушкина привлек один из арестантов, предположительно поляк, которых тоже везли через Залазы, но в обратном направлении. Арестант стоял, «опершись у колонны». «Увидев меня, – записал Пушкин в дневнике, – он с живостию на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга – и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством – я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я поехал в свою сторону. На следующей станции узнал я, что их везут из Шлиссельбурга, – но куда же» (12, 307).
Сохранился рапорт фельдъегеря, руководившего перевозкой арестованных: «Господину дежурному генералу Главного штаба Его Императорского Величества генерал-адъютанту и кавалеру Потапову от фельдъегеря Подгорного.
РАПОРТ
Отправлен я был сего месяца 12-го числа в гор. Динабург с государственными преступниками, и на пути, приехав на станцию Залазы, вдруг бросился к преступнику Кюхельбекеру ехавший из Новоржева в С.-Петербург некто г. Пушкин и начал после поцелуев с ним разговаривать. Я, видя сие, наипоспешнее отправил как первого, так и тех двух за полверсты от станции, дабы не дать им разговаривать, а сам остался для написания подорожной и заплаты прогонов.
Но г. Пушкин просил меня дать Кюхельбекеру денег, я в сем ему отказал. Тогда он, г. Пушкин, кричал и, угрожая мне, говорил, что по прибытии в С.-Петербург в ту же минуту доложу Его Императорскому Величеству, как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему на дорогу денег, сверх того не премину также сказать и генерал-адъютанту Бенкендорфу. Сам же г. Пушкин между угрозами объявил мне, что он посажен был в крепость и потом выпущен, почему я еще более препятствовал иметь ему сношение с арестантом, а преступник Кюхельбекер мне сказал: это тот Пушкин, который сочиняет.
28 октября 1827 года»[84 - Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 т. Т. VIII. М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1978. С. 349.].
Из этого рапорта, как и из других документов, которых мы коснемся позже, видно, что Пушкин в особых ситуациях рассчитывает на помощь царя и Бенкендорфа, что он ощущает свою приближенность ко двору.
Расследованиео «Гавриилиаде»
В феврале 1828 года Пушкин посещает Бенкендорфа и передает на одобрение Николаю I шестую главу «Евгения Онегина» и стихотворение «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю…»). Стихотворение «Друзьям» явилось реакцией поэта на критическое восприятие его «Стансов» в либеральных слоях читающего общества. В новых стихах он открыто признается в благодарности и любви к царю: возвратил его из ссылки, стал его цензором, оживил общественную жизнь «войной, надеждами, трудами». Что касается войны, напомним, что за месяц до коронации Николая I персы вторглись в Закавказье и началась Русскоперсидская война 1826–1828 годов. Кроме того, Николай I, в отличие от своего предшественника на троне, занял активную позицию по греческому вопросу. В октябре 1827 года Россия вместе с Англией и Францией участвовала в разгроме турецко-египетского флота (Наваринская битва), ослабившем Турцию. В ответ Турция выслала русских подданных и закрыла для России Босфор. Все это предвещало новую русско-турецкую войну.
В новом стихотворении, непосредственно связанном с персоной императора, Пушкин вновь поясняет свою позицию:
Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,