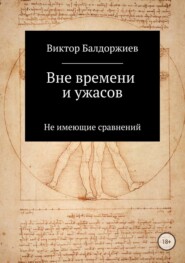По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Августовская проза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Запах в здании стоит военный, каптёркой крепко пахнет, всюду решётки, замки, охрана суетится. Вписали меня в документы. Как сейчас помню – 7 камера. В общем, повели меня по длинному коридору, где с обеих сторон двери, окованные железом. А как вступил я в камеру и огляделся в сумраке, так и обомлел, то ли от радости, то ли от удивления: человек пятнадцать смотрят на меня с нар и все знакомые, все друзья по партизанскому житью-бытью. Тут и Пичугин с Каргиным, Кармадонов и Маркедонов, Раменский и Забродин, Золотухин и Беломестнов, Шильников и Мыльников, Уваров и Макаров… Ты не смейся, фамилии такие, они, как песня, в памяти моей. Говорят, что в домзаке человек двести заключенных, больше половины из них – бывшие красные партизаны.
– Да все наши! – Рассказывают мужики, расспрашивая меня о новостях с воли, главное – о семействах своих. Оказывается, они уже третий месяц в этой полумгле вшей кормят.
Тут же кто-то из заключенных, забарабанив в дверь, вызвал конвойного, потом образовался чай, хлеб и сало к нему.
Кто и за что сидит – не понять! Некоторые проявили недовольство коллективизацией, кто-то пытался уйти в Китай, кого-то посадили за контрабанду, а кого-то, как и меня, за правый уклон, то есть укрывательство хлеба и лояльное отношение к враждебным элементам. Гляжу: в камере – лучшие люди уезда, самый цвет, соль земли, как говорится. Народ самостоятельный и смелый. Других таких в уезде нет.
Теперь я понимаю, что власть тогда только причины выдумывала для того, чтобы уконтрапупить самых смелых и непокорных. Массовое мероприятие партия проводила, очищала массы от мыслящего элемента!
Рассказывают, что Стёпка Размахнин ко всем относится хорошо, сам из красных партизан. Но седьмую камеру на прогулку выводят редко.
Дали мне арестантское место на нижних нарах. Проговорили всю ночь с товарищами, а утром конвойные повели меня к Стёпке. Прибыл, говорят, из тайги, где деляны мерил для заготовки дров. Зовёт меня к себе.
Сидел он в узком кабинете, как в камере. Оконце, правда, побольше, чем в камере, узкое и длинное, тоже зарешёченное. Он как был мордастым, брацковатым, мужиком с ловкими ухватками бывалого бойца, так и остался им. Хорошо меня встретил, искренне. Не сочувствовал, знал, что я прав.
После того, как поздоровались, он посадил меня на стул напротив себя. Потом оглянулся, будто высматривал соглядатаев, сказал почти шёпотом, что хватают чуть ли не самых активных красных партизан. Но самых-самых приказано вообще не выпускать и запретить всякое возможное общение с местным населением и конвоем.
Эти самые-самые и находились в седьмой камере.
Вообще, Размахнины по Аргуни и Онону – разветвлённая родовая, семьи большие, бабы плодовитые. Стёпка был средний в своём семействе, кроме него ещё шесть братьев и пять сестёр. Теперь и у него – четыре мальчика и одна девочка. Пока. Я же, его ровесник, был всё еще не женат.
Из сегодняшней дали я вижу, что Степан Степанович Размахнин оказался заложником. Такое прошлое, такая должность и такая семья! Куда деваться? Власть и старалась давать таким должности, ведь всегда на привязи. Коммунистическая партия – хитрая партия, знает кого и чем привлечь, а кого, как привязать или чьей кровью повязать.
– Слушай, Васька, исполняй-ка ты в нашем домзаке обязанности завхоза. Нет у нас хозяйской руки. А ты хороший председатель, у тебя всё спорится. – Предложил мне неожиданно Размахнин. – Недавно разнарядка пришла на должность завхоза в нашем домзаке.
– Как это завхозом, Стёпка? Освобождаешь что ли? – Я даже привстал с табуретки от изумления, смотря на перекрещённого, как и в былые годы, ремнями Размахнина.
– Да вроде того получается. Наказание ты всё равно отбываешь, время идёт. Делом займёшься, может быть, раньше отпустят, похлопочем. – Успокоил меня друг, озабоченно почесывая русый затылок.
Уголовно-исполнительная система советской власти ещё не дошла до совершенств 1937 года. Случалось, что одарённые заключённые возносились на самую верхушку системы. История сохранила такие примеры.
Известие о том, что я буду завхозом домзака, седьмая камера встретила с восторгом. Хозяйство я принял от Размахнина же. Он расписался в акте передачи, вздохнул облегчённо и радостно рассмеялся. Освободился человек!
Спал я теперь в камере, а утром меня выводили на работу, в каптёрке поставили мне стол и стул, вручили амбарные книги, где я делал записи.
Через неделю, в сопровождении брата-милиционера Кехи Макарова, я осмотрел всё обширное хозяйство домзака, от огорода до денников. Дотошный был Кеха, как и все Макаровы, царствие ему небесное, во всё вникал. Составили мы с ним списки семей милиционеров, измерили их дома, сам домзак, все отапливаемые помещения. Вывели квадратные метры, нужное количество дров.
Поленницы в дровянике и дворах уже заканчивались. После всех замеров, начал я снаряжать бригаду для заготовки дров. И составил список, где были все пятнадцать человек из седьмой камеры. Глянул Размахнин на список, потом глянул на меня, покрутил пальцем у виска и – решительно махнул рукой. Дал добро. Был рисковым и остался таким. На меня надеялся.
Уездная милиция реквизировала на время у населения двенадцать саней с лошадьми. Потом я через Кеху шумнул семьям заключенных из седьмой камеры: повидайтесь со своими мужьями, сыновьями и братьями пока есть возможность.
Ночью выпал снег, а утром он, ослепительно-белый, покрывал Большой Завод со всеми его домами и улицами, переходя на ближние сопки. Мужики, когда их вывели на улицу из камеры, чуть не ослепли. Пообвыкнув, повеселели. Все понимали: что цена побега любого из них – жизнь Василия Ивановича Макарова. Вот на что я шёл!
Не успели сани с конвоем выехать за Большой Завод и окунуться в ближние березняки, как мы увидели бегущих со всех сторон по снегу баб и ребятишек с узелками. Это спешили родные заключенных. Предупреждённые конвоиры не препятствовали.
Про встречи, обнимания и бабьи слёзы рассказывать долго…
Проработал я завхозом домзака все четыре года своего срока. Весной начал посевную, летом – сенокос, осенью – уборочная. Работы сезонные, как и в любом хозяйстве. Заключенные всё время менялись, полностью сменилась и седьмая камера. Размахнин хлопотал за меня в разных управлениях и комитетах. Года через два и о правом уклоне стали потихонечку забывать.
Хозяйство домзака становилось на ноги. Появилась своя скотина, свиньи, огороды, конюшня стала образцовой. Потом мы приобрели конные сенокосилки, пилы и прочий инвентарь. В декабре готовили лес для стройки. Через много лет я узнал, что даже Пётр Первый наказывал готовить строевой лес только в декабре: качество древесины лучше в это время. Заготовленный нами лес даже стали заказывать из других районов и области.
Когда наступило время моего освобождения, Размахнин слёзно просил меня «посидеть» ещё немного: надо было заготовить дрова на домзак и семьям милиционеров.
Пришлось выручать друга и работать в домзаке ещё лишний месяц. А когда я вернулся в свою деревню, то обнаружил, что избу мою разобрали и стопили односельчане. Интересно, скольких людей обогрела моя уютная изба из морёного и векового листвяка? Вообще-то, лес от нас совсем недалеко.
Погоревав на месте своей избы и переночевав у брата, я вернулся обратно в Большой Завод. Остановился у Размахниных. Стёпка посоветовал мне уехать из родных мест, потому что я уже «меченый». К этому времени весь «мой состав» седьмой камеры был расстрелян в разных местах заключения. За неделю мы со Стёпкой подготовили нужные мне документы, и я уехал навсегда в Россию. Одним словом, затерялся.
И правильно сделал. Начинался 1936 год. А в 1937-м арестовали и расстреляли Размахнина. Слово «домзак» со временем исчезло из обихода, вернулось законное слово «тюрьма». С годами арестовывали и заключали людей все меньше и меньше, массовые партийные мероприятия такого рода завершились после войны, в 1950-х годах, с появлением и торжеством нового, советского, человека.
Кого заключать, когда массы давным-давно отфильтрованы властями и войной, самостоятельные и думающие исчезли совсем, а оставшиеся рады любой халяве и любой пайке, лишь бы их считали великими и непобедимыми?
10 августа 2018 года.
Время и фриланс
(Дополненный и переработанный текст. Часть, относящая к примерам, добавлена в августе 2018 года).
Это рассказ о том, как стал и до сего дня работаю фрилансером. На мой взгляд, стать фрилансером, практически невозможно. Им надо родиться. Не у каждого человека с рождение имеется состояние свободного человека. Для одних – это несчастье на всю жизнь, для других – естественное состояние, которое отличает его от остальных. Фрилансер – знак вопроса в толпе восклицательных знаков, становящееся летящим копьё поражающим точно в цель. Это не удел, это – судьба…
Три момента в моей судьбе
Во-первых, фрилансер – это свободное копьё, наёмный воин и только после этого свободный художник. Такая расстановка акцентов более соответствует профессии и точнее расставляет акценты.
Во-вторых, фриланс в моей судьбе – порождение расовых проблем и национальной политики государства, в нашем случае СССР. Тут нет ничего удивительного, это естественные процессы, которые были и всегда будут там, где обитает не вполне развитая часть человечества.
В-третьих, фриланс, видимо, был и стал моей судьбой почти сорок пять лет тому назад.
Для того, чтобы начать цикл «Фриланс и время», предложенный мной сообществу «vp-freelancer», я должен объяснить все перечисленные моменты.
Слово впервые применил Вальтер Скотт в романе «Айвенго». Перевод слова lancer, конечно, не художник, тем более не журналист. Это – копьё, воин, рыцарь, кавалерист, улан. Значений много. Свободный и наёмный исполнитель чужих замыслов. В наше время, некоторые фрилансеры – это вообще свободные художники, которые сами предлагают и исполняют замыслы. Во многих случаях они сами предлагают и продают свои тексты.
Таким человеком я и должен был стать с детства. Почему?
Родился и вырос я в русско-украинской среде, по национальности – бурят-монгол. Не бурят, а именно бурят-монгол, ибо в 1954 году, когда я родился, была ещё Бурят-Монголия, просто Бурятией республика стала в июле 1958 года. И дело даже не в том, что я никогда не жил в национальных округах или республиках, а в том, что я считаю себя русским бурят-монголом. По языку, месту рождения и менталитету.
Жили мы у самой монгольской границы. С малых лет я говорил на русско-украинском языке, видимо, суржике, бурятским языком овладел позже, когда попал в среду своих родственников. О том, кто, как и когда меня и моё поколение учил языкам, можно прочитать в материале «Судьба человека…» в моем блоге.
О каких-то расовых или национальных проблемах я никогда не знал и даже не чувствовал их. Бытовое невежество, приводящее к ссорам и дракам, можно вообще не считать национальной враждой. Среда у нас была одна – Союз Советских Социалистических Республик, где все, кто был знаком со мной, считали меня русскоязычным поэтом и прозаиком.
Стихи и рассказы я писал с младших классов.
Отслужив срочную службу в июне 1975 года, я подал документы на филологическое отделение педагогического института. И к своему удивлению узнал, что нерусские ребята, живущие в национальных образованиях, при вступлении в ВУЗы пишут диктанты, а все остальные, в число которых входил и я, – сочинения. Никогда не интересовавшийся национальными вопросами, я был потрясен таким неравенством.
Конечно, я писал на русском языке лучше всех своих сверстников, побеждал на многих конкурсах, уже публиковался в какой-то периодике. И никогда не думал о том, что кому-то предназначено писать диктанты, а кто-то обязан заниматься сочинением. В этом вопросе для меня все люди были равными. Но оказалось, что это совсем не так. Оказалось, что большая часть моих сверстников и земляков очень плохо знает русский язык, что государство буквально «тянет» их чёрт знает куда. «Халява», которую давало государство нерусским народам никогда не приведёт к знаниям, образованию и культуре. Тогда у меня впервые зародилась мысль, что национальные образования из территорий сохранения самобытности народов становятся территориями задержки развития человека… Но кто бы понял тогда и поймёт сейчас эту «преступную» мысль?
Я всегда считал, что никого не надо учить. Кто захочет, тот всегда научится. А тут учили и заставляли учиться. И давали за это дипломы. Но многие из обучаемых не могли написать даже диктанта.
Этот факт стал моим первым шагом к фрилансу.