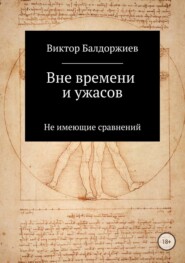По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Августовская проза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теперь и мы стали повстанцами.
Отряд находился недалеко от Гагаркино, была такая деревня. Места скрытные, не сразу найдёшь, а пока доберешься, наделаешь столько шума, что вся живность за несколько вёрст услышит. Толя Зубарев старый партизан, знает как, где скрываться и какая ворона за сколько вёрст прокаркает о чужаках.
Мы боялись, что воевать придётся, но вышло так, что ничего не делаем, охотимся иногда, да травим себя разговорами о жизни, политике, колхозах. Зубарев приказа какого-то ждёт. От кого и когда не говорит. Человек должен условный сигнал подать. Но человека нет, приказа нет, и, как я начинаю догадываться, видимо, не будет. Вороны в округе не каркают.
Случается, мужики ходят в разведку. Вести не радуют, домой зовут. Я начинаю думать, что все сроки доставки приказа Зубареву миновали, а мой Петров, заждавшись, может подмогу вслед за нами отправить. А мы тут скопом.
Недели через три после того, как мы стали повстанцами, собирает всех в кучу Зубарев и показывает листовку. А на ней написано, что Советская власть просит всех неразумных участников мятежа сдаваться, за добровольную сдачу власть гарантирует повстанцам жизнь и, как и полагается у добрых людей, полную неприкосновенность и т. д. и т. п…
И подпись печатными буквами: комендант И. М, Петров.
Большим уважением и доверием пользовался комендант.
Ещё через три дня мужики, ходившие на охоту, снова приносят такие же листовки.
– По всей тайге, видимо, налепили на деревьях! – Гомонят в отряде. – Сдаваться надо, чего тут высиживать. Пахать уже пора.
Думал, думал командир повстанцев Толя Зубарев и спрашивает у меня:
– Как быть, Васюха?
– Сдаваться надо, Толя, – отвечаю я. – Чего тут вшей кормить.
– А не поставят к стенке?
– Пишут же: полная неприкосновенность. Вины, вроде бы, ни на ком нет. Никаких приказов вам уже не будет. Ты об этом и сам давно догадался.
– Тогда так: пусть твои разоружают моих и ведут в комендатуру. Вроде бы мы добровольно сдались. А вы и не были с нами. Задание выполняли. Всем своим накажи: в Алашири жили и выслеживали. Там двое наших сидят.
Хорошее решение. Я тоже так думал. Умная голова у Толи Зубарева.
Май уже повсюду полыхает, реки вскрылись и шумят, птицы на озёрах гомонят, листья на деревьях распустились, бабы подолами крутят. В общем, бурлит жизнь и дурманит своими запахами. Двинулись мы всем своим повстанческим отрядом в обратный путь. Тридцать семь штыков.
Выполнил мой отряд приказ коменданта Петрова, привёл всех марьинских повстанцев, то есть родню свою, в огороженную колючкой комендатуру, что на окраине Большого Завода, среди молоденьких берёз и осинок. Только вошли во двор, как сразу же попали в окружение незнакомых бойцов. Глядим и кумекаем, батальон гепеушников в полном боевом составе дислоцируется. Эскадроны, видимо, по деревням разлетелись, бандитов ловят. Обстановка военная, трибуналом попахивает.
Я отправился докладывать о выполнении задания, а наши остались у казармы в окружении красноармейцев. Ждут, когда их распустят по домам.
Оказалось, что Ивана Михайловича перевели на другой участок границы, сразу же после того, как я отправился с отрядом на Уров.
Встретил меня новый командир. Суровый мужик, больной властью. Такого боятся, но не уважают. Знаю, говорит, о вашей группе, давно ждём. Почему вестей не давали? Выслушал он меня, даже похвалил, заставил написать список всех наших повстанцев, а список моего ЧОНа был в комендатуре. Я честно сказал ему, что сдаче повстанцев способствовала листовка, подписанная Иваном Михайловичем. О том, что мы были вместе с нашими, конечно, не стал говорить.
Подозрительно смотрел на меня новый комендант, сетуя, что мой отряд слишком долго выполнял задание, отсиживаясь в Алашири. Потом кликнул дежурного, но меня всё же отпустил. Даже как бы нехотя отпустил. Спиной чувствовал: смотрит в окно.
Не успел я дойти до своих мужиков, как вижу, что чоновцев красноармейцы уже оттеснили от остальных марьинцев. ГПУ охрану взяло.
Домой мы вернулись без земляков.
В общем, увели гепеушники все двадцать два человека. И больше мы наших земляков и родственников никогда не видели. Конечно, их расстреляли. Выходит, что ни один из них нас не сдал. Иначе, всем бы каюк.
Был слух, что Иван Михайлович, узнав об этом случае, чуть не застрелился. Не подписывал он листовку, за него решили. Его арестовывали в 1937 году, но отпустили. Будь он тогда на месте, не случилось бы беды.
Слушай, парень, никому я об этом случае не рассказывал, ни на одном собрании не заикался. Что на меня сегодня нашло? Может быть, смерть близкую чую? Вот рассказал тебе и – легче стало…
В домзаке
– Это у вас – степи неоглядные, а у нас – лес рядом, сплошь листвяк. Дрова из них знатные, одна охапка таких дров большую избу всю ночь греет. А дома из лиственницы веками стоят, хоть в болотине, хоть на суше… Изба у меня была крепкая, восемь на восемь, вся из литого листвяка. Отец заставлял нас готовить лес в декабре, а потом морить в воде несколько лет. Мне ещё и десяти лет не было, как отец с моими старшими братьями готовили лес для моей будущей избы. Наверное, так и прожил бы я всю жизнь в своей избе, да уклон помешал, – вздохнул и как-то свободно, будто освобождаясь от какой-то тягости, рассмеялся девяностолетний Василий Иванович Макаров, у которого я брал интервью.
За окном ликовало лето 1990 года.
– Что за уклон?
– Сейчас хоть в какую сторону качайся, хоть как думай, ничего тебе не будет. А в наше время за такие баловства запросто расстрелять могли!
– Что за баловства, опять уклоны, Василий Иванович?
– Они, конечно, – снова рассмеялся бодрый старик. – Левый или правый уклоны. Троцкисты и бухаринцы. Центр строго следил за мыслями. Кто уклонился от линии – суд, домзак, расстрел. Меня за правый уклон судили. Но пули избежал, дожил до девяноста лет. Только в домзаке четыре года отбыл, даже в лагерь не отправили. Ровесник века, ровесник века! Уйму газет обо мне исписали, а уж в каких собраниях участвовал и в каких президиумах сидел и посчитать невозможно. А перед ребятишками сколько раз выступал, а всякими знаками и медалями сколько раз меня награждали? Тоже невозможно сосчитать. Весь пиджак увешан и блестит, как в чешуе!
– Так зачем же, Василий Иванович, волноваться? Заслуженный человек, ветеран, борец за советскую власть! Живите и радуйтесь на старости лет…
– Радуйтесь, говоришь? А кто мы на самом деле? Бедолаги мы пожизненные. Растеребил ты меня, парень, своими вопросами. Я ведь не только ЧОНом командовал, но и первым председателем колхоза меня выбирали. Колхоз у нас назывался именем Ворошилова. Вот что меня удивляет до сих пор: ведь люди живы ещё были, а именами их колхозы, заводы, орудия всякие, улицы городов называли. Был один раз Калинин проездом в нашем городе, говорил что-то минут десять. Но зачем за это улицу его именем называть? Угодили что ли кому-то? Домзак? Так, парень, в годы моей молодости назывался дом заключения, а проще – тюрьма.
Почему в лагерь не отправили? Тут особая история. Можно сказать, по блату так вышло. Блат, как я тебе уже говорил, у нас выше наркома. Мог бы, конечно, как многие мои друзья, тачку на рудниках катать. Уклоны эти, по моим сегодняшним соображениям, как шаг вправо или влево в лагерях. Наверное, выдумка Сталина для балансировки своей политики. Система партийной машины у него была продумана до мелочей.
Жизнь ведь устроена так, что дай только чуть-чуть вздохнуть человеку, как он сразу начнёт умнеть и богатеть. Нужен государству умный и богатый человек? Не нужен, ведь он не будет кормить дивизии партийных и беспартийных дармоедов.
В девяносто лет, парень, многое можно осмыслить. А тогда, конечно, я ничего не понимал. Видел просто: у людей не остаётся зерна, зимой начнётся голод, к весне станут умирать. Вот и не сдал половину колхозного урожая государству, велел землякам припрятать. Конечно, кто-то из тех же земляков донёс на меня в органы. Фамилию доносчика знаю, но говорить не буду. Не он, так бы другой донёс. И в этом мы бедолаги: утопить друг друга рады. В общем, оставил этот человек село без хлеба, а меня арестовали после ноябрьских праздников и увезли в уездный центр.
А ещё я думаю, что удачно вписался в план массовой кулацкой операции органов. Надо понимать, что уклоны, чистки, лагеря, тройки, расстрелы 1920 и 1930-х годов – это всё специальные партийные мероприятия. Так партия работает с массами, перетряхивает их, фильтрует, очищает. Партия – доктор или повар, препарирует, лечит или готовит блюдо из масс. Ненужное отрезает, нужное внедряет. Зашивает, парит, варит, жарит, гноит в ямах. Готовит до нужной кондиции. Нового человека создаёт. Какие при такой системе могут быть законы?
Их в советской России не было, да и не могло быть. А тогда, в наше время всё решали «тройки». Говоря грамотным языком, это была внесудебная коллегия ОГПУ, потом НКВД.
Как сейчас помню: судили меня двое русских и один жид. Такой я запомнил на всю жизнь свою «тройку». Дали мне четыре года. Сразу в лагеря в те годы почему-то не отправляли. Сначала – в домзак. По-всякому решали дальнейшее отбывание срока. Мутное было время.
Ты видел в Большом Заводе за бывшим горным училищем, чуть дальше и повыше, старинное белое здание из кирпича со множеством небольших окон? Там и располагался в моей молодости домзак, окна в те годы были замурованы, оставили наверху маленькие, зарешеченные пробоинки. Начальником домзака был Стёпка, друг мой.
Говорят, что в царское время там располагался госпиталь каторжников, известный Чернышевский там лечился. У нас же весь край каторжный и состоит из каторжан. И мы с тобой каторжане пожизненные.
Нам ли не чуять жизнь и повадки людей!
Судили меня в здании ниже домзака, в царское время там какая-то контора горного округа была. После суда ведут меня в домзак два милиционера, тоже знакомые мне люди, один из них брат мой троюродный, Кеха Макаров. Иду и думаю: как меня Стёпка, начальник домзака, встретит?
Откуда тебе, парень, знать, что такое партизанская дружба? С Размахниным, то есть Стёпкой, мы с восемнадцатого по двадцать первый годы бок о бок в партизанском отряде воевали, потом нас в народоамейцы приняли.
Опять, ничего не понимаешь! Это в России были красноармейцы, потому как там настоящая советская власть, а у нас, сначала, была Российская Восточная окраина, отдельное демократическое государство, образованное атаманом Семёновым в январе 1920 года. Узнав об этом, буквально через три месяца, Ленин, в пику ему, создал Дальневосточную республику. Вроде бы, буфер между большевистской Россией и международным империализмом, что с востока прёт. От Байкала до Тихого океана. Только тогда японцы стали вести переговоры не с атаманом Семёновым, а с ДВР, ведь за ней стояла Россия. В ДВР тоже красный флаг, только в правом верхнем углу – маленькая синенькая заплатка, и войска народные – народоармейцы. Красноармейцами мы стали потом, когда ДВР упразднили в 1922 году. Но это длинная история.
Так вот, ведёт меня братуха с другим милиционером по Большому Заводу в домзак, а я о Стёпке думаю. От Алтачи под Крестовкой пар идёт, там ключи бьют, наледи парят. Деревья сплошь в куржаке, а на Крестовке всё еще крест стоит, не добрались комсомольцы. Мороз трескучий, будто застыл в серой полумгле, знакомые изредка выплывают из этой полумглы. Все в шубах, а некоторые даже в дохах. От бровей и ресниц в куржаке, только глаза удивлённо на меня в полушубке, да милиционеров в шинелях смотрят. Думаю, милиционеров больше жалеют, ведь в шинелях в наши морозы замёрзнуть намертво можно. В те годы на 7 ноября на Аргуни уже минус 45 лютовало. Прохожие, наверное, гадают: куда Макарова, боевого красного партизана, повели, что он натворил? Ведь меня весь уезд знал! В большом почёте после гражданской войны были бывшие красные партизаны.
Но Стёпки Размахнина в тот день в домзаке не было, говорили, в тайгу уехал, дрова с милиционерами готовить собрался. Бросилась мне в глаза во дворе домзака бесхозяйственность. Нет, значит, хозяйской руки.