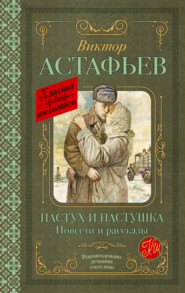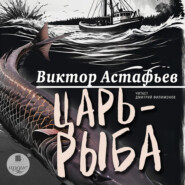По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Нет мне ответа…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я так рад Вашему письму! Его долго не было, и я уж подумал – не обидел ли человека, которому и без того тошно. А обижать и бить людей я уже не могу, хотя и делаю это иной раз непроизвольно. Такая жизнь.
Лет шестнадцать назад я ударил человека кулаком и с тех пор дал слово никогда не прибегать больше к этому способу действий. Может, оттого, что это произошло при мерзких, низменных обстоятельствах, а может, оттого, что в детстве приходилось отбиваться часто, чтобы выжить. Из рукописи, которую я пришлю Вам, скорей всего, в начале сентября, Вы всё это увидите.[68 - речь идёт о повести «Кража». – Сост.]
А человека я ударил за кости. Да, да, за кости с колбасного завода. Привезли их в наш цех на делёжку, как «доппитание», и начальство выбрало все мозговые кости, а нам оставило рёбра. Жена у меня лежала в больнице с умирающей маленькой дочкой, и ей не дали карточку. Есть было нечего. Дочка умирала от того, что её нечем было кормить, и умерла. А мы с женой (она тоже с фронта – коммунист, на войне и вступила в партию) такое горе мыкали – не приведи господь. И вот горе, беды и, главное, унизительное сознание того, что я, мужчина, не могу содержать семью, прокормить её, заставили поднять руку, и я дал в рыло начальнику цеха. А он парень-то тоже с фронта и потом жил хуже меня. Я пятнадцать лет встречал его на улице в Чусовом, и все эти годы мне было стыдно до чёртиков. Хоть бы он буржуем стал, тогда другое дело, а то такой же «пролетарья». Словом, с тех пор – всё, хотя иной раз и хочется взять по детдомовской привычке стул и обломать его об иную голову.
Живу я всё в деревне безвылазно. Погода у нас нынче одурела. В начале лета и вот уже больше месяца стоит куда тебе с добром. Всё растёт, цветёт, радуется, хлеба в рост. Хариусы клюют помаленьку. В деревне тишь и благодать.
Работаю много. Повесть уходит всё вглубь и вглубь. Не знаю уж, как и вынырну я из этой глуби. Бессилие иной раз охватывает. Не хватает грамоты, культуры, и отсюда – масштабное мышление. Обруч какой-то в голове и на сердце. Ломает его – буквально. Стараюсь плюнуть на всё, ан воздухом-то дышать каким? Вот и не удаётся превозмочь себя до конца. А надо бы! Надо бы! Сколько надо рассказать! Сколько осмыслить!
Гнали мы в прошлом году с замечательными колхозными ребятишками на альпийские уральские луга скот. Я написал об этом очерк и попросил «уделить внимание» ребятишкам, которые бескорыстно, в разбитой обуви, худой одежонке ходят к чёрту на кулички в дождь и снег, помогая колхозу, а потом всё лето работают на полях.
«Взяли»! Журнал «Уральский следопыт» наградил школу грамотой, какими-то значками и пятью путёвками на слёт юных следопытов. Повезу их (путёвки) сам. Завтра и порадую село и ребятишек. Пусть хоть пятеро из них посмотрят кусочек света, поедят как следует. Ехать далеко на север области, но надо.
Я помню, как валялся на полу столовой одного дома творчества откормленный выродок, пинал в морду маму, плевал на официанток и кричал: «Я – внук Прокофьева!» И не могу с тех пор бывать в этих домах и очень хочу, чтобы кусочек сладкого пирога, хоть маленький, достался тем ребятишкам, которые его заработали, зарабатывают, но в глаза не видят.
Сегодня ночью я прочёл повесть своего друга по курсам, Анатолия Знаменского. Не слышали о таком? Это очень талантливый человек, и повесть его где-то посильнее «Одного дня Ивана Денисовича» Солженицына (она об этом же, но «припоздала»). Советую Вам достать его книжку рассказов «Прометей № 319» и прочесть там два рассказа: «Прометея» и особенно «Песнь песней». Остальное написано давно, случайно и «для хлеба». Нынче в «Урале» печатается его роман «Иван-чай», но повесть, которую я прочёл, сильнее всего. Он в 64 страницы «уложил» столько, что диво-дивное. В общем, не бедна земля наша талантами, да таланты-то на неё ропщут – неласковая, неподатливая. И сколько её роют, а всё тверда!
Статью о Достоевском прочту непременно, как вернусь домой. Я очень хочу во многом разобраться и не могу.
Пишу между «серьёзными делами» для ребят. Пишу с удовольствием, даже с наслаждением и на этих вещах «отдыхаю».
Ну вот пока и всё. Как хорошо, что Вы «появились» и я могу поговорить с Вами хотя бы в письме.
По существу, люди мы все очень одинокие. И страдаем, и радуемся, и даже боремся (чаще с собою) в одиночку. Как я завидую тому, что Вы – таким кругом! – читаете рукописи. А здесь провинция. Здесь зависть и напольные интриги. Печатаюсь вне Перми, по существу, я один. А есть «свои классики», как и во всякой другой области. Выдают в год по пятидесятилистовой книге, и их, видите ли, не замечают! Что-то не то! А в общем-то, чепуха всё это. Каждый художник прежде всего сам себе судья. Ругаюсь я тут. Зуботычины, в виде рецензий, даю градомётом. Прикормили их возле литературы, как собак возле бойни.
Я тут ещё уполномоченный Литфонда. Ну и кормушка ж это! Обобрали меня как липку. Все «фонды» раздал, и скоро мне влетит «сверьху». Ну, глядишь, «с поста» сымут за растрату. И то добро.
Всего Вам доброго, Александр Михайлович! Хорошей погоды! Хорошего клёва в прямом и переносном смысле! Крепко жму Вашу руку. Виктор
Ноябрь 1963 г.
(И. Степанову)
Дорогой Иван!
Когда русский человек говорит слово «вознёсся» или «зазнался», то он сразу ставит себя в положение обвинителя, а тот, кому он это говорит, следовательно, должен оправдываться и таким образом доставлять некую усладу обвинителю. Ни перед тобой, ни перед кем другим я оправдываться не собираюсь, ибо вина моя перед людьми, и в особенности перед литераторами, которые начинали писать вместе со мною, либо гораздо раньше, вина моя перед ними состоит лишь в том, что я больше и лучше их работал. С некоторых пор друзьям моим прошлым и настоящим стало доставлять удовольствие говорить мне гадости, в особенности тем, кто принимал и принимает литературу вроде приятельской забавы. Я же давно знаю, что она не забава, а одна из тяжелейших работ на свете, и отношусь к ней только как к работе, а не к способу показать миру свою персону и удивить мир ею, а следовательно, ни «возноситься», ни фарисействовать мне некогда.
Кроме того, я два года живу в Перми, а до этого два года учился в Москве и никаких писем от тебя не получал. Если бы получил – можешь быть уверен, ответил бы. Я отвечаю на каждое письмо, и умное, и глупое, иной раз от сна отрываю часы, но всё равно отвечаю, дабы не давать лишнего повода думать о пишущей братии плохо и разносить по свету мещанские гадости. Я сужу о писателе по его произведениям, тут он весь на виду – это же советую и тебе делать.
Будь здоров. Виктор
12 декабря 1963 г.
(И. Степанову)
Иван!
Ты попал со своей открыткой не в добрый час.
Я приехал домой из Ялты (заболел там 8 ноября, а 9-го выехал). Хотел проехать Москву, но там как раз должны были принимать в Союз рекомендованного мной мужика и попросили остаться, так как его шансы были не очень. Я остался совершенно больной, аж на целых четыре дня, а потом выдержал бой на приёмной комиссии, заступаясь в лице подшефного за всю периферийную литературу. Его приняли, а я глотал валидол, на том и до дому доехал.
Тут сей друг с радости напился и немедля наговорил мне гадостей. Он мог их говорить на том основании, что переехал из подвала в новую квартиру. Её выхлопотал тоже я, как депутат и как уполномоченный Литфонда. Деньги литфондовские вкладывал в кооператив, на свой риск и страх. Он приходил потом извиняться и плакаться, потому что ребята ему рассказали всё же, как я бился за него в Москве и как добывал квартиру. Говорит: «Не знал, что так могут ко мне относиться». То есть думал, что уж если что для него сделал на копейку, так орать должен, что на рубль – это у нас заведено. Ну, махнул я на него рукой, контуженный он, да и «осознал» вроде.
Вот в сей период, лёжа в больнице, я тебе и накатал то злое письмо. Отвёл душу на тебе, ибо жены дома не было (она тоже была в больнице на очередной женской операции). Извинения не прошу, потому что считаю тебя мужиком, хотя и передёрнуло меня на словах «отвода не жду», это кокетство «бедного» периферийщика.
Меня обещают вылечить за полмесяца, печёнка и сердце у меня разболтались, и ещё голова шумит, ну к этому-то я привык. Думаю к новому году выбраться отсюда. Нервы подкреплю и прочее, а то уж и жене доставаться стало, а она у меня такая женщина, каких не на всяком меридиане земного шара найдёшь. Редкостного ума, такта, душевности и готова за меня голову свою отдать и сердце вынуть, если надо. Это не красивые слова, а правда. Только я ей никогда их не говорил – стесняюсь, а вот ввернуть, пока не слышит, что-нибудь «творческое» – это ничего.
Работы много. Готовлю книжку в библиотеку «Огонька», сборник рассказов в «Советскую Россию» и, главное, к марту должен сдать в журнал и издательство «Молодая гвардия» новую повесть[69 - «Кража». – Сост.], над которой бьюсь с 1961 года. Вещь уже читали, но предстоит большая доработка. Очень вещь серьёзная. Действие её происходит в Игарке.
А ты, значит, в драматургию ударился? Хлопотное, не очень благодарное и не для всех хлебное дело.
Ну, бывай! Привет семье. Виктор
1964
11 февраля 1964 г.
Пермь
(А. М. Борщаговскому)
Дорогой Александр Михайлович!
Вы, наверное, уже в Чехословакии? А у нас нынче хорошая сухая зима, тем не менее и до нас докатилась какая-то страшная эпидемия гриппа. Все медики на ноги поставлены. Не упасся и я от болезни. Лежу вот уже пятый день, правда, не с гриппом, а с ангиной, но тоже хрен редьки не слаще. Единственное преимущество перед гриппом – можно читать и писать хотя бы письма. Вот я и пишу по письму в день.
Я очень рад, что Вы на меня не обиделись за то, что я не зашёл к Вам в Москве. Ну, да Вы ведь не провинциал и всё понимаете, как надо. И, наверное, хорошо, что Вы не остались на съезд. Право, всё это уже и утомительно, и удручительно не только для пожилого человека, знающего к тому же театр и основы, по которым создаются спектакли.
У меня самочувствие не очень-то хорошее. Перво-наперво устал с повестью и ещё потому, что распорядился я ею глупее некуда. У меня была телеграмма из «Нового мира» насчёт рукописи, но тут товарищ мой прислал мне письмо о том, как долго читали там его рассказ, как нудно редактировали, и я заколебался. Дело в том, что в издательстве «Молодая гвардия» повесть перенесена из 1963 года в первый квартал нонешнего года и мне, следовательно, нужно было поспешать. Бах! – письмо из «Знамени»: «Помним, любим, быстро прочтём и т. д.». Я всадил им рукопись (хотя знал, какой это занудливый журнал, в смысле прочтения рукописей авторов, не являющихся секретарями и членами) и, конечно, попал на уду.
Сначала всё шло быстро и хорошо. Прочли, дали редакционное заключение работники отдела прозы и Александр Николаевич Макаров, член редколлегии. И вот уже скоро три месяца, как повесть в «Знамени», и начальство никак не соберётся решить её участь. Дней десять назад была телеграмма о том, что собираются обсуждать на редколлегии днями, и снова молчок.
Всё это может кончиться весьма печальным результатом – повесть не современная, не военная, и на этом, да и на любом основании мне могут отказать в «Знамени», и тогда я останусь вне журнала вообще, потому что издательство уже махнуло на меня.
Ну, век живи, век учись и так далее…
Ещё занимался киносценарием для ребят. Очень неуверен был, принимаясь за эту работу, ибо начитался статей о специфике, ракурсах, фокусах и прочем. Плюнул я на всё это и стал писать сценарий как литератор и кинозритель, умеющий кое-что запомнить, увидеть, кинозритель, в жизни которого кино играло, пожалуй, главную роль в смысле воспитания и отравления организма, просвещения и отупления – всего вместе.
Недавно приезжали ко мне на денёк режиссёр и редактор из студии, и оказалось, что я вполне владею этой «спецификой», ибо, сказали они, «самая наиглавнейшая специфика наша – это достоверная жизнь, а она в сценарии есть, а как снять, кверху ногами или на лету, это уже не ваша забота». Ну, тем и успокоили. Теперь буду работать уверенней. Вот только поправиться бы, и возьмусь за сценарий, потому что с повестью в очередной раз разделался (опять надеюсь, в последний).
Читал я всю полемику с Солоухиным. Я и по его книгам, очень талантливым, убедился, что он бессовестный человек, а теперь это моё мнение подтвердилось дискуссией. Мало того, он не просто бессовестный, он заигравшийся, беспардонный демагог, которому ради красного словца не жаль матери-отца.
О многом и многом мне хочется и надо с Вами поговорить. В письме этого не сделаешь. Да и отдыхать Вам надо, а я ещё тут со своею нудной тоской.
Будьте здоровы. Не работайте там. Отдыхайте. Шлю Вам привет с родной земли. Виктор
1964 г.
Пермь