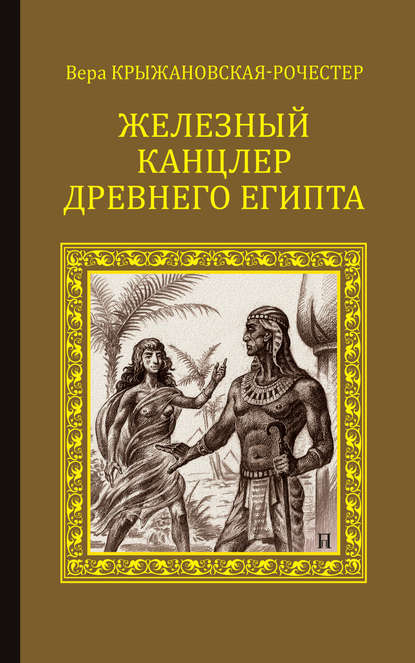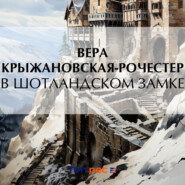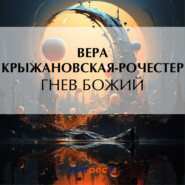По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Железный канцлер Древнего Египта
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Наконец, она встала, провела ласково рукой по щеке старой мамки, сидевшей у ее ног, и сказала устало:
– Пойди, оставь меня, добрая Нефру; я умолю богов помочь мне и поддержать меня в несчастье; потом я позову тебя и ты мне скажешь, что там готовится ужасного.
Как только старуха вышла, Ранофрит вскочила с кресла; ломая руки и с глухими стонами заметалась по комнате. Она старалась привести в порядок свои мысли, вспомнить хоть что-нибудь из своего ужасного приключения, но память изменяла ей. Она помнила, как легла спать у себя, но не могла себе объяснить, каким образом, внезапно проснувшись, очутилась в каморке еврея: это оставалось для нее тайной. С дрожью ужаса и отвращения вспомнила она Иосэфа, его страшное, покрытое ранами тело, его бледное лицо и глаза, горевшие местью и злобным торжеством, его ледяную, влажную руку, державшую ее. Она погибла! Как же теперь жить обесчещенной, презираемой всеми? Что скажут ее брат, гордый Потифэра, добродетельная Майя и даже веселый Рамери? Они тоже с ужасом оттолкнут ее. О! Как она несчастна. Нет, в тысячу раз лучше умереть как можно скорее, потому что Потифар ей больше не верит, а рабы каждую минуту могут войти, схватить ее и палками выгнать из дому. Она закрыла лицо руками и слезы потоками лились сквозь ее пальцы. Вдруг ей послышались шаги в соседней комнате; Ранофрит выпрямилась, бросилась к табурету, стоявшему в ногах кровати, на котором остался меч и короткий кинжал, положенные накануне Потифаром; она схватила кинжал и неуверенной рукой вонзила его себе в сердце.
Еще одно мгновенье молодая женщина стояла на ногах с пылающим лицом и неестественно открытыми глазами; потом, тотчас побледнев, она зашаталась; туман застелил ей глаза, влажный и горячий поток залил ее, и с хриплым стоном она упала на пол.
В это время Потифар лихорадочно шагал в своей комнате; чувства любви, гнева и отчаяния сменялись в его душе. Несмотря на непреклонное решение сурово выместить на жене поругание его чести, у него не хватало духа отдать приказание выгнать Ранофрит. Несколько раз рука поднималась ударить в бронзовый диск, чтобы позвать слугу, но каждый раз нерешительно опускалась. Под влиянием этого возбуждения он не заметил сначала шума и суматохи, поднявшихся в доме; но скоро крики и рыдания, раздававшиеся даже у самых дверей его комнаты, привлекли его внимание, и, охваченный недобрым предчувствием, он быстро распахнул завесу и увидел Тота, метавшегося, как сумасшедший, рвавшего на себе волосы и колотившегося головой о стену, причитая:
– О, день горя, день несчастья!
– Что случилось, что за крики? – повелительно спросил Потифар, схватив его за руку.
– О, о! Госпожа наша убила себя, – прошептал Тот.
Как пораженный громом, он отшатнулся назад; на секунду все потемнело в его глазах. Но, овладев собой, он опрометью бросился в комнату жены. Все смежные комнаты были полны рабов, все они суетились, крича и жестикулируя, но гуще всего толпа была у входа в спальню, из которой неслись раздиравшие душу крики. При виде господина все расступились, давая ему дорогу, и Потифар увидел на полу Ранофрит, плавающую в крови; около нее суетились Нефру и несколько служанок, испуская жалобные вопли, какими и теперь восточные женщины выражают свое страдание и горе. Еле переводя дыхание, дрожа, как в лихорадке, Потифар опустился на колени перед молодой женщиной, лежавшей без движения, и приложил ухо к ее груди; едва заметное биение сердца вернуло к нему решимость. Приказав тотчас бежать в храм за лекарем, он выслал вон всех слуг и с помощью Нефру поднял Ранофрит и перенес на постель. Затем он осторожно вытащил кинжал из раны и быстро наложил перевязку, чтобы остановить кровь. С горячим, искренним участием нагнулся он над неподвижным лицом молодой женщины. Как она должна была страдать, если подавила присущий человеку страх смерти, видя в ней свое спасение! Им овладело отчаяние. Что если она говорила правду, и колдовство еврея, жаждавшего мести, действительно привело ее к нему? Что этот человек располагал таинственной силой, он прекрасно знал это: ведь заставил он ту же самую женщину согласиться стать его женой.
– Если ты останешься жива, я тебе все прощу, – прошептал он решительно. – Ра, владыка неба, тебя я призываю в свидетели моей клятвы.
И бог, податель света и жизни, словно внял его обету и захотел показать, что его приемлет. Ранофрит в ту же минуту слабо пошевельнулась, застонала и открыла глаза. Когда она узнала мужа, бледного и расстроенного, склонившегося над ней, – невыразимый ужас отразился на ее лице.
– Твоя честь отмщена, я… я умираю… дай мне только умереть здесь… я не ходила эту ночь… – порывисто прошептала она. Сердце Потифара сжалось от боли.
– Живи, бедная моя, я тебе прощаю, – повторил он с волнением, кладя руку на голову Ранофрит.
Радостная благодарная улыбка осветила прелестное лицо раненой; она попыталась подняться, но это движение причинило ей такую адскую боль, что она с криком упала навзничь, глаза потухли и, прошептав: «Прощай… поздно!», она потеряла сознание. Потифар дрожащими руками старался привести ее в чувство. Завеса поднялась, и жрец храма Озириса в сопровождении помощника, несшего шкатулку, вошел в комнату.
Потифар вздохнул с облегчением и пошел ему навстречу; если спасение было возможно, ученый принес его с собой. Внимательно осмотрев и зондировав рану, старый жрец приложил к ней бальзам, перевязал и отдал необходимые распоряжения.
– Рана опасна, но не смертельна. Если боги пребудут милостивы к тебе, жена твоя будет жить, – сказал он Потифару на прощанье.
Несколько часов спустя в Гелиополь к Верховному жрецу летел гонец с известием, что сестра его опасно больна, с просьбой приехать самому или, по крайней мере, отпустить жену ухаживать за ней. Тяжелое время переживал Потифар, просиживая все свои свободные часы у изголовья жены, метавшейся в горячке и звавшей его в бреду, чтобы сказать, что не по доброй воле была она у еврея, и посылая проклятья колдуну, сгубившему ее. Какой-то гнет лежал на всем доме; Ранофрит все любили за ее доброту и снисходительность; все поголовно жалели ее и никто не верил в ее виновность. Что проклятый еврей околдовал ее, это считалось в кухнях и людских неопровержимым фактом; с почтительным усердием весь этот бедный люд старался услужить, кто как мог, и облегчить страдания своей молодой госпожи; все рассуждения о ней сопровождались обыкновенно словами сожаления и слезами.
Известие о тяжелой болезни сестры, без всяких подробностей и объяснений, сильно взволновало Верховного жреца: сам он не мог покинуть на это время Гелиополь, и Майя поспешно пустилась в дорогу с Аснат. По прибытии в Мемфис первое, что поразило ее, – это перемена в Потифаре; он не только осунулся, но печать глубокой скорби лежала на его лице: чем-то жестоким и суровым веяло от него; а Ранофрит еще больше напугала Майю, – она была точно тень прежней Ранофрит. Она лежала теперь в полнейшем изнеможении.
При виде лежавшей без памяти тетки маленькая Аснат громко заплакала; Потифар, прочтя вопрос во встревоженном взгляде Майи, решил немедленно рассказать ей все; но сама Майя, подозревая семейную драму и угадав сердцем, каких мучений это будет ему стоить, дружески пожала холодную руку Потифара и прибавила:
– Оставь покуда объяснения, брат мой. Потом ты мне расскажешь все; уведи теперь ребенка, его плач может встревожить больную.
Прошло три недели, пока всякая опасность миновала. Ранофрит поправлялась медленно; вечно задумчивая и молчаливая, она ни слова не сказала Майе о причине своей болезни и о той страшной драме, которая разыгралась у них. С тех пор как она стала поправляться, Потифар редко навещал жену; его тон, его манера держать себя с ней, угрюмый и строгий взгляд подсказывали Майе, что произошло что-то, нарушившее мир их домашнего очага; но, несмотря на свое любопытство, Майя удерживалась от расспросов Ранофрит – потому что она была еще слишком слаба, а Потифара – потому, что он, видимо, избегал этого. Между тем, приехал Потифэра, которого до сих пор гонцы извещали постоянно о состоянии здоровья сестры. Он сразу заметил перемену в отношениях молодых супругов, но замечаний никаких не сделал, и только вечером, оставшись наедине с женой, спросил, известно ли ей, что произошло?
– Ничего не знаю, но думаю, что случилось нечто ужасное, – ответила Майя. – Прежде всего, я должна тебе сказать, что Ранофрит была ранена; я ничего не писала тебе, чтобы тебя не беспокоить! Вся эта история покрыта тайной; все люди молчат; старая Нефру, которую я пробовала расспрашивать, тоже боится рот открыть, ей запретили болтать. Не знаю, что и думать; быть может, Потифар ранил ее, но тогда как могла она забыть свой долг?
– Что за пустяки! – прервал, нахмурив брови, Потифэра. – Чтобы моя сестра вдруг могла забыть честь и стыд – немыслимо! Гор – единственный человек, кто мог бы увлечь ее; я знаю, он ей нравился! Но он слишком честен, чтобы пользоваться женой другого.
– Может быть, я ошибаюсь и причина несчастья – другая. Без сомнения, Потифар скажет тебе правду; в день моего приезда он, кажется, хотел мне во всем открыться, но я боялась тогда еще больше взволновать его.
Прошло еще два дня; несколько раз Потифар, мучимый беспокойством, открывал рот, будто хотел сказать что-то, но затем снова впадал в мрачную задумчивость. Верховный жрец ни о чем не расспрашивал, но внимательно наблюдал, и первое, что он заметил, – было отсутствие еврея-управителя, которого так высоко ценил Потифар и которого он от всей души ненавидел. Вдруг подозрение, что болезнь сестры могла иметь отношение к молодому Иосэфу, мелькнула в голове жреца. При мысли, что Ранофрит могла увлечься «нечистым», вся гордость Потифэры была возмущена. После ужина, который прошел в молчании, Потифэра, испытующе смотря на зятя, спросил:
– Отчего я не вижу молодого еврея, твоего управителя, которым ты был так доволен; болен он что ли?
Молния гнева и ненависти сверкнула в глазах Потифара.
– Он в тюрьме, где будет гнить, пока не сдохнет, – был короткий ответ.
Верховный жрец нагнулся, взял за руку зятя и ласково сказал:
– Облегчи свое сердце, брат мой, и расскажи, что здесь у вас случилось? Я вижу, что ты много выстрадал, и не сомневаюсь, что еврей причастен к твоей печали; по внутреннему чувству этот человек стал мне ненавистен с первого взгляда, и сон, который я видел давно, заставляет меня опасаться, что негодяй будет источником еще многих и многих бед.
– То, что я расскажу тебе, уже достаточно, чтобы оправдать твое отвращение, – сказал Потифар, проводя рукой по лбу, покрытому потом; затем, облокотившись на стол, он рассказал тихим взволнованным голосом все, что произошло. – Понимаешь, мысль видеть соперника в моем рабе мне и в голову не приходила; да и теперь еще мой ум отказывается верить в это; а между тем, он был в комнате Ранофрит! Что он там делал? По ее словам, он посягал на ее честь; а он говорит – она зазвала и соблазняла его. Она была вся исцарапана, в руке ее остался кусок его одежды; наконец, она мне поклялась в великую минуту, готовясь к смерти, что проклятый околдовал ее. Допустим, что это так, но зачем он был в ее комнате в мое отсутствие? Я положительно теряюсь в догадках; знают только боги, что я выстрадал, когда нашел ее в каморке этого мерзавца; от стыда и отчаянья я чуть не сошел с ума. Хотя Ранофрит вполне достойна своей кары за низкую страсть; но все же то дикое торжество, какое я подметил в глазах еврея, заставляет меня поверить в колдовство! Ты, мудрый и ученый Потифэра, скажи, что думаешь ты об этом? Все улики против Ранофрит: между нами разверзлась пропасть!
Не отвечая ничего, Верховный жрец опустил голову на руки и глубоко задумался. После молчания, показавшегося Потифару целою вечностью, он поднял голову и сказал серьезно:
– Я не оправдываю сестру. Против нее имеются улики, и гнев твой справедлив. Я постараюсь только собрать и исследовать все те приметы, которые известны нам; если возможно, сыскать истину или, по крайней мере, правдоподобное объяснение всему. Во-первых, еврей красив, умен и образован, – гораздо более того, чем можно или должно быть обыкновенному рабу; затем, он честолюбив, хитер, если из последнего раба сумел добиться положения управителя и доверенного лица. Ты мне сказал, что он происходит из племени, кочующего между землями Кева (Финикия) и Нахарана, и что неоднократно в твоем доме он многих чудесно исцелял? Это утверждает мои подозрения, что до продажи в рабство он знал кого-нибудь из халдейских жрецов, который и научил его управлять тайными силами, особливо силой очарования, присущей человеку, равно как и змее. Змея зачаровывает намеченную ею птичку, и та неудержимо стремится в ее пасть; человек налагает иго своей воли на другого и заставляет совершать то, что противно его совести и рассудку. Я сказал тебе больше, чем подобает знать «непосвященному», но мы находимся в исключительных обстоятельствах и твоя скрытность служит мне порукой. Взвесив все это, очевидно, что энергичный и честолюбивый Иосэф, вооруженный ужасной и великой тайной силой, преследовал здесь иную цель, более глубокую, чем простой соблазн красивой женщины, – а именно: сделать из Ранофрит послушное орудие для своего дальнейшего возвышения. Возбудив чарами преступную страсть в ее сердце, он мог быть уверен в том, что она возвысит его до себя; очень может быть, что с целью убить или отравить тебя он и пробрался в вашу спальню. Ранофрит, не спавшая или проснувшаяся, пыталась остановить его, а он из страха быть пойманным с поличным скрылся; возможно, что во время же борьбы в ее руках остался клок его одежды. Что такой преступный план у него был, – ясно еще из того, что еврей не обладал ею, несмотря на то, что ее любовь была ему известна. Присутствие твоей жены в его каморке можно объяснить тем, что она привлечена была туда волей еврея, желавшего отмстить ей.
Объяснение жреца глубоко поразило Потифара; выслушав его до конца, он вскочил и в волнении заходил по комнате. Вся семейная драма представилась ему в ином свете: он вспомнил, как Иосэф сам навязался передать Ранофрит его предложение и как необычайно скоро получил ее согласие, когда она была заведомо влюблена в Гора. И если Иосэф сумел тогда чарами поработить ее волю, то тем более во второй раз он мог ей внушить все, что хотел, и теперь становилось несомненным, что бедная Ранофрит – несчастная жертва подлого еврея. Во время величайшего блаженства – обладания любимой женщиной – Потифар не задавался вопросом, каким путем Иосэф доставил ему это счастье; он только упивался им. Теперь же сам Потифар стал жертвой этой тайной силы.
Тяжело вздохнув, он остановился перед Потифэрой.
– Слова твои мне разъяснили многое, и твои предположения совершенно верны. Оставим наш печальный разговор; я простил Ранофрит от всей души, а этот негодяй никогда уже более не переступит порога моего дома. И мы постараемся как можно скорее забыть о случившемся несчастье.
Две недели спустя Верховный жрец с семьей вернулись в Гелиополь, так как Ранофрит была уже вне всякой опасности; молодая и крепкая ее натура, видимо, возвращала ей силы и красоту. С их отъездом тоскливо потянулись скучные дни однообразной жизни молодой женщины. Она никуда не выходила, избегала людей, а один вид рабов был ей противен. По целым дням сидела она одиноко на террасе или на плоской крыше, перебирая мрачные мысли и вспоминая весь павший на нее позор, сгубивший ее честь и счастье. Редкий день не заходил к ней Потифар хоть на несколько минут; гнева и недовольства в нем она более не замечала, но в его печальном и серьезном взгляде она читала, что прежней любви к ней уже не было.
Жаловаться Ранофрит не имела права, сознавая величайшее снисхождение к себе мужа, простившего ей все причиненное горе; но холодность и одиночество, на которые он осудил ее, угнетали молодую женщину; раскаяние и горечь сжимали ее сердце. При одном воспоминании об Иосэфе теперь в ней закипали ненависть и отвращение; зато Потифар с каждым днем выигрывал в ее сердце. Думая о нем постоянно, она невольно стала интересоваться им; все ее мысли летели к нему; он казался ей столько же красивым, сколько добрым; ясный и повелительный голос его, когда он отдавал приказания, заставлял биться ее сердце. Ужас одиночества сильнее охватывал ее при воспоминании о той любви, с какой он раньше относился к ней, о его прежней заботливости доставлять ей удовольствия: как он осыпал ее подарками, гордился ею, вывозя в свет; как радовался всем ее успехам и как был счастлив, когда мог посвящать ей все свое свободное время!
Естественной свидетельницей этого горя была старая Нефру, со времени несчастья не покидавшая ее и сделавшаяся для Ранофрит скорее другом, чем служанкой. Благодаря ей она всегда знала все, что делал Потифар; знала, что он много выезжал, поздно возвращался и работал иногда напролет целые ночи. Она поняла, что в работе он ищет себе забвения.
Более двух месяцев прошло, не изменив ничего в душе Потифара. По мере того как возвращались красота, силы и бодрость духа Ранофрит, унизительное одиночество все более и более становилось ей невыносимым. Зрело обсудив свое положение, она решила положить ему конец и попытаться примириться с мужем. Он добр и страстно любил ее когда-то; неужели он будет глух к ее мольбам, когда на коленях она станет умолять его о прощении? Нефру, которую она посвятила в свой план, не только одобрила его, но, целуя ее руки и ноги, со слезами радости торопила госпожу привести его скорей в исполнение. На следующий день она сообщила, что благоприятная минута настала; Потифар, только что вернувшись с обеда из дворца, сидел один в рабочей комнате, по-видимому, собираясь работать до поздней ночи.
С особенным старанием добрая старуха одела свою госпожу, надушила благовониями, причесала длинные черные волосы, прихватив их на лбу тонким золотым обручем, одела ее в полотняную мелкоплоенную тупику и стянула талию расшитым шарфом. Больше всего времени отнял выбор амулетов, которые Ранофрит повесила на шею и которые должны были благоприятно расположить богов к ее предприятию; в заключение, шепча заклинания, секретом которых она обладала и которые, по ее уверению, должны были непременно смягчить сердце Потифара и вернуть счастье супругам, Нефру положила ей в правую сандалию лист дерева счастья, а в левую – кусочек мягкого воска. Таким образом, вооруженная чарами, видимыми и невидимыми, Ранофрит прошла на половину мужа. У дверей рабочей комнаты сидел, скрестив руки, верный слуга; повелительным жестом она приказала ему удалиться и, приподняв шерстяную завесу, боязливо заглянула внутрь. Бронзовая, спускавшаяся сверху на цепочках, маленькая лампа слабо освещала комнату и фигуру Потифара, усердно писавшего за столом длинный свиток папируса; другая лампа на высокой медной подставке освещала его бледное, правильное, энергичное лицо, руку, державшую тростник, длинную чернильницу и кучу табличек и свитков, наваленных на столе. Ранофрит с бьющимся сердцем смотрела на мужа, который так ушел в работу, что и не замечал ее. Холодным, строгим показался он ей в эту минуту, и одна мысль, что опущенные глаза его с недоверием и презрением взглянут на нее, а его плотно сжатые уста, вместо ожидаемого прощения, произнесут жестокий, хотя и заслуженный, приговор – ужаснула ее. С трудом дыша, прислонилась она к косяку двери, но, собравшись с духом, бесшумно, как тень, скользнула к столу и, упав на колени, схватила и прижала к губам руку мужа. Потифар вздрогнул и, увидев свою жену, покраснел.
– Что значит, Ранофрит, приход твой в этот час? Что тебе надо? – спросил он, хмуря брови.
– Мне надо прощения, я хочу, чтобы ты вернул мне свою любовь. Я не в силах дольше влачить одинокую, полную презрения жизнь, – прошептала, рыдая, Ранофрит. – О, зачем я тогда не умерла, если теперь, вдали от тебя, я обречена влачить такую жизнь!
Потифар не отнял своей руки, которую она продолжала держать. Сердце его тоже больно билось; страстная любовь к жене все еще тлела под грудой перенесенных обид. Ее прекрасные молящие глаза побеждали его гордость и холодную сдержанность.
– Встань, Ранофрит! Мне тяжело тебя видеть перед собой на коленях, – сдержанно сказал он. – Я простил тебя и ты – по-прежнему хозяйка в моем доме; но то, о чем ты просишь, – невозможно. Мое сердце обливается кровью при мысли о том, что совершилось; я глубоко любил тебя, но как могу я вернуть тебе свою любовь и уважение, когда мне неизвестна истина?
– Оставь меня у своих ног, это место мое! Я все тебе открою, как перед Озирисом и судьями Аменти, и заранее подчиняюсь твоему приговору, – сказала Ранофрит. Отерев слезы и с трудом подавив волнение, она прерывающимся голосом рассказала о странном впечатлении, произведенном на нее Иосэфом в их первое свидание, и о всех перипетиях своего увлечения вопреки рассудку до той минуты, как раб жестокими словами напомнил ей о долге.
– Когда, несколько часов спустя, он пробрался в опочивальню, я в безумии своем вообразила, что пришел он для меня, – созналась Ранофрит, краснея от стыда, – но, очевидно, он склонился над столом с другой целью, потому что, когда я схватила его за руку, он оттолкнул меня; я старалась удержать его, мы стали бороться, и тогда-то я вырвала клок из его одежды. С той поры впервые я увидела Иосэфа в темной каморке! Помню, какое отвращение пробудил во мне вид его бледного лица и дикой злобой горевших глаз; помню, как он своей гадкой влажной рукой удержал меня, когда я пыталась убежать; помню оскорбления, которыми он осыпал меня и под градом которых я лишилась чувств; но как очутилась я у него в каморке – для меня тайна. Теперь ты все знаешь. О, пощади меня!
Потифар слушал, тяжело дыша, и каждое слово молодой женщины подтверждало мудрое предположение Потифэры. А между тем, для того чтобы отмстить достойно и послать на смерть негодяя, пытавшегося отравить его и овладевшего женой, якобы в интересах своего господина, руки у него были связаны; публичное обвинение раба в таком скандальном деле покрыло бы несмываемым позором и его, и жену. Это заключение, к которому он пришел, сознание своего бессилия, привело его в ярость, и кулаки нервно сжались.
Ранофрит, с трепетом следившая за ним, вздрогнула при этом жесте и умоляющим голосом спросила:
– Ты забыл обо мне… или гнев твой возрос, а не утих?