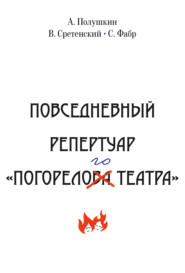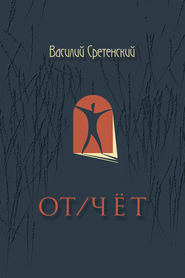По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Псевдолотман. Историко-бытовой комментарий к поэме А. С. Пушкина «Граф Нулин»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Французское, и то плохое лепетанье;
Мазурка, вальс и шаль, вот все их воспитанье».
…в благородном пансионе – противопоставление пансиона отеческому закону очень точно выражает тенденцию, отмеченную Н.Л. Пушкаревой для рубежа XVIII–XIX веков, когда «в русской дворянской культуре сформировалось два пути женского воспитания, два психологических типа… Один характеризовался естественностью поведения и выражения чувств. Воспитанные крепостными няньками, выросшие в деревне у бабушек или проводившие значительную часть года в поместье родителей, девушки этого типа умели вести себя сдержанно и естественно одновременно – как это было принято в народной среде… Иной тип женского поведения, также сложившийся в XVIII – начале XIX в., характеризовался повышенной экзальтированностью публичного поведения (кокетством, игривостью), следованием моде и презрением прежних «условностей» (Пушкарева, 117). Все дальнейшее поведение Натальи Павловны абсолютно точно вписывается во второй тип «женского поведения», формируемый «образцами поведения столичной публики, «высшего света», а также кругом чтения и уровнем образования».
Максимальный набор предметов в пансионе для благородных девиц (то есть для дочерей дворян) был в уже упомянутом выше Смольном институте. Там преподавали Закон Божий, русскую словесность, немецкий и французский языки, математику, географию, историю, естественные науки (физику, химию и астрономию в очень малом объеме), рисование, музыку, танцы. Частные пансионы ориентировались на этот стандарт, однако не всегда могли его выдержать из-за отсутствия подходящих учителей. Из-за этого, а также по соображениям экономии, один учитель преподавал сразу несколько предметов, давая знания «по возможности». В конечном счете, образование в пансионах для благородных девиц сводилось к тем предметам, знание которых, по понятиям того времени, считалось обязательным для жизни в свете (языки, танцы, благородные манеры) и в семье (рисование, музыка, немного словесности) (Смирнова-Россет, 73–95).
Сохранились красноречивые свидетельства тому, как велось преподавание в такого рода учебных заведениях. Вот одно из них: «От преподавания мы ничего не ждали, да и трудно было чего-нибудь ожидать; многие из учителей являлись на лекции единственно для нашего развлечения, засыпая на кафедре или повторяя то, что за десять лет было говорено ими. Случалось нередко, что вся лекция проходила в разговоре, кто что видел, слышал, рассказывались городские сплетни, анекдоты, и надо признаться, что это были самые интересные лекции. После классов начиналось заучивание уроков в долбежку, так что на другое утро мы чувствовали себя нагруженными разными сведениями, но к вечеру все это исчезало, и голова, как пустое лукошко, снова готова была принимать в себя все, что в нее ни положат» (Письмо, 2).
Поступали в пансион с 8-10 лет и до окончания курса, то есть до 16–17 лет, находились в нем постоянно. В качестве поощрения или в случае каких-либо несчастий в семье разрешалось отпускать воспитанниц домой, но не более чем на 1 день и чаще всего в сопровождении классной дамы (Аладьина, 13–14).
Примером того, насколько трудно бывшим пансионеркам было привыкать к жизни в деревне, может служить история Анны Петровны Скуратовой, окончившей самый престижный в Москве частный пансион мадам Петрозилиус в начале 1820-х годов. Сразу после выхода из пансиона она вышла замуж за Николая Дмитриевича Лукина. Далее предоставим слово подруге Анюты Скуратовой – Наталье Петровне Оболенской (в записи ее дочери):
«После свадьбы молодые уехали в деревню и располагали там поселиться… Прошло так месяца три. Анюта появляется в Москве и сейчас же была у нас; мы ей очень обрадовались, спрашиваем, где она остановилась, надолго ли к нам. Она говорит: "Я живу у m-me Петрозилиус". Трудно было этому поверить, но это было так: Анюта затосковала в деревне, с ней были припадки меланхолии, и она приехала в Москву, поместилась в пансионе Петрозилиус и вела там жизнь совершенно такую, как и прочие воспитанницы пансиона: она спала в дортуаре, ходила в классы и брала уроки музыки» (Сабанеева, 395).
У эмигрантки Фальбала – французское falbala имеет два основных значения. Во-первых, это оборка на платье, а в устной речи – волан. Во-вторых, вообще пышная безвкусная отделка платья. Эмигрантами в России первой четверти XIX века называли главным образом французских аристократов, вынужденных бежать от революции 1789 года и расселившихся по всей Европе. Большое их количество попало в Россию. Часть поступила на русскую службу, остальные вынуждены были зарабатывать на жизнь разными способами, в том числе преподаванием. Ф.Ф. Вигель вспоминал, что самый обычный помещик Пензенской губернии, имевший 300 душ крепостных, нанял в учителя маркиза де Мельвиль (Вигель, 83).
Учившаяся в московских частных пансионах для благородных девиц как раз в первой половине 1820-х гг. Т.П. Пассек с особой теплотой вспоминала пансион эмигрантки mademoiselle Воше: «Когда я поступила в пансион m-lle Воше, там было не больше двадцати пяти девочек, получавших почти домашнее воспитание… Из учителей у нас был только священник, учитель русского языка Лучков и танцмейстер П.И. Йогель. Остальные предметы наук преподавала сама m-lle Воше, все на французском языке» (Пассек, 188).
В нашем случае гордое звание эмигрантки в сочетании с отчаянно вульгарным именем намекает на широко распространенное в то время самозванство. К.Н. Батюшков, которого сестра просила найти в Москве француза-учителя, отвечал так:
«Первое, по справкам моим оказалось, что здесь иностранцев, достойных уважения, мало, особенно французов, что хороший (или то, что называли хорошим, а по-моему, скотина скотиной) не поедет вдаль ни за какую сумму… За тысячу будет пирожник, за две – отставной капрал, за три – школьный учитель из провинции, за пять, за шесть аббат» (Батюшков, 407 и 411).
Очень легко представить, к какой категории учителей относилась «эмигрантка» с фамилией Фальбала!
Глава 5
(Граф Нулин)
(текст)
Она сидит перед окном;
Пред ней открыт четвертый том
Сентиментального романа:
Любовь Элизы и Армана,
Иль Переписка двух семей —
Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный,
Без романтических затей.
(комментарий)
К сожалению, найти роман, который читала Наталья Павловна, не удалось. Между тем его название настолько типично для сентиментальных романов XVIII века, что напоминает искусно исполненную стилизацию под старинный заголовок. В нем содержится не менее четырех отсылок к разным культурным традициям и стереотипам.
Во-первых, конструкция типа: «любовь такой-то и такого-то» была чрезвычайно распространена во второй половине XVIII века. Из десятков романов с такими заголовками около двадцати было переведено на русский язык. Вот названия только двух: Пьер Бошан «Любовь Исмены и Исмениаса» и Жан Лафонтен «Любовь Псиши и Купидона». Оба романа вышли на русском языке в одном и том же году – 1769.
Во-вторых, в традиции даже не сентиментального, а классического романа XVII века, было давать двойной заголовок, обе части которого соединялись через или. Возьмем почти наугад несколько романов, переведенных на русский – подряд, год за годом:
1789 г. Жан Демаре: «Несчастная любовь, или Приключение Мелентеса и Арианны, одной знаменитой сицилианки»;
1790 г. Жан Жак Бартелеми: «Любовь Кариты и Полидора, или Разные приключения двух великолепных любовников»;
1791 г. Анонимный автор: «Любовь Анделутеда и Уардии, или Несчастные приключения двух судьбою гонимых страстных любовников, через свое постоянство достигших желаемого предмета».
В-третьих, жанр переписки, вошедший в моду в середине XVIII века (но появившийся значительно раньше), стал своего рода «визитной карточкой» нравоучительного романа. Так, из семи романов, в заглавии которых есть имя Элиза или его вариации, опубликованных в последней трети ХVIII века, в четырех использован прием переписки. В 1789 г. на русский язык были переведены и сразу стали популярными «Письма Йорика к Элизе», в которых под именем Йорика, выступал писатель Лоуренс Стерн, автор сентиментальных романов: «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» и «Сентиментальное путешествие Йорика по Франции и Италии».
Наконец, в-четвертых, имя героини – Элиза – явный и безусловно узнаваемый знак сентиментальной прозы. С этим именем (Элиза, Элоиза, Луиза, а в русской традиции Елиза или Лиза) связана особая культурная традиция, корнями уходящая в европейское средневековье. Начало ей было положено в XII веке в переписке философа и богослова Пьера Абеляра с его возлюбленной семнадцатилетней Элоизой. В ответных письмах Элоизы впервые в европейской литературе соединяются понятия «любовь» и «свобода», в противовес «несвободе» – браку и монастырю. Строки, которые мы приведем ниже, предвосхитили главную тенденцию в развитии европейского романа и опередили время на 400–500 лет:
«Бог свидетель, – пишет Элоиза, – что я никогда ничего не искала в тебе, кроме тебя самого; я желала иметь тебя, а не то, что принадлежит тебе. Я не стремлюсь ни к брачному союзу, ни к получению подарков… И хотя наименование супруги представляется мне более священным и прочным, мне всегда было приятней называться твоей подругой, или, если ты не оскорбился, – твоею сожительницей или любовницей» (Абеляр, 67).
Шестьсот лет спустя Жан-Жак Руссо написал роман о страсти, служащей извинением нарушению семейных приличий и религиозных догм. Название романа – «Юлия, или Новая Элоиза». Преемственность литературной традиции подчеркивала и избранная Руссо форма романа-переписки. После выхода «Новой Элоизы» имя Элизы-Лизы стало символом любви, разрывающей сеть традиционной морали и светских «приличий» (Топоров).
Что же до Натальи Павловны, то ее упорное стремление дочитать роман до конца говорит по крайней мере о двух вещах. Первая: она отчасти отождествляет себя с Элизой – героиней сентиментального романа, и скорее всего видит в семейной жизни препятствие для «подлинной» и «высокой» любви. Вторая: поведение героини во всех последующих сценах будет во многом определяться теми стереотипами, которые намертво утвердились в сентиментальной прозе XVIII века. В частности, ухаживание в ней предполагает длительный процесс, обширную переписку, тайные свидания, долгие беседы, робкое, а затем пылкое, но «в рамках», проявление страсти, борьбу «долга» и «чувств» и т. д.
Ироническое отношение Пушкина к сентиментальной прозе отчетливо видно из его письма к брату Льву, написанному за год до «Графа Нулина», в ноябре 1824 г.: «…читаю "Кларису", мочи нет какая скучная дура!» (X – 110). Имелся в виду один из самых знаменитых романов XVIII века «Клариса, или История молодой леди, показывающая бедствия, проистекающие из непредусмотрительного отношения, как родителей, так и детей к браку». Этот эпистолярный роман Сэмюэля Ричардсона, написанный в 1747–1748 гг., предвосхитил явление сентиментализма и был читаем всю вторую половину XVIII в. В начале XIX в. такие романы (но, прежде всего, «Новая Элоиза») имели беспрекословный авторитет в России. Приведем лишь два свидетельства глубочайшего влияния романа Руссо на умы русских образованных дворян начала XIX века: Первое – от Н.Н. Муравьева-Карского:
«Мне тогда было 16 лет. (…) попалась мне в руки «Новая Элоиза» Руссо. Чувствительность, выражающаяся в сих письмах, растрогало мое сердце, по природе впечатлительное… Слог Жан-Жака увлекал меня, и я поверил всему, что он говорит. Не менее того чтение Руссо отчасти образовало мои нравственные наклонности и обратило их к добру; но со времени чтения сего я потерял всякую охоту к службе, получил отвращение к занятиям, предался созерцательности и обленился. Я перемогал свою лень при исполнении обязанностей и стал уже помышлять об отставке» (Муравьев-Карский, 75).
Второе – из круга В.А. Жуковского:
«По признанию Андрея Тургенева, ближайшего друга Жуковского, Руссо был как бы наставником молодого поэта. «Новая Элоиза» воспринималась в тургеневском кружке, куда входил и Жуковский, как «code de moral'» во всем – в любви, в добродетели, в должностной, общественной и частной жизни» (Жуковский и литература, 290).
Однако появление романтической прозы постепенно оттеснило их на обочину европейской, а к концу 1820-х годов – и российской литературной жизни.
Пред ней открыт четвертый том – упомянутый выше роман Ричардсона «Клариса» вышел в семи томах. «Жизнь и мнения Тристама Шенди, джентльмена» – в девяти. Так что «четвертый том» романа, который читает Наталья Павловна, отнюдь не означает, что он последний.
Роман классический, старинный – все что написано в этом комментарии чуть выше неизбежно должно нас привести к выводу, что роман, читаемый Натальей Павловной написан во Франции или Англии между 40-ми и 60-ми годами XVIII века и переведен на русский язык не позднее 90-х годов того же века.
Отменно длинный, длинный, длинный – для того, чтобы читатель лучше понял, что стоит за этой строкой, приведем (из каталога Российской национальной библиотеки) объем нескольких из упомянутых выше «классических» романов, изданных, в русских переводах, в Санкт-Петербурге в конце XVIII – начале XIX веков, по томам:
Самюэль Ричардсон. «Достопамятная жизнь девицы Кларисы Гарлов, истинная повесть». Книга издана в 1791–1792 годах. Часть 1 – 306 стр., часть 2 – 422; часть 3 – 419 стр., часть 4 – 384, часть 5 – 382 стр., часть 6 – 356.
Лоренс Стерн «Жизнь и мнения Тристама Шенди, джентльмена». Роман издан в 1804–1807 годах. Том 1 – 251 стр., том 2 – 248 стр., том 3. – 239 стр., т 4. – 228 стр., том 5 – 194 стр., том 6. – 208 стр.
Жан Жак Руссо «Новая Элоиза». Издание 1820–1821 годов. Том 1 – 312 стр., том 2 – 279 с тр., т. 3. – 235 стр., том 4 – 214 стр., том 5 – 212 стр., том. 6 – 265 стр., том 7 – 310 стр., том 8. – 232 стр., том 9. – 226 стр., том. 10 – 198 стр.
Глава 6
(Граф Нулин)
(текст)
Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.
Кругом мальчишки хохотали.
Мазурка, вальс и шаль, вот все их воспитанье».
…в благородном пансионе – противопоставление пансиона отеческому закону очень точно выражает тенденцию, отмеченную Н.Л. Пушкаревой для рубежа XVIII–XIX веков, когда «в русской дворянской культуре сформировалось два пути женского воспитания, два психологических типа… Один характеризовался естественностью поведения и выражения чувств. Воспитанные крепостными няньками, выросшие в деревне у бабушек или проводившие значительную часть года в поместье родителей, девушки этого типа умели вести себя сдержанно и естественно одновременно – как это было принято в народной среде… Иной тип женского поведения, также сложившийся в XVIII – начале XIX в., характеризовался повышенной экзальтированностью публичного поведения (кокетством, игривостью), следованием моде и презрением прежних «условностей» (Пушкарева, 117). Все дальнейшее поведение Натальи Павловны абсолютно точно вписывается во второй тип «женского поведения», формируемый «образцами поведения столичной публики, «высшего света», а также кругом чтения и уровнем образования».
Максимальный набор предметов в пансионе для благородных девиц (то есть для дочерей дворян) был в уже упомянутом выше Смольном институте. Там преподавали Закон Божий, русскую словесность, немецкий и французский языки, математику, географию, историю, естественные науки (физику, химию и астрономию в очень малом объеме), рисование, музыку, танцы. Частные пансионы ориентировались на этот стандарт, однако не всегда могли его выдержать из-за отсутствия подходящих учителей. Из-за этого, а также по соображениям экономии, один учитель преподавал сразу несколько предметов, давая знания «по возможности». В конечном счете, образование в пансионах для благородных девиц сводилось к тем предметам, знание которых, по понятиям того времени, считалось обязательным для жизни в свете (языки, танцы, благородные манеры) и в семье (рисование, музыка, немного словесности) (Смирнова-Россет, 73–95).
Сохранились красноречивые свидетельства тому, как велось преподавание в такого рода учебных заведениях. Вот одно из них: «От преподавания мы ничего не ждали, да и трудно было чего-нибудь ожидать; многие из учителей являлись на лекции единственно для нашего развлечения, засыпая на кафедре или повторяя то, что за десять лет было говорено ими. Случалось нередко, что вся лекция проходила в разговоре, кто что видел, слышал, рассказывались городские сплетни, анекдоты, и надо признаться, что это были самые интересные лекции. После классов начиналось заучивание уроков в долбежку, так что на другое утро мы чувствовали себя нагруженными разными сведениями, но к вечеру все это исчезало, и голова, как пустое лукошко, снова готова была принимать в себя все, что в нее ни положат» (Письмо, 2).
Поступали в пансион с 8-10 лет и до окончания курса, то есть до 16–17 лет, находились в нем постоянно. В качестве поощрения или в случае каких-либо несчастий в семье разрешалось отпускать воспитанниц домой, но не более чем на 1 день и чаще всего в сопровождении классной дамы (Аладьина, 13–14).
Примером того, насколько трудно бывшим пансионеркам было привыкать к жизни в деревне, может служить история Анны Петровны Скуратовой, окончившей самый престижный в Москве частный пансион мадам Петрозилиус в начале 1820-х годов. Сразу после выхода из пансиона она вышла замуж за Николая Дмитриевича Лукина. Далее предоставим слово подруге Анюты Скуратовой – Наталье Петровне Оболенской (в записи ее дочери):
«После свадьбы молодые уехали в деревню и располагали там поселиться… Прошло так месяца три. Анюта появляется в Москве и сейчас же была у нас; мы ей очень обрадовались, спрашиваем, где она остановилась, надолго ли к нам. Она говорит: "Я живу у m-me Петрозилиус". Трудно было этому поверить, но это было так: Анюта затосковала в деревне, с ней были припадки меланхолии, и она приехала в Москву, поместилась в пансионе Петрозилиус и вела там жизнь совершенно такую, как и прочие воспитанницы пансиона: она спала в дортуаре, ходила в классы и брала уроки музыки» (Сабанеева, 395).
У эмигрантки Фальбала – французское falbala имеет два основных значения. Во-первых, это оборка на платье, а в устной речи – волан. Во-вторых, вообще пышная безвкусная отделка платья. Эмигрантами в России первой четверти XIX века называли главным образом французских аристократов, вынужденных бежать от революции 1789 года и расселившихся по всей Европе. Большое их количество попало в Россию. Часть поступила на русскую службу, остальные вынуждены были зарабатывать на жизнь разными способами, в том числе преподаванием. Ф.Ф. Вигель вспоминал, что самый обычный помещик Пензенской губернии, имевший 300 душ крепостных, нанял в учителя маркиза де Мельвиль (Вигель, 83).
Учившаяся в московских частных пансионах для благородных девиц как раз в первой половине 1820-х гг. Т.П. Пассек с особой теплотой вспоминала пансион эмигрантки mademoiselle Воше: «Когда я поступила в пансион m-lle Воше, там было не больше двадцати пяти девочек, получавших почти домашнее воспитание… Из учителей у нас был только священник, учитель русского языка Лучков и танцмейстер П.И. Йогель. Остальные предметы наук преподавала сама m-lle Воше, все на французском языке» (Пассек, 188).
В нашем случае гордое звание эмигрантки в сочетании с отчаянно вульгарным именем намекает на широко распространенное в то время самозванство. К.Н. Батюшков, которого сестра просила найти в Москве француза-учителя, отвечал так:
«Первое, по справкам моим оказалось, что здесь иностранцев, достойных уважения, мало, особенно французов, что хороший (или то, что называли хорошим, а по-моему, скотина скотиной) не поедет вдаль ни за какую сумму… За тысячу будет пирожник, за две – отставной капрал, за три – школьный учитель из провинции, за пять, за шесть аббат» (Батюшков, 407 и 411).
Очень легко представить, к какой категории учителей относилась «эмигрантка» с фамилией Фальбала!
Глава 5
(Граф Нулин)
(текст)
Она сидит перед окном;
Пред ней открыт четвертый том
Сентиментального романа:
Любовь Элизы и Армана,
Иль Переписка двух семей —
Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный,
Без романтических затей.
(комментарий)
К сожалению, найти роман, который читала Наталья Павловна, не удалось. Между тем его название настолько типично для сентиментальных романов XVIII века, что напоминает искусно исполненную стилизацию под старинный заголовок. В нем содержится не менее четырех отсылок к разным культурным традициям и стереотипам.
Во-первых, конструкция типа: «любовь такой-то и такого-то» была чрезвычайно распространена во второй половине XVIII века. Из десятков романов с такими заголовками около двадцати было переведено на русский язык. Вот названия только двух: Пьер Бошан «Любовь Исмены и Исмениаса» и Жан Лафонтен «Любовь Псиши и Купидона». Оба романа вышли на русском языке в одном и том же году – 1769.
Во-вторых, в традиции даже не сентиментального, а классического романа XVII века, было давать двойной заголовок, обе части которого соединялись через или. Возьмем почти наугад несколько романов, переведенных на русский – подряд, год за годом:
1789 г. Жан Демаре: «Несчастная любовь, или Приключение Мелентеса и Арианны, одной знаменитой сицилианки»;
1790 г. Жан Жак Бартелеми: «Любовь Кариты и Полидора, или Разные приключения двух великолепных любовников»;
1791 г. Анонимный автор: «Любовь Анделутеда и Уардии, или Несчастные приключения двух судьбою гонимых страстных любовников, через свое постоянство достигших желаемого предмета».
В-третьих, жанр переписки, вошедший в моду в середине XVIII века (но появившийся значительно раньше), стал своего рода «визитной карточкой» нравоучительного романа. Так, из семи романов, в заглавии которых есть имя Элиза или его вариации, опубликованных в последней трети ХVIII века, в четырех использован прием переписки. В 1789 г. на русский язык были переведены и сразу стали популярными «Письма Йорика к Элизе», в которых под именем Йорика, выступал писатель Лоуренс Стерн, автор сентиментальных романов: «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» и «Сентиментальное путешествие Йорика по Франции и Италии».
Наконец, в-четвертых, имя героини – Элиза – явный и безусловно узнаваемый знак сентиментальной прозы. С этим именем (Элиза, Элоиза, Луиза, а в русской традиции Елиза или Лиза) связана особая культурная традиция, корнями уходящая в европейское средневековье. Начало ей было положено в XII веке в переписке философа и богослова Пьера Абеляра с его возлюбленной семнадцатилетней Элоизой. В ответных письмах Элоизы впервые в европейской литературе соединяются понятия «любовь» и «свобода», в противовес «несвободе» – браку и монастырю. Строки, которые мы приведем ниже, предвосхитили главную тенденцию в развитии европейского романа и опередили время на 400–500 лет:
«Бог свидетель, – пишет Элоиза, – что я никогда ничего не искала в тебе, кроме тебя самого; я желала иметь тебя, а не то, что принадлежит тебе. Я не стремлюсь ни к брачному союзу, ни к получению подарков… И хотя наименование супруги представляется мне более священным и прочным, мне всегда было приятней называться твоей подругой, или, если ты не оскорбился, – твоею сожительницей или любовницей» (Абеляр, 67).
Шестьсот лет спустя Жан-Жак Руссо написал роман о страсти, служащей извинением нарушению семейных приличий и религиозных догм. Название романа – «Юлия, или Новая Элоиза». Преемственность литературной традиции подчеркивала и избранная Руссо форма романа-переписки. После выхода «Новой Элоизы» имя Элизы-Лизы стало символом любви, разрывающей сеть традиционной морали и светских «приличий» (Топоров).
Что же до Натальи Павловны, то ее упорное стремление дочитать роман до конца говорит по крайней мере о двух вещах. Первая: она отчасти отождествляет себя с Элизой – героиней сентиментального романа, и скорее всего видит в семейной жизни препятствие для «подлинной» и «высокой» любви. Вторая: поведение героини во всех последующих сценах будет во многом определяться теми стереотипами, которые намертво утвердились в сентиментальной прозе XVIII века. В частности, ухаживание в ней предполагает длительный процесс, обширную переписку, тайные свидания, долгие беседы, робкое, а затем пылкое, но «в рамках», проявление страсти, борьбу «долга» и «чувств» и т. д.
Ироническое отношение Пушкина к сентиментальной прозе отчетливо видно из его письма к брату Льву, написанному за год до «Графа Нулина», в ноябре 1824 г.: «…читаю "Кларису", мочи нет какая скучная дура!» (X – 110). Имелся в виду один из самых знаменитых романов XVIII века «Клариса, или История молодой леди, показывающая бедствия, проистекающие из непредусмотрительного отношения, как родителей, так и детей к браку». Этот эпистолярный роман Сэмюэля Ричардсона, написанный в 1747–1748 гг., предвосхитил явление сентиментализма и был читаем всю вторую половину XVIII в. В начале XIX в. такие романы (но, прежде всего, «Новая Элоиза») имели беспрекословный авторитет в России. Приведем лишь два свидетельства глубочайшего влияния романа Руссо на умы русских образованных дворян начала XIX века: Первое – от Н.Н. Муравьева-Карского:
«Мне тогда было 16 лет. (…) попалась мне в руки «Новая Элоиза» Руссо. Чувствительность, выражающаяся в сих письмах, растрогало мое сердце, по природе впечатлительное… Слог Жан-Жака увлекал меня, и я поверил всему, что он говорит. Не менее того чтение Руссо отчасти образовало мои нравственные наклонности и обратило их к добру; но со времени чтения сего я потерял всякую охоту к службе, получил отвращение к занятиям, предался созерцательности и обленился. Я перемогал свою лень при исполнении обязанностей и стал уже помышлять об отставке» (Муравьев-Карский, 75).
Второе – из круга В.А. Жуковского:
«По признанию Андрея Тургенева, ближайшего друга Жуковского, Руссо был как бы наставником молодого поэта. «Новая Элоиза» воспринималась в тургеневском кружке, куда входил и Жуковский, как «code de moral'» во всем – в любви, в добродетели, в должностной, общественной и частной жизни» (Жуковский и литература, 290).
Однако появление романтической прозы постепенно оттеснило их на обочину европейской, а к концу 1820-х годов – и российской литературной жизни.
Пред ней открыт четвертый том – упомянутый выше роман Ричардсона «Клариса» вышел в семи томах. «Жизнь и мнения Тристама Шенди, джентльмена» – в девяти. Так что «четвертый том» романа, который читает Наталья Павловна, отнюдь не означает, что он последний.
Роман классический, старинный – все что написано в этом комментарии чуть выше неизбежно должно нас привести к выводу, что роман, читаемый Натальей Павловной написан во Франции или Англии между 40-ми и 60-ми годами XVIII века и переведен на русский язык не позднее 90-х годов того же века.
Отменно длинный, длинный, длинный – для того, чтобы читатель лучше понял, что стоит за этой строкой, приведем (из каталога Российской национальной библиотеки) объем нескольких из упомянутых выше «классических» романов, изданных, в русских переводах, в Санкт-Петербурге в конце XVIII – начале XIX веков, по томам:
Самюэль Ричардсон. «Достопамятная жизнь девицы Кларисы Гарлов, истинная повесть». Книга издана в 1791–1792 годах. Часть 1 – 306 стр., часть 2 – 422; часть 3 – 419 стр., часть 4 – 384, часть 5 – 382 стр., часть 6 – 356.
Лоренс Стерн «Жизнь и мнения Тристама Шенди, джентльмена». Роман издан в 1804–1807 годах. Том 1 – 251 стр., том 2 – 248 стр., том 3. – 239 стр., т 4. – 228 стр., том 5 – 194 стр., том 6. – 208 стр.
Жан Жак Руссо «Новая Элоиза». Издание 1820–1821 годов. Том 1 – 312 стр., том 2 – 279 с тр., т. 3. – 235 стр., том 4 – 214 стр., том 5 – 212 стр., том. 6 – 265 стр., том 7 – 310 стр., том 8. – 232 стр., том 9. – 226 стр., том. 10 – 198 стр.
Глава 6
(Граф Нулин)
(текст)
Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.
Кругом мальчишки хохотали.