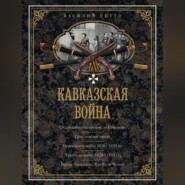По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кавказская война. Том 4. Турецкая война 1828-1829гг.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Силы, которыми располагал Паскевич, совершенно не соответствовали громадным средствам, подготовляемым противником. Было уже сказано, что по окончании персидской войны, славной для русского оружия, но сопряженной с большими потерями в людях, Паскевич не только не получил никаких подкреплений, но еще должен был сам отделить значительные подкрепления для европейской России. Турецкая кампания 1828 года ослабила войска его новыми потерями, и некоторые полки уменьшились теперь почти наполовину, а от других едва осталась четвертая часть. Правда, на усиление кавказского корпуса назначено было двадцать тысяч рекрутов, но это усиление являлось лишь номинальным и мало могло изменить положение дела. Прежде всего, рекруты, по громадности предстоявшего им пути, не могли прийти ранее, как через пять-шесть месяцев, то есть в июне, когда военные действия могли быть уже в полном разгаре; во-вторых, значительная часть их должна была остаться на Кавказской линии, а затем нужно было принять еще в расчет большую смертность, неизбежную по климатическим условиям страны, в которую шли рекруты, и в результате, во всяком случае, выходило то, что действующий корпус или выступил бы в поход без всяких подкреплений, или, в лучшем случае, наполовину составленный из новобранцев, не обученных даже первоначальным приемам военной службы. Казалось бы, что при таких условиях не только продолжать завоевания, но даже держаться в оборонительном положении было бы крайне трудно, а между тем из Петербурга, основываясь на успехах минувшей кампании, требовали еще расширения планов похода, чтобы тем облегчить тяжелую войну на Дунае.
Поставленный в столь трудное положение, Паскевич должен был обратиться к изысканию местных средств, чтобы хоть сколько-нибудь уравновесить свои силы с силами противника. Можно бы было, пожалуй, воспользоваться добрым расположением Персии и вовлечь ее в войну против турок, тем более, что Аббаса-Мирза сам просил позволения открыть военные действия, и писал, что жители Багдада, обещают ему сдать и город и область. Предложение это на первый раз казалось не безвыгодным, однако же при более внимательном обсуждении дела нельзя было не прийти к заключению, что вмешательство Персии может замедлить заключение мира, так как Россия, сверх достижения своих собственных целей, будет поставлена в необходимость еще вести переговоры о выгодах своей союзницы. С этим можно было помириться только в том случае, если бы Персия могла оказать существенную помощь; но она была в таком положении, что сама просила у России помощи и деньгами и артиллерии. Паскевич благодарил Аббас-Мирзу за предложение, но отклонил его содействие под тем предлогом, что Персия после тяжкой для нее войны нуждается в покое.
Расчеты Паскевича устремились в другую сторону. С самого начала зимы он энергично повел переговоры, стараясь привлечь на сторону России – на левом фланге курдов, а на правом – аджарцев. Владетелю Аджарии, Ахмет-беку, предлагали за подданство генеральский чин, орденскую ленту и десять тысяч пенсии. Предложение было заманчиво, и старый бек колебался.
Сношения на левом фланге с курдами, занимавшими обширную территорию, и уже поэтому располагавшими полной возможностью оказать непосредственное влияние на дальнейший ход кампании в глубине Анатолии,– имели еще большее значение. Переход на русскую сторону курдов не только открывал свободный путь к Арзеруму со стороны Баязета, но лишал неприятеля лучшей его конницы, которая разлившись бурным потоком от стен Баязета, Вана и Муша до самых берегов Черного моря, могла поставить самого сераскира в безвыходное положение. И расчеты Паскевича имели основание в самом складе жизни и характере курдов, и в тех отношениях, которые сложились между ними и Турцией.
О происхождении курдов существует целая литература, но еще никто не сказал о них последнего слова, и их загадочное происхождение по-прежнему тонет в глубине времен доисторических. Несомненно одно, что курды представляют собой любопытный остаток древнейшего народа на востоке, и, вероятно, индо-германского корня; в языке их, жестком и трескучем, есть действительно много санскритского, и их колоссальный рост и сложение не могут принадлежать позднейшим, измельчавшим народностям Востока. В поэме Фердоуси “Шах-Наме” рассказывается следующий миф о происхождении этого народа.
“В глубокой древности,– говорит эта легенда,– жил некий царь Азгхи-Дахак (“Змий-губитель”), жестокость которого повергала все соседние страны в ужасные бедствия. По злобе демонов из плеч царя рождены были два змия, составлявшие нераздельную часть его тела и питавшиеся только человеческим мозгом. Для утоления их голода каждый день два человека обрекались им в жертву, но ловкий повар царя умел спасать ежедневно одного из этих несчастных и отправлял его в горы, чтобы никто не мог проведать о его существовании. Вот из этих-то спасенных, но одичавших людей и составилось впоследствии загадочное племя курдов”.
Во время Паскевича народ этот занимал то же гористое пространство между хребтом Агри-Дагом и песчаными равнинами Тигра и Евфрата, которое занимают ныне, и где можно видеть еще и теперь огромные, черные шатры Кидара, которым уподобляет себя возлюбленная Соломона в его песнях: “Я черна, но красива, как шатры Кидарские”. Благодаря вот этим-то переносным жилищам, курды поныне ведут полукочевую жизнь и занимаются только скотоводством. Один европейский путешественник, посетивший Восток, полагает, что число овец, пригоняемых курдами на продажу только в один Константинополь, простирается ежегодно до полутора миллионов голов и что на совершение этого пути они употребляют около полутора лет.
Разделенные с незапамятных времен на многие отдельные роды, из которых каждый управляется своим родоначальником, с титулом шейха или эмира, они в течение целых тысячелетий не изменяли ни своих обычаев, ни языка, ни национальной одежды, ни образа жизни. Трудно в настоящее время найти между народами всего земного шара столь патриархальную жизнь со всеми ее добродетелями и недостатками, как окаменевшую в своих определенных формах жизнь курда, для которого ни один закон не имеет такого значения и силы, как древний родовой обычай.
В самой религии курдов, несмотря на то, что большая часть их принадлежит к магометанскому исповеданию, сохранилось столько предрассудков от древних верований Азии, что сами мусульмане едва удостаивают их названием своих единоверцев. Множество несторианцев, армян, халдеев, равно как и мусульман, принадлежавших к нетерпимым сектам, находили во время оно убежище у курдов и, забытые своими земляками, мало-помалу забывали свою религию. Из этих сект особенного внимания заслуживают езиды – когда-то несторианцы, а потом начавшие поклоняться всему, не исключая дьявола. Впрочем, сами езиды отвергают последнее, говоря, что поклонение их сатане – пустая басня, но что по их законам сатану нельзя проклинать, так как он со временем может быть прощен, ибо никто не может положить предела милосердию Аллаха. Несмотря на это объяснение, езидов равно презирают и христиане и магометане; первые никак не могут примириться с их взглядом на виновника падения человеческого рода, а вторые не прощают им более житейской слабости – пристрастия к спиртным напиткам. Между тем езиды – самые честные и миролюбивые люди, из всех куртинских племен; зато остальные – поголовные разбойники.
Вековой беспорядок, господствовавший в сопредельных им государствах, в Турции и Персии, доставлял им легкое средство жить грабежом и поддерживал хищные наклонности народа. Самое название “курд” значит по-турецки “волк”, и они оправдывали его, будучи готовы грабить и резать все, что попадет им под руку.
Занятие русскими Баязета поставило курдов в зависимость уже от трех государств; русская опека присоединилась к опекам персидской и турецкой. Последней принадлежала, впрочем, львиная часть – большой Курдистан, где путешественники насчитывают до полумиллиона куртинских семейств. Северный Курдистан входит в состав пашалыков Ванского и Баязетского, западный – в Мушский и Арзерумский, южный – в Моссульский и Диабекирский. Восточной частью Курдистана владели уже персияне; и надо сказать, что политика, которой держалось это государство по отношению к курдам, упрочивала его владычество над ними гораздо более, чем политика Порты. Персидский двор старался предоставить одному из сильнейших и более благонадежных шейхов звание курдистанского валия и затем помогал ему деньгами и оружием распространять свое могущество и власть над остальными родоначальниками. Ничего подобного не делала Порта. Напротив, турецкое правительство пользовалось именно отсутствием централизации и единства власти у курдов и сеяло между ними раздоры, чтобы легче справляться с ними. Из этой системы выходило, однако, то, что курды, враждовавшие между собою, нередко переносили свою вражду на самую Турцию, а Турция не имела под рукой ни одного влиятельного человека, на которого могла бы опереться в случае надобности. А между тем, казалось, что Турция-то и должна была иметь в этом народе солидный ресурс своим вооруженным силам. Если бы каждое курганское семейство выставило только по одному вооруженному всаднику, то образовалась бы полумиллионная легкая, неутомимая конница. Но курды были настолько враждебны турецкому правительству, что оно не могло и думать о привлечении их к правильной военной повинности; ему приходилось довольствоваться тем, что давали сами курды, и более решительных мер принять было нельзя, потому что курды народ беспокойный, легко поднимающий оружие. К тому же, в крайнем случае, они имели возможность всегда перекочевать в соседнее государство, особенно в Персию, где им было удобнее, нежели у нас, так как в пограничной полосе русских владений было мало земель, да и русские порядки были строже персидских. Таким образом, курды сохраняли только номинальную зависимость от Турции, которая в экстренных обстоятельствах, например, во время войны, вынуждена была давать им разные льготы, и только этим приобретать в них союзников весьма сомнительной верности.
А между тем курды недаром имеют репутацию отличной конницы. Правда, они не стойки, и самая храбрость их не есть выражение постоянного, холодного мужества, она – скорее порыв, вдохновение; но тот, кто видел, как целые сотни их ложатся под самыми жерлами пушек и умирают на штыках пехоты,– выносил о курдах хорошее впечатление. В русском корпусе о них сложилось двоякое мнение: одни относились к ним даже с большим уважением, чем они того заслуживали, другие величали их трусами. Разумеется, оба мнения несправедливы, потому что курды дерутся и хорошо, и дурно, смотря по тому, что приводит их к бою: жажда ли одной добычи, сила ли и принуждение непопулярного у них правительства, собственный ли энтузиазм, вызванный защитой родных очагов, или просто желанием показать свою молодецкую удаль.
Оружие у курдов приспособлено преимущественно к рукопашному бою; в особенности хороша их длинная, гибкая камышовая пика, которой они владеют в совершенстве. Когда курд несется на врага, он держит пику за середину и, потрясая ее, заставляет изгибаться дротик так быстро, что глаз не может уследить за направлением лезвия – и удар этот трудно отпарировать саблей. Природные наездники, курды не любят сражаться пешком, и потому почти не имеют ружей; но пара длинных пистолетов всегда за поясом, на котором висит также кривая персидская сабля, часто с булатным хоросанским или дамасским клинком. Круглый щит и несколько маленьких копий за седельным троком, ловко бросаемых из рук, дополняют их обычное вооружение. Прибавим, что порода куртинских лошадей, красивая и быстрая, настолько же ценится во всей северной Азии, насколько арабская – в южной, туркменская – в Персии.
Самый костюм курда чрезвычайно живописен: громадный головной тюрбан украшается перьями; красная куртка с откидными рукавами расшита золотом или шелками; талию охватывает широкая турецкая шаль самых ярких цветов, а шаровары у них ширины необъятной. Об этой последней оригинальной особенности курдского костюма можно сказать и теперь словами скифских послов Александру Македонскому: “Если бы боги благоволили даровать курду объем тела, равный его шароварам, то этого исполина не вместила бы вся Азия: один его карман коснулся бы Балкан, а другой – Арарата”.
Переговоры с курдами начались зимой, при посредстве пленных турецких пашей, и пошли настолько успешно, что мушский паша сам подослал в Тифлис армянина, обещая принять русскую сторону, если получит приличную пенсию и сохранит за собою достоинство паши. Паскевич отправил к нему капитана князя Вачнадзе, под видом армянского купца, чтобы условиться с ним на первый раз о найме двенадцатитысячной конницы, которой обязывался выплачивать жалованья по десять тысяч червонцев в месяц. “Я не требую от вас,– писал ему между прочим главнокомандующий,– чтобы ваши действия обнаружились прежде, нежели мы выступим в поле и будем у подошвы Саганлуга; но тогда вы уже должны держаться поблизости и напасть на турок, как скоро они опрокинуты будут к Арзеруму, а потом составить ваш левый фланг при движении к Сивазу и Токату”.
С большими опасностями и затруднениями удалось князю Вачнадзе пробраться сквозь ряд куртинских кочевий и доехать до Муша. Там он добился тайного свидания с пашой. Но паша объявил, что никогда не имел никаких замыслов против блистательной Порты и что тотчас же прикажет отправить Вачнадзе в Арзерум, как шпиона. Опытный в делах подобного рода, Вачнадзе отлично понимал, что паша должен был говорить именно так, чтобы очистить себя, по крайней мере перед своей собственной совестью, и потому отвечал, не смущаясь, что паша волен во всем, но что ему, князю Вачнадзе, не так дорога собственная жизнь, как дорого благоденствие его высокостепенства. Тогда турецкий сановник перешел прямо к размеру вознаграждения. Они условились, и Вачнадзе получил секретное дозволение войти в сношение с курдским населением.
Во главе курдских вождей стоял в то время Сулейман-ага, родоначальник племени Сипки, человек весьма замечательный и пользовавшийся огромной славой, наследственно переходившей в его роде. Геройскими подвигами, сохранявшимися тогда в рассказах, был знаменит его отец Аудал-ага; но эта известность меркла перед славой его сына, Сулеймана, ставшего живой легендой по всему персидскому и турецкому Курдистану. Ван, Тавриз, Баязет, Эривань и Арзерум были свидетелями набегов этого прославленного молвой наездника. И, действительно, тысячи партизанских подвигов, совершенных Сулейманом, носят на себе отпечаток больших дарований, оригинального природного ума и безумной отваги. Небезынтересно ознакомиться с этим курдским вождем по некоторым выдающимся его действиям.
Однажды, например, он только с двумя сотнями курдов наголову разбил пятнадцатитысячный турецкий корпус. Об этом невероятном событии впоследствии рассказывал сам начальник турецких войск Джафар-хан-Егойский, едва успевший спастись тогда с небольшой свитой. По его словам, когда турецкий корпус ночевал в одном из ущелий на северо-восточном склоне большого Арарата, Сулейман, воспользовавшись непроглядной темнотой ночи, загородил завалами все выходы из ущелья, и затем, внезапно ворвавшись в турецкий стан, произвел в нем общее смятение. Тогда под влиянием паники турецкие солдаты с ожесточением стали рубить и колоть друг друга, а курды, благополучно выбравшись из этой сумятицы, засели в завалах и спокойно поражали обезумевшую толпу своими выстрелами.
В другой раз, когда Сулейман жил еще в Эриванском ханстве, между ним и известным предводителем одного татарского племени, Саман-ханом, возникла ссора, и гордый татарин назвал Сулеймана курдским ослом. “Пусть голову мою накроют платком моей жены, если я прощу тебе эти слова”,– сказал Сулейман и через несколько дней откочевал в турецкую землю.
Известие об этом побеге сильно встревожило Эриванского хана. “Старый волк не забудет обиды и придет сюда рано или поздно”,– сказал он Саману, поручая ему полуторатысячный конный отряд для охраны границы.
Но о старом волке несколько месяцев не было никакого известия; когда же внимание Самана достаточно утомилось, Сулейман с пятьюстами курдов вдруг нагрянул на пограничный отряд – и Саман-хан за обиду расплатился жизнью. Рассказывают, что, преследуемый неотступно от самой границы, хан скрылся в какой-то бедной деревушке, которая, казалось, не могла привлечь к себе алчности курдов. Но курды обшарили даже все подпольные норки, и один езид, найдя Саман-хана, спрятавшегося в печке, отрубил ему голову. Сулейман долго катал ее по земле и наконец отправил к Эриванскому хану, приказав сказать ему: “Вот как курдский осел наказывает ослов персидских”.
Гибель Саман-хана, одного из сильнейших татарских владельцев, произвела в Эриванском ханстве такую панику, что никто и не подумал преследовать курдов.
Отличительной чертой характера Сулеймана была справедливость везде и во всем. Он прежде всего был воин, высоко ценил в своих подчиненных храбрость и мужество, и презирал алчность, которую всячески старался искоренять в своих партиях. Однажды, после сражения, молодой курд нашел два пистолета и саблю, оправленные в золото и драгоценные каменья. Кому принадлежало это сокровище, было неизвестно, и курд хотел предложить его в дар Сулейману. Но драгоценная добыча эта была отнята у него по праву сильного другим старым курдом, которым руководило только чувство презренной корысти. Узнав об этом, Сулейман собрал свою партию. Он приказал отобрать оружие у старика и, сам передавая его юноше, сказал своим воинам: “Не золота и не драгоценностей, а храбрости и мужества требую я в дар от своих подчиненных. Если бы я принял драгоценный подарок, то этим отнял бы собственность у храброго юноши и потерял бы его для себя как воина. Пусть драгоценное оружие украсит того, кому оно принадлежит по праву войны, и я потребую от него еще больших подвигов”. В то же время он приказал выгнать старика со стыдом и срамом за пределы, своего племени.
Случалось, что и Сулейман попадал в большую опасность, но тогда, если не собственная сила, то изворотливый ум помогал ему избегать несчастья. Однажды Сулейман, наткнувшись на засаду, был разбит и, окруженный сотней всадников, должен был прокладывать себе дорогу оружием. В первый раз герою приходилось бежать. Но у турок были добрые кони, и один молодой арнаут, гнавшийся за ним почти по пятам, уже настигал его… Тогда Сулейман, срывая золотые бляхи, которыми была унизана его одежда, стал бросать их на землю. Золото спасло ему жизнь. Опасаясь, что все это богатство ни за что ни про что достанется задним туркам, арнаут соскочил с коня и упустил еще более драгоценную добычу – возможность схватить знаменитого предводителя курдов. В Курдистане даже не хотели верить поражению Сулеймана, но он сам рассказывал об этом, считая недостойным себя скрывать неудачи, также как и хвастаться своими победами.
Теперь уже нет у курдов таких людей, каким был знаменитый Сулейман-ага. Участники последней кампании говорят, что народ приметно потерял свой воинственный дух и что современному курду уже все равно – будут ли плакать, или пировать над его могилой, смотря по тому, окончит ли он свой жизненный путь под домашним кровом или на ратном поле. Народный обычай этот поддерживается еще и поныне, но поддерживается уже в силу только одной стародавней привычки.
С этим-то Сулейман-агой Вачнадзе вошел в секретные переговоры, и когда ему удалось переманить его на русскую сторону, между курдами почти всех племен обнаружилось движение в пользу союза с Россией. Даже из отдаленного Диарбекира начальник племени езидов, некто Мирза-ага, прислал в то время Паскевичу следующее оригинальное послание: “Извещаю тебя незнакомый, но заочно любезный Паскевич, моя подпора и слава, что я езид, и хотя имею небольшое число народа, но в глазах турок считаюсь большим, и с помощью Божией сто человек моих курдов могут бить триста человек турок. Поэтому народ турецкий считает меня врагом своим. Я имею одну голову – и ту буду жертвовать за тебя, а со мной и весь народ мой также”.
Переговоры, таким образом, начались, и Паскевич, испросив у государя сто тысяч червонцев на предмет подобных сношений, не щадил ничего, чтобы привлечь на свою сторону турецких сановников и курдских вождей. Но одновременно с этим, чтобы не ставить себя исключительно уже в зависимость только от одной чужеземной силы, главнокомандующий решился обратиться и к другим источникам, более близким к нему,– к средствам земского народного ополчения. Средство это было, впрочем, ресурсом далеко не надежным, и старожилы Кавказа пророчили ему полную неудачу.
Нужно сказать, что мусульманские провинции при ханском управлении имели особый класс людей, моафов, освобожденных от податей, но обязанных нести повинности военной службы; к ним, по призыву ханов, присоединялись беки со своими подвластными и, таким образом, формировалась довольно значительная земская сила. Но войны в то время состояли или в разбойничьих набегах, или в отражении разбоев, а потому, как в том, так и в другом случае, жители охотно становились под знамена своих повелителей, ибо походы продолжались не долго, завоевания не простирались далеко и земское войско не отвлекалось от своих хозяйственных занятий. К этому нужно прибавить, что привилегия моафства, избавлявшая от податей, ценилась высоко в крае, что наступательная война каждому представляла случай нажиться и вернуться домой с полными вьюками награбленной добычи, и что, наконец, помимо всего этого, ханы нередко дарили поступавшим в милицию деревни, земли, мельницы, оросительные каналы, сады или предоставляли в их пользу различные сборы. На этих условиях не трудно было набирать охотников, и во всех трех ханствах всегда имелось наготове не менее двенадцати тысяч всадников.
Никаких подобных приманок не представлял поход в Турцию с войсками Паскевича. Обычай европейской войны, отводивший значительное место гуманности по отношению к жителям, не дозволял поощрять ни грабежа, ни насилия; моафы не могли также рассчитывать ни на земли, ни на сады, ни на другие благостыни – и набор милиционеров, не поощряемых никакими выгодами, казалось бы должен был встретиться с большими затруднениями. Но Паскевич думал об этом иначе. Еще в кампанию 1828 году ему удалось собрать ополчение, хотя немногочисленное, но служившее весьма усердно,– и он осыпал его наградами; честолюбие и гордость мусульман польщены были этим настолько, что когда, в начале 1829 года, Паскевич обнародовал прокламацию о созыве конных татарских полков, мусульмане наперерыв просили позволения записаться в них, стремясь раздобыть не добычу, на которую уже не рассчитывали, а блестящие успехи и славу русского оружия. Соревнованию этому поддались даже джаро-белоканские лезгины, вызвавшиеся добровольно поставить под русские знамена отборных всадников. Воодушевление охватило и Грузию. Предводитель дворянства генерал-майор князь Багратион-Мухранский и генерал-лейтенант князь Эристов, один из значительнейших помещиков Грузии, явились к Паскевичу с заявлением от лица дворян, что Грузии будет прискорбно, если в войне против турок примут участие одни мусульмане, и просили дозволения собрать грузинскую милицию, обещая выставить в поле до двадцати тысяч ратников. Паскевич поблагодарил князей, но отклонил до времени их предложение. Он приказал собрать только четыре конно-мусульманские полка, в составе шести сотен каждый, усилить число сарбазов в Нахичеванском и Эриванском полубатальонах, сформировать в Нахичевани конницу Кенгерлы[12 - Кенгерлы – одно из самых воинственных татарских племен, обитавших в Нахичеваньской области.], а в Баязетском пашалыке – пешее ополчение армян и конный полк из тамошних курдов.
На этих значительных ресурсах, которые, так или иначе, могли возместить ему малочисленность действующего корпуса, Паскевич и основал главным образом план своих будущих действий. Он предполагал с началом ранней весны, не ожидая уже прибытия рекрутов, открыть наступление на Арзерум с двух сторон, от Карса и от Баязета; а, между тем, поднять весь Курдистан, и, одновременно с движением войск, бросить всю многочисленную куртинскую конницу по дороге в Сиваз, чтобы стать на единственном сообщении Константинополя с торговыми и многолюдными городами Диарбекиром и Багдадом.
По взятии Арзерума войска должны были оставаться там довольно продолжительное время, пока подойдут рекруты и соберутся значительные запасы продовольствия. Тогда Паскевич предполагал идти через Сиваз и Токат к Самсунскому порту (близ Синопа) и оттуда, открыв сообщение с черноморским флотом, угрожал Скутари. Таким образом, вся азиатская Турция была бы разрезана надвое; и в то время, как курдам предоставлено было бы хозяйничать в левой половине этого раздела, флот должен был сделать сильную диверсию к стороне Трапезунда, чтобы удержать тамошних горцев от опасного движения на нашу операционную линию.
Поход на Трапезунд с главными силами Паскевич предполагал бесполезным. “Между Арзерумом и Трапезундом,– писал он государю,– лежат высокие горы, через которые идут только вьючные дороги. Орудия, доставляемые этим путем, перетаскиваются без лафетов на веревках, а потому провести туда осадную артиллерию нет надежды, а без нее нельзя овладеть городом, хорошо укрепленным и имеющим большой гарнизон из воинственных лазов”.
Паскевич не находил занятие Трапезунда важным даже в политическом отношении, в смысле возможности оказать давление на Турцию. Самое положение города, в стороне от главной караванной дороги, лишало его значения первостепенного пункта. От Трапезунда дальше по всему берегу Черного моря почти не было никакого сообщения; горные хребты оканчивались там во многих местах уже в воде отвесными утесами, а в других местах узкие тропы до того заросли вековыми лесами, что по ним с трудом проезжал одиночный всадник. Это и было причиной, почему караваны из Константинополя шли в Арзерум преимущественно сухим путем через Анатолию на Сиваз и Токат, приобретавшие, таким образом, значение гораздо большее, чем Трапезунд с его первоклассной гаванью. “Впрочем,– прибавляет Паскевич,– если бы политические обстоятельства, мне не известные, потребовали занятия Трапезунда, то лучше действовать с моря десантом, так как отряд, осаждающий Трапезунд с сухого пути, должен считать себя отрезанным от всех сообщений с Арзерумом, и, в случае неудачи, отступление ему будет уже невозможно; лазы, конечно, не преминут занять все горные проходы и заставят войска на каждом шагу пробиваться оружием”.
План этот отправлен был уже государю, когда в Тифлисе получили высочайший рескрипт с изъявлением воли императора, чтобы военные действия со стороны Кавказа имели более решительности. Это заставило Паскевича несколько изменить первоначальный план и представить новое предположение, в котором он почитал возможным, не останавливаясь в Арзеруме, тотчас идти на Сиваз, чтобы воспользоваться смятением неприятеля и не упустить благоприятной минуты. Но в то же время, в пояснение этого плана, Паскевич писал начальнику главного штаба, что всякое движение из Арзерума вперед будет возможно только в том случае, если курды примут русскую сторону, иначе необходимо было иметь за Кавказом еще от шести до восьми тысяч пехоты, которая ранней весной должна уже находиться на сборном пункте корпуса у подошвы Саганлуга. Дибич отвечал на это, что предположения Паскевича относительно общего плана кампании государь утвердил, но что касается новых подкреплений, то высочайше повелено ограничиться одними рекрутами.
Был уже на исходе февраль, повсюду шли приготовления к новой кампании,– как вдруг громовым ударом пронеслась по Грузии весть об истреблении в Тегеране русского посольства, моментально изменившая весь ход событий. Как грозный призрак встала перед Паскевичем возможность новой войны с персиянами. Весь мусульманский мир глухо заволновался. Но беда не приходит одна: почти в то же время пришло известие, что турки предприняли необычайный зимний поход и, перебравшись на лыжах через заваленные снегом горы, внезапно, среди глубокой зимы, осадили Ахалцихе. Это было сигналом к открытию военных действий в то время, как приготовления к ним со стороны России были далеко не окончены.
Наступило время, знаменательное историческими событиями.
XV. ЗИМНИЙ ПОХОД НА ВЫРУЧКУ АХАЛЦИХЕ
В то время как Паскевич, пользуясь перерывом в военных действиях, старался привлечь на свою сторону различные полудикие племена азиатской Турции, и между ними аджарцев, ближайших и самых воинственных соседей Ахалцихе, сераскир, со своей стороны, не щадил ни денег, ни ласк, ни обещаний, чтобы понудить так же аджарцев к немедленному открытию военных действий. Сераскир понимал хорошо, что если возможно отнять у русских Ахалцихе, то только зимой, когда малочисленный гарнизон крепости, отрезанный от Грузии высокими горами и глубоким снегом, не мог рассчитывать на скорую помощь, и в этих видах выхлопотал даже у султана фирман, в силу которого аджарский бек в самый день возвращения туркам славной твердыни, имел право наименовать себя пашой ахалцихским.
Но лукавый бек, ведя переговоры с Паскевичем, медлил принять предложение и, беря подарки с обеих сторон, ни к одной из них не” приставал открыто. Так проходили дни за днями, не принося с собой ничего нового. Январь уже был на исходе, зима приближалась к концу, и времени для зимнего похода турок оставалось немного. Тогда сераскир прибег к решительным мерам и, двинув турецкие войска из Арзерума, известил Ахмет-бека, что если он станет и теперь уклоняться или медлить походом, то ответит за это своей головой. Прижатый, что называется, к стене, Ахмет должен был наконец принять сторону турок. Он наскоро собрал пятнадцать тысяч аджарцев и, дождавшись прибытия вспомогательного турецкого отряда, двинулся к русским пределам. Необычайная энергия турок простерлась до того, что они перешли снеговые горы на лыжах и перетащили на руках шесть полевых орудий. 16 февраля неприятель уже вступал в селение Дигур, лежавшее на Посхов-Чае и на первый раз занялся грабежом армянских селений. Одна из его партий проникла даже на имеретинскую дорогу и там разбила купеческий караван, шедший из Ахалцихе. Паника охватила все население, и даже деревни ближайших санджаков, уклонявшиеся прежде от всякой солидарности с аджарцами, теперь принимали их сторону. К счастью, окрестности Хертвиса и Ахалкалак остались спокойными.
17 февраля войска Ахмет-бека подвинулись к Ахалцихе, а особый отряд, под предводительством Авди-бека, был выслан к Боржомскому ущелью, чтобы не допускать подкреплений из Грузии, а если будет возможно, то прорваться в Картли и распространить опустошение до стен Тифлиса. Все это облечено было, однако, в такую глубокую тайну, что начальник Ахалцихского пашалыка, князь Бебутов, получил первое известие о наступлении неприятеля только вечером 18 числа, когда аджарцы стояли уже в пятнадцати верстах от крепости в деревне Вале.
В Тифлисе тоже не знали ни о движении, ни о намерениях турок. Правда, там давно носились слухи, что сераскир к чему-то готовится, но этим слухам не придали вероятия даже тогда, когда стало известным, что Ахмет-бек открыто принял турецкую сторону. В Тифлисе до последнего момента были убеждены в невозможности военных действий зимой и думали, что все приготовления турок разрешатся каким-нибудь пустым разбойничьим набегом: аджарцы разорят две-три христианские деревни и уйдут домой, а Ахмет-бек, верный турецким традициям, донесет султану, что побил множество гяуров, но что за снегами и холодом нельзя было дойти до Тифлиса, иначе светлый гарем падишаха был бы укомплектован в изобилии красавица-гурджи. Поэтому известие об осаде Ахалцихе поразило всех своей неожиданностью, а вместе с тем и дало уразуметь серьезность и важность наступившей минуты. Если бы турки успели овладеть Ахалцихе, то все результаты блестящей кампании 1828 года были бы потеряны, и Паскевичу пришлось бы думать уже не о новых завоеваниях, а только о возвращении утраченных приобретений прошлого года,– то есть приходилось бы начинать войну сызнова.
Современники рассказывают, что первое известие об осаде Ахалцихе Паскевич получил от коменданта Хертвиссой крепости майора Педяша – человека, известного своей странной манерой писать так, что только немногие могли читать и понимать смысл его рапортов. Когда Паскевич сорвал печать с конверта, привезенного ему каким-то конным чапаром, он с изумлением остановился на первых строках этого рапорта. Педяш писал: “По приказанию вашего сиятельства (разумелось, конечно, общее распоряжение о доставлении экстренных сведений прямо в руки главнокомандующего) Ахалцихе турками взят”. Далее в неясных и запутанных фразах следовало длинное исчисление турецких войск и мер, принятых князем Бебутовым для обороны крепости. Положительная фраза: “Ахалцихе турками взят”,– поразила Паскевича, и он не стал читать дальше роковой бумаги, случайно попавшей в его руки прежде, чем она успела пройти через цензуру привычного докладчика.
Было за полночь. Во дворце все спало, и только Паскевич большими шагами ходил по кабинету, ожидая начальника штаба и обер-квартирмейстера корпуса, за которыми поскакал ординарец. Первым явился генерал Вальховский, и Паскевич встретил его восклицанием: “Ахлцихе взят турками!”
– Не может быть! – вырвалось у Вальховского.
– Вот рапорт Педяша,– крикнул Паскевич,– и скомканная бумага полетела из его рук на пол.
В это время вошел начальник штаба барон Остен-Сакен. Главнокомандующий повторил известие: “Все пропало – Ахалцихе взят!”
Вальховский, между тем, воспользовавшись этой минутой, поднял смятую бумагу и, пробегая ее глазами, увидел, что после слов “Ахалцихе взят” стоит запятая. Тогда, привычный к писаниям Педяша, он перевернул целую страницу, пропустил все вводные предложения, и, отыскав другую запятую, прочел слово: “в блокаду”. Дело разъяснилось: “Ахалцихе был взят… в блокаду”. Паскевич повеселел и даже, шутя, заметил: “А ведь Педяш-то доносит, что Ахмет-паша взял Ахалцихе по моему приказанию…”
О самом Педяше главнокомандующий остался наилучшего мнения. “Он написал глупо, а распорядился умно”,– сказал он начальнику штаба, намекая на то, что Педяш первый дал знать о блокаде Ахалцихе, несмотря на трудность сообщений, уже прерванных турками.
Собственно говоря, положение Ахалцихской крепости не могло внушать уже слишком больших опасений. Вооруженная наилучшим образом, снабженная достаточным продовольствием и охраняемая одним из храбрейших полков кавказского корпуса, крепость, без сомнения, могла выдержать самый отчаянный натиск неприятеля, но продолжительная осада могла сломить сопротивление даже и ширванцев.
Предприятие Ахмет-бека было опасно еще и в том отношении, что оно могло поколебать и даже вовсе разрушить приобретенное нами доверие жителей, которые безусловно уповали на защиту своих победителей, и теперь, в самую критическую минуту, предоставлены были своим собственным силам. Очевидно, нужны были быстрые, решительные меры, и полковнику Бурцеву, квартировавшему с Херсонским гренадерским полком в городе Гори, в тот же день послано было приказание, как можно поспешнее занять крепость Ацхур и, заслонив таким образом Грузию, вместе с тем обеспечить проход через Боржомское ущелье другому, более сильному отряду, который, под начальством Муравьева, формировался из пяти батальонов пехоты при тринадцати орудиях, чтобы идти на помощь к Ахалцихе.
Поставленный в столь трудное положение, Паскевич должен был обратиться к изысканию местных средств, чтобы хоть сколько-нибудь уравновесить свои силы с силами противника. Можно бы было, пожалуй, воспользоваться добрым расположением Персии и вовлечь ее в войну против турок, тем более, что Аббаса-Мирза сам просил позволения открыть военные действия, и писал, что жители Багдада, обещают ему сдать и город и область. Предложение это на первый раз казалось не безвыгодным, однако же при более внимательном обсуждении дела нельзя было не прийти к заключению, что вмешательство Персии может замедлить заключение мира, так как Россия, сверх достижения своих собственных целей, будет поставлена в необходимость еще вести переговоры о выгодах своей союзницы. С этим можно было помириться только в том случае, если бы Персия могла оказать существенную помощь; но она была в таком положении, что сама просила у России помощи и деньгами и артиллерии. Паскевич благодарил Аббас-Мирзу за предложение, но отклонил его содействие под тем предлогом, что Персия после тяжкой для нее войны нуждается в покое.
Расчеты Паскевича устремились в другую сторону. С самого начала зимы он энергично повел переговоры, стараясь привлечь на сторону России – на левом фланге курдов, а на правом – аджарцев. Владетелю Аджарии, Ахмет-беку, предлагали за подданство генеральский чин, орденскую ленту и десять тысяч пенсии. Предложение было заманчиво, и старый бек колебался.
Сношения на левом фланге с курдами, занимавшими обширную территорию, и уже поэтому располагавшими полной возможностью оказать непосредственное влияние на дальнейший ход кампании в глубине Анатолии,– имели еще большее значение. Переход на русскую сторону курдов не только открывал свободный путь к Арзеруму со стороны Баязета, но лишал неприятеля лучшей его конницы, которая разлившись бурным потоком от стен Баязета, Вана и Муша до самых берегов Черного моря, могла поставить самого сераскира в безвыходное положение. И расчеты Паскевича имели основание в самом складе жизни и характере курдов, и в тех отношениях, которые сложились между ними и Турцией.
О происхождении курдов существует целая литература, но еще никто не сказал о них последнего слова, и их загадочное происхождение по-прежнему тонет в глубине времен доисторических. Несомненно одно, что курды представляют собой любопытный остаток древнейшего народа на востоке, и, вероятно, индо-германского корня; в языке их, жестком и трескучем, есть действительно много санскритского, и их колоссальный рост и сложение не могут принадлежать позднейшим, измельчавшим народностям Востока. В поэме Фердоуси “Шах-Наме” рассказывается следующий миф о происхождении этого народа.
“В глубокой древности,– говорит эта легенда,– жил некий царь Азгхи-Дахак (“Змий-губитель”), жестокость которого повергала все соседние страны в ужасные бедствия. По злобе демонов из плеч царя рождены были два змия, составлявшие нераздельную часть его тела и питавшиеся только человеческим мозгом. Для утоления их голода каждый день два человека обрекались им в жертву, но ловкий повар царя умел спасать ежедневно одного из этих несчастных и отправлял его в горы, чтобы никто не мог проведать о его существовании. Вот из этих-то спасенных, но одичавших людей и составилось впоследствии загадочное племя курдов”.
Во время Паскевича народ этот занимал то же гористое пространство между хребтом Агри-Дагом и песчаными равнинами Тигра и Евфрата, которое занимают ныне, и где можно видеть еще и теперь огромные, черные шатры Кидара, которым уподобляет себя возлюбленная Соломона в его песнях: “Я черна, но красива, как шатры Кидарские”. Благодаря вот этим-то переносным жилищам, курды поныне ведут полукочевую жизнь и занимаются только скотоводством. Один европейский путешественник, посетивший Восток, полагает, что число овец, пригоняемых курдами на продажу только в один Константинополь, простирается ежегодно до полутора миллионов голов и что на совершение этого пути они употребляют около полутора лет.
Разделенные с незапамятных времен на многие отдельные роды, из которых каждый управляется своим родоначальником, с титулом шейха или эмира, они в течение целых тысячелетий не изменяли ни своих обычаев, ни языка, ни национальной одежды, ни образа жизни. Трудно в настоящее время найти между народами всего земного шара столь патриархальную жизнь со всеми ее добродетелями и недостатками, как окаменевшую в своих определенных формах жизнь курда, для которого ни один закон не имеет такого значения и силы, как древний родовой обычай.
В самой религии курдов, несмотря на то, что большая часть их принадлежит к магометанскому исповеданию, сохранилось столько предрассудков от древних верований Азии, что сами мусульмане едва удостаивают их названием своих единоверцев. Множество несторианцев, армян, халдеев, равно как и мусульман, принадлежавших к нетерпимым сектам, находили во время оно убежище у курдов и, забытые своими земляками, мало-помалу забывали свою религию. Из этих сект особенного внимания заслуживают езиды – когда-то несторианцы, а потом начавшие поклоняться всему, не исключая дьявола. Впрочем, сами езиды отвергают последнее, говоря, что поклонение их сатане – пустая басня, но что по их законам сатану нельзя проклинать, так как он со временем может быть прощен, ибо никто не может положить предела милосердию Аллаха. Несмотря на это объяснение, езидов равно презирают и христиане и магометане; первые никак не могут примириться с их взглядом на виновника падения человеческого рода, а вторые не прощают им более житейской слабости – пристрастия к спиртным напиткам. Между тем езиды – самые честные и миролюбивые люди, из всех куртинских племен; зато остальные – поголовные разбойники.
Вековой беспорядок, господствовавший в сопредельных им государствах, в Турции и Персии, доставлял им легкое средство жить грабежом и поддерживал хищные наклонности народа. Самое название “курд” значит по-турецки “волк”, и они оправдывали его, будучи готовы грабить и резать все, что попадет им под руку.
Занятие русскими Баязета поставило курдов в зависимость уже от трех государств; русская опека присоединилась к опекам персидской и турецкой. Последней принадлежала, впрочем, львиная часть – большой Курдистан, где путешественники насчитывают до полумиллиона куртинских семейств. Северный Курдистан входит в состав пашалыков Ванского и Баязетского, западный – в Мушский и Арзерумский, южный – в Моссульский и Диабекирский. Восточной частью Курдистана владели уже персияне; и надо сказать, что политика, которой держалось это государство по отношению к курдам, упрочивала его владычество над ними гораздо более, чем политика Порты. Персидский двор старался предоставить одному из сильнейших и более благонадежных шейхов звание курдистанского валия и затем помогал ему деньгами и оружием распространять свое могущество и власть над остальными родоначальниками. Ничего подобного не делала Порта. Напротив, турецкое правительство пользовалось именно отсутствием централизации и единства власти у курдов и сеяло между ними раздоры, чтобы легче справляться с ними. Из этой системы выходило, однако, то, что курды, враждовавшие между собою, нередко переносили свою вражду на самую Турцию, а Турция не имела под рукой ни одного влиятельного человека, на которого могла бы опереться в случае надобности. А между тем, казалось, что Турция-то и должна была иметь в этом народе солидный ресурс своим вооруженным силам. Если бы каждое курганское семейство выставило только по одному вооруженному всаднику, то образовалась бы полумиллионная легкая, неутомимая конница. Но курды были настолько враждебны турецкому правительству, что оно не могло и думать о привлечении их к правильной военной повинности; ему приходилось довольствоваться тем, что давали сами курды, и более решительных мер принять было нельзя, потому что курды народ беспокойный, легко поднимающий оружие. К тому же, в крайнем случае, они имели возможность всегда перекочевать в соседнее государство, особенно в Персию, где им было удобнее, нежели у нас, так как в пограничной полосе русских владений было мало земель, да и русские порядки были строже персидских. Таким образом, курды сохраняли только номинальную зависимость от Турции, которая в экстренных обстоятельствах, например, во время войны, вынуждена была давать им разные льготы, и только этим приобретать в них союзников весьма сомнительной верности.
А между тем курды недаром имеют репутацию отличной конницы. Правда, они не стойки, и самая храбрость их не есть выражение постоянного, холодного мужества, она – скорее порыв, вдохновение; но тот, кто видел, как целые сотни их ложатся под самыми жерлами пушек и умирают на штыках пехоты,– выносил о курдах хорошее впечатление. В русском корпусе о них сложилось двоякое мнение: одни относились к ним даже с большим уважением, чем они того заслуживали, другие величали их трусами. Разумеется, оба мнения несправедливы, потому что курды дерутся и хорошо, и дурно, смотря по тому, что приводит их к бою: жажда ли одной добычи, сила ли и принуждение непопулярного у них правительства, собственный ли энтузиазм, вызванный защитой родных очагов, или просто желанием показать свою молодецкую удаль.
Оружие у курдов приспособлено преимущественно к рукопашному бою; в особенности хороша их длинная, гибкая камышовая пика, которой они владеют в совершенстве. Когда курд несется на врага, он держит пику за середину и, потрясая ее, заставляет изгибаться дротик так быстро, что глаз не может уследить за направлением лезвия – и удар этот трудно отпарировать саблей. Природные наездники, курды не любят сражаться пешком, и потому почти не имеют ружей; но пара длинных пистолетов всегда за поясом, на котором висит также кривая персидская сабля, часто с булатным хоросанским или дамасским клинком. Круглый щит и несколько маленьких копий за седельным троком, ловко бросаемых из рук, дополняют их обычное вооружение. Прибавим, что порода куртинских лошадей, красивая и быстрая, настолько же ценится во всей северной Азии, насколько арабская – в южной, туркменская – в Персии.
Самый костюм курда чрезвычайно живописен: громадный головной тюрбан украшается перьями; красная куртка с откидными рукавами расшита золотом или шелками; талию охватывает широкая турецкая шаль самых ярких цветов, а шаровары у них ширины необъятной. Об этой последней оригинальной особенности курдского костюма можно сказать и теперь словами скифских послов Александру Македонскому: “Если бы боги благоволили даровать курду объем тела, равный его шароварам, то этого исполина не вместила бы вся Азия: один его карман коснулся бы Балкан, а другой – Арарата”.
Переговоры с курдами начались зимой, при посредстве пленных турецких пашей, и пошли настолько успешно, что мушский паша сам подослал в Тифлис армянина, обещая принять русскую сторону, если получит приличную пенсию и сохранит за собою достоинство паши. Паскевич отправил к нему капитана князя Вачнадзе, под видом армянского купца, чтобы условиться с ним на первый раз о найме двенадцатитысячной конницы, которой обязывался выплачивать жалованья по десять тысяч червонцев в месяц. “Я не требую от вас,– писал ему между прочим главнокомандующий,– чтобы ваши действия обнаружились прежде, нежели мы выступим в поле и будем у подошвы Саганлуга; но тогда вы уже должны держаться поблизости и напасть на турок, как скоро они опрокинуты будут к Арзеруму, а потом составить ваш левый фланг при движении к Сивазу и Токату”.
С большими опасностями и затруднениями удалось князю Вачнадзе пробраться сквозь ряд куртинских кочевий и доехать до Муша. Там он добился тайного свидания с пашой. Но паша объявил, что никогда не имел никаких замыслов против блистательной Порты и что тотчас же прикажет отправить Вачнадзе в Арзерум, как шпиона. Опытный в делах подобного рода, Вачнадзе отлично понимал, что паша должен был говорить именно так, чтобы очистить себя, по крайней мере перед своей собственной совестью, и потому отвечал, не смущаясь, что паша волен во всем, но что ему, князю Вачнадзе, не так дорога собственная жизнь, как дорого благоденствие его высокостепенства. Тогда турецкий сановник перешел прямо к размеру вознаграждения. Они условились, и Вачнадзе получил секретное дозволение войти в сношение с курдским населением.
Во главе курдских вождей стоял в то время Сулейман-ага, родоначальник племени Сипки, человек весьма замечательный и пользовавшийся огромной славой, наследственно переходившей в его роде. Геройскими подвигами, сохранявшимися тогда в рассказах, был знаменит его отец Аудал-ага; но эта известность меркла перед славой его сына, Сулеймана, ставшего живой легендой по всему персидскому и турецкому Курдистану. Ван, Тавриз, Баязет, Эривань и Арзерум были свидетелями набегов этого прославленного молвой наездника. И, действительно, тысячи партизанских подвигов, совершенных Сулейманом, носят на себе отпечаток больших дарований, оригинального природного ума и безумной отваги. Небезынтересно ознакомиться с этим курдским вождем по некоторым выдающимся его действиям.
Однажды, например, он только с двумя сотнями курдов наголову разбил пятнадцатитысячный турецкий корпус. Об этом невероятном событии впоследствии рассказывал сам начальник турецких войск Джафар-хан-Егойский, едва успевший спастись тогда с небольшой свитой. По его словам, когда турецкий корпус ночевал в одном из ущелий на северо-восточном склоне большого Арарата, Сулейман, воспользовавшись непроглядной темнотой ночи, загородил завалами все выходы из ущелья, и затем, внезапно ворвавшись в турецкий стан, произвел в нем общее смятение. Тогда под влиянием паники турецкие солдаты с ожесточением стали рубить и колоть друг друга, а курды, благополучно выбравшись из этой сумятицы, засели в завалах и спокойно поражали обезумевшую толпу своими выстрелами.
В другой раз, когда Сулейман жил еще в Эриванском ханстве, между ним и известным предводителем одного татарского племени, Саман-ханом, возникла ссора, и гордый татарин назвал Сулеймана курдским ослом. “Пусть голову мою накроют платком моей жены, если я прощу тебе эти слова”,– сказал Сулейман и через несколько дней откочевал в турецкую землю.
Известие об этом побеге сильно встревожило Эриванского хана. “Старый волк не забудет обиды и придет сюда рано или поздно”,– сказал он Саману, поручая ему полуторатысячный конный отряд для охраны границы.
Но о старом волке несколько месяцев не было никакого известия; когда же внимание Самана достаточно утомилось, Сулейман с пятьюстами курдов вдруг нагрянул на пограничный отряд – и Саман-хан за обиду расплатился жизнью. Рассказывают, что, преследуемый неотступно от самой границы, хан скрылся в какой-то бедной деревушке, которая, казалось, не могла привлечь к себе алчности курдов. Но курды обшарили даже все подпольные норки, и один езид, найдя Саман-хана, спрятавшегося в печке, отрубил ему голову. Сулейман долго катал ее по земле и наконец отправил к Эриванскому хану, приказав сказать ему: “Вот как курдский осел наказывает ослов персидских”.
Гибель Саман-хана, одного из сильнейших татарских владельцев, произвела в Эриванском ханстве такую панику, что никто и не подумал преследовать курдов.
Отличительной чертой характера Сулеймана была справедливость везде и во всем. Он прежде всего был воин, высоко ценил в своих подчиненных храбрость и мужество, и презирал алчность, которую всячески старался искоренять в своих партиях. Однажды, после сражения, молодой курд нашел два пистолета и саблю, оправленные в золото и драгоценные каменья. Кому принадлежало это сокровище, было неизвестно, и курд хотел предложить его в дар Сулейману. Но драгоценная добыча эта была отнята у него по праву сильного другим старым курдом, которым руководило только чувство презренной корысти. Узнав об этом, Сулейман собрал свою партию. Он приказал отобрать оружие у старика и, сам передавая его юноше, сказал своим воинам: “Не золота и не драгоценностей, а храбрости и мужества требую я в дар от своих подчиненных. Если бы я принял драгоценный подарок, то этим отнял бы собственность у храброго юноши и потерял бы его для себя как воина. Пусть драгоценное оружие украсит того, кому оно принадлежит по праву войны, и я потребую от него еще больших подвигов”. В то же время он приказал выгнать старика со стыдом и срамом за пределы, своего племени.
Случалось, что и Сулейман попадал в большую опасность, но тогда, если не собственная сила, то изворотливый ум помогал ему избегать несчастья. Однажды Сулейман, наткнувшись на засаду, был разбит и, окруженный сотней всадников, должен был прокладывать себе дорогу оружием. В первый раз герою приходилось бежать. Но у турок были добрые кони, и один молодой арнаут, гнавшийся за ним почти по пятам, уже настигал его… Тогда Сулейман, срывая золотые бляхи, которыми была унизана его одежда, стал бросать их на землю. Золото спасло ему жизнь. Опасаясь, что все это богатство ни за что ни про что достанется задним туркам, арнаут соскочил с коня и упустил еще более драгоценную добычу – возможность схватить знаменитого предводителя курдов. В Курдистане даже не хотели верить поражению Сулеймана, но он сам рассказывал об этом, считая недостойным себя скрывать неудачи, также как и хвастаться своими победами.
Теперь уже нет у курдов таких людей, каким был знаменитый Сулейман-ага. Участники последней кампании говорят, что народ приметно потерял свой воинственный дух и что современному курду уже все равно – будут ли плакать, или пировать над его могилой, смотря по тому, окончит ли он свой жизненный путь под домашним кровом или на ратном поле. Народный обычай этот поддерживается еще и поныне, но поддерживается уже в силу только одной стародавней привычки.
С этим-то Сулейман-агой Вачнадзе вошел в секретные переговоры, и когда ему удалось переманить его на русскую сторону, между курдами почти всех племен обнаружилось движение в пользу союза с Россией. Даже из отдаленного Диарбекира начальник племени езидов, некто Мирза-ага, прислал в то время Паскевичу следующее оригинальное послание: “Извещаю тебя незнакомый, но заочно любезный Паскевич, моя подпора и слава, что я езид, и хотя имею небольшое число народа, но в глазах турок считаюсь большим, и с помощью Божией сто человек моих курдов могут бить триста человек турок. Поэтому народ турецкий считает меня врагом своим. Я имею одну голову – и ту буду жертвовать за тебя, а со мной и весь народ мой также”.
Переговоры, таким образом, начались, и Паскевич, испросив у государя сто тысяч червонцев на предмет подобных сношений, не щадил ничего, чтобы привлечь на свою сторону турецких сановников и курдских вождей. Но одновременно с этим, чтобы не ставить себя исключительно уже в зависимость только от одной чужеземной силы, главнокомандующий решился обратиться и к другим источникам, более близким к нему,– к средствам земского народного ополчения. Средство это было, впрочем, ресурсом далеко не надежным, и старожилы Кавказа пророчили ему полную неудачу.
Нужно сказать, что мусульманские провинции при ханском управлении имели особый класс людей, моафов, освобожденных от податей, но обязанных нести повинности военной службы; к ним, по призыву ханов, присоединялись беки со своими подвластными и, таким образом, формировалась довольно значительная земская сила. Но войны в то время состояли или в разбойничьих набегах, или в отражении разбоев, а потому, как в том, так и в другом случае, жители охотно становились под знамена своих повелителей, ибо походы продолжались не долго, завоевания не простирались далеко и земское войско не отвлекалось от своих хозяйственных занятий. К этому нужно прибавить, что привилегия моафства, избавлявшая от податей, ценилась высоко в крае, что наступательная война каждому представляла случай нажиться и вернуться домой с полными вьюками награбленной добычи, и что, наконец, помимо всего этого, ханы нередко дарили поступавшим в милицию деревни, земли, мельницы, оросительные каналы, сады или предоставляли в их пользу различные сборы. На этих условиях не трудно было набирать охотников, и во всех трех ханствах всегда имелось наготове не менее двенадцати тысяч всадников.
Никаких подобных приманок не представлял поход в Турцию с войсками Паскевича. Обычай европейской войны, отводивший значительное место гуманности по отношению к жителям, не дозволял поощрять ни грабежа, ни насилия; моафы не могли также рассчитывать ни на земли, ни на сады, ни на другие благостыни – и набор милиционеров, не поощряемых никакими выгодами, казалось бы должен был встретиться с большими затруднениями. Но Паскевич думал об этом иначе. Еще в кампанию 1828 году ему удалось собрать ополчение, хотя немногочисленное, но служившее весьма усердно,– и он осыпал его наградами; честолюбие и гордость мусульман польщены были этим настолько, что когда, в начале 1829 года, Паскевич обнародовал прокламацию о созыве конных татарских полков, мусульмане наперерыв просили позволения записаться в них, стремясь раздобыть не добычу, на которую уже не рассчитывали, а блестящие успехи и славу русского оружия. Соревнованию этому поддались даже джаро-белоканские лезгины, вызвавшиеся добровольно поставить под русские знамена отборных всадников. Воодушевление охватило и Грузию. Предводитель дворянства генерал-майор князь Багратион-Мухранский и генерал-лейтенант князь Эристов, один из значительнейших помещиков Грузии, явились к Паскевичу с заявлением от лица дворян, что Грузии будет прискорбно, если в войне против турок примут участие одни мусульмане, и просили дозволения собрать грузинскую милицию, обещая выставить в поле до двадцати тысяч ратников. Паскевич поблагодарил князей, но отклонил до времени их предложение. Он приказал собрать только четыре конно-мусульманские полка, в составе шести сотен каждый, усилить число сарбазов в Нахичеванском и Эриванском полубатальонах, сформировать в Нахичевани конницу Кенгерлы[12 - Кенгерлы – одно из самых воинственных татарских племен, обитавших в Нахичеваньской области.], а в Баязетском пашалыке – пешее ополчение армян и конный полк из тамошних курдов.
На этих значительных ресурсах, которые, так или иначе, могли возместить ему малочисленность действующего корпуса, Паскевич и основал главным образом план своих будущих действий. Он предполагал с началом ранней весны, не ожидая уже прибытия рекрутов, открыть наступление на Арзерум с двух сторон, от Карса и от Баязета; а, между тем, поднять весь Курдистан, и, одновременно с движением войск, бросить всю многочисленную куртинскую конницу по дороге в Сиваз, чтобы стать на единственном сообщении Константинополя с торговыми и многолюдными городами Диарбекиром и Багдадом.
По взятии Арзерума войска должны были оставаться там довольно продолжительное время, пока подойдут рекруты и соберутся значительные запасы продовольствия. Тогда Паскевич предполагал идти через Сиваз и Токат к Самсунскому порту (близ Синопа) и оттуда, открыв сообщение с черноморским флотом, угрожал Скутари. Таким образом, вся азиатская Турция была бы разрезана надвое; и в то время, как курдам предоставлено было бы хозяйничать в левой половине этого раздела, флот должен был сделать сильную диверсию к стороне Трапезунда, чтобы удержать тамошних горцев от опасного движения на нашу операционную линию.
Поход на Трапезунд с главными силами Паскевич предполагал бесполезным. “Между Арзерумом и Трапезундом,– писал он государю,– лежат высокие горы, через которые идут только вьючные дороги. Орудия, доставляемые этим путем, перетаскиваются без лафетов на веревках, а потому провести туда осадную артиллерию нет надежды, а без нее нельзя овладеть городом, хорошо укрепленным и имеющим большой гарнизон из воинственных лазов”.
Паскевич не находил занятие Трапезунда важным даже в политическом отношении, в смысле возможности оказать давление на Турцию. Самое положение города, в стороне от главной караванной дороги, лишало его значения первостепенного пункта. От Трапезунда дальше по всему берегу Черного моря почти не было никакого сообщения; горные хребты оканчивались там во многих местах уже в воде отвесными утесами, а в других местах узкие тропы до того заросли вековыми лесами, что по ним с трудом проезжал одиночный всадник. Это и было причиной, почему караваны из Константинополя шли в Арзерум преимущественно сухим путем через Анатолию на Сиваз и Токат, приобретавшие, таким образом, значение гораздо большее, чем Трапезунд с его первоклассной гаванью. “Впрочем,– прибавляет Паскевич,– если бы политические обстоятельства, мне не известные, потребовали занятия Трапезунда, то лучше действовать с моря десантом, так как отряд, осаждающий Трапезунд с сухого пути, должен считать себя отрезанным от всех сообщений с Арзерумом, и, в случае неудачи, отступление ему будет уже невозможно; лазы, конечно, не преминут занять все горные проходы и заставят войска на каждом шагу пробиваться оружием”.
План этот отправлен был уже государю, когда в Тифлисе получили высочайший рескрипт с изъявлением воли императора, чтобы военные действия со стороны Кавказа имели более решительности. Это заставило Паскевича несколько изменить первоначальный план и представить новое предположение, в котором он почитал возможным, не останавливаясь в Арзеруме, тотчас идти на Сиваз, чтобы воспользоваться смятением неприятеля и не упустить благоприятной минуты. Но в то же время, в пояснение этого плана, Паскевич писал начальнику главного штаба, что всякое движение из Арзерума вперед будет возможно только в том случае, если курды примут русскую сторону, иначе необходимо было иметь за Кавказом еще от шести до восьми тысяч пехоты, которая ранней весной должна уже находиться на сборном пункте корпуса у подошвы Саганлуга. Дибич отвечал на это, что предположения Паскевича относительно общего плана кампании государь утвердил, но что касается новых подкреплений, то высочайше повелено ограничиться одними рекрутами.
Был уже на исходе февраль, повсюду шли приготовления к новой кампании,– как вдруг громовым ударом пронеслась по Грузии весть об истреблении в Тегеране русского посольства, моментально изменившая весь ход событий. Как грозный призрак встала перед Паскевичем возможность новой войны с персиянами. Весь мусульманский мир глухо заволновался. Но беда не приходит одна: почти в то же время пришло известие, что турки предприняли необычайный зимний поход и, перебравшись на лыжах через заваленные снегом горы, внезапно, среди глубокой зимы, осадили Ахалцихе. Это было сигналом к открытию военных действий в то время, как приготовления к ним со стороны России были далеко не окончены.
Наступило время, знаменательное историческими событиями.
XV. ЗИМНИЙ ПОХОД НА ВЫРУЧКУ АХАЛЦИХЕ
В то время как Паскевич, пользуясь перерывом в военных действиях, старался привлечь на свою сторону различные полудикие племена азиатской Турции, и между ними аджарцев, ближайших и самых воинственных соседей Ахалцихе, сераскир, со своей стороны, не щадил ни денег, ни ласк, ни обещаний, чтобы понудить так же аджарцев к немедленному открытию военных действий. Сераскир понимал хорошо, что если возможно отнять у русских Ахалцихе, то только зимой, когда малочисленный гарнизон крепости, отрезанный от Грузии высокими горами и глубоким снегом, не мог рассчитывать на скорую помощь, и в этих видах выхлопотал даже у султана фирман, в силу которого аджарский бек в самый день возвращения туркам славной твердыни, имел право наименовать себя пашой ахалцихским.
Но лукавый бек, ведя переговоры с Паскевичем, медлил принять предложение и, беря подарки с обеих сторон, ни к одной из них не” приставал открыто. Так проходили дни за днями, не принося с собой ничего нового. Январь уже был на исходе, зима приближалась к концу, и времени для зимнего похода турок оставалось немного. Тогда сераскир прибег к решительным мерам и, двинув турецкие войска из Арзерума, известил Ахмет-бека, что если он станет и теперь уклоняться или медлить походом, то ответит за это своей головой. Прижатый, что называется, к стене, Ахмет должен был наконец принять сторону турок. Он наскоро собрал пятнадцать тысяч аджарцев и, дождавшись прибытия вспомогательного турецкого отряда, двинулся к русским пределам. Необычайная энергия турок простерлась до того, что они перешли снеговые горы на лыжах и перетащили на руках шесть полевых орудий. 16 февраля неприятель уже вступал в селение Дигур, лежавшее на Посхов-Чае и на первый раз занялся грабежом армянских селений. Одна из его партий проникла даже на имеретинскую дорогу и там разбила купеческий караван, шедший из Ахалцихе. Паника охватила все население, и даже деревни ближайших санджаков, уклонявшиеся прежде от всякой солидарности с аджарцами, теперь принимали их сторону. К счастью, окрестности Хертвиса и Ахалкалак остались спокойными.
17 февраля войска Ахмет-бека подвинулись к Ахалцихе, а особый отряд, под предводительством Авди-бека, был выслан к Боржомскому ущелью, чтобы не допускать подкреплений из Грузии, а если будет возможно, то прорваться в Картли и распространить опустошение до стен Тифлиса. Все это облечено было, однако, в такую глубокую тайну, что начальник Ахалцихского пашалыка, князь Бебутов, получил первое известие о наступлении неприятеля только вечером 18 числа, когда аджарцы стояли уже в пятнадцати верстах от крепости в деревне Вале.
В Тифлисе тоже не знали ни о движении, ни о намерениях турок. Правда, там давно носились слухи, что сераскир к чему-то готовится, но этим слухам не придали вероятия даже тогда, когда стало известным, что Ахмет-бек открыто принял турецкую сторону. В Тифлисе до последнего момента были убеждены в невозможности военных действий зимой и думали, что все приготовления турок разрешатся каким-нибудь пустым разбойничьим набегом: аджарцы разорят две-три христианские деревни и уйдут домой, а Ахмет-бек, верный турецким традициям, донесет султану, что побил множество гяуров, но что за снегами и холодом нельзя было дойти до Тифлиса, иначе светлый гарем падишаха был бы укомплектован в изобилии красавица-гурджи. Поэтому известие об осаде Ахалцихе поразило всех своей неожиданностью, а вместе с тем и дало уразуметь серьезность и важность наступившей минуты. Если бы турки успели овладеть Ахалцихе, то все результаты блестящей кампании 1828 года были бы потеряны, и Паскевичу пришлось бы думать уже не о новых завоеваниях, а только о возвращении утраченных приобретений прошлого года,– то есть приходилось бы начинать войну сызнова.
Современники рассказывают, что первое известие об осаде Ахалцихе Паскевич получил от коменданта Хертвиссой крепости майора Педяша – человека, известного своей странной манерой писать так, что только немногие могли читать и понимать смысл его рапортов. Когда Паскевич сорвал печать с конверта, привезенного ему каким-то конным чапаром, он с изумлением остановился на первых строках этого рапорта. Педяш писал: “По приказанию вашего сиятельства (разумелось, конечно, общее распоряжение о доставлении экстренных сведений прямо в руки главнокомандующего) Ахалцихе турками взят”. Далее в неясных и запутанных фразах следовало длинное исчисление турецких войск и мер, принятых князем Бебутовым для обороны крепости. Положительная фраза: “Ахалцихе турками взят”,– поразила Паскевича, и он не стал читать дальше роковой бумаги, случайно попавшей в его руки прежде, чем она успела пройти через цензуру привычного докладчика.
Было за полночь. Во дворце все спало, и только Паскевич большими шагами ходил по кабинету, ожидая начальника штаба и обер-квартирмейстера корпуса, за которыми поскакал ординарец. Первым явился генерал Вальховский, и Паскевич встретил его восклицанием: “Ахлцихе взят турками!”
– Не может быть! – вырвалось у Вальховского.
– Вот рапорт Педяша,– крикнул Паскевич,– и скомканная бумага полетела из его рук на пол.
В это время вошел начальник штаба барон Остен-Сакен. Главнокомандующий повторил известие: “Все пропало – Ахалцихе взят!”
Вальховский, между тем, воспользовавшись этой минутой, поднял смятую бумагу и, пробегая ее глазами, увидел, что после слов “Ахалцихе взят” стоит запятая. Тогда, привычный к писаниям Педяша, он перевернул целую страницу, пропустил все вводные предложения, и, отыскав другую запятую, прочел слово: “в блокаду”. Дело разъяснилось: “Ахалцихе был взят… в блокаду”. Паскевич повеселел и даже, шутя, заметил: “А ведь Педяш-то доносит, что Ахмет-паша взял Ахалцихе по моему приказанию…”
О самом Педяше главнокомандующий остался наилучшего мнения. “Он написал глупо, а распорядился умно”,– сказал он начальнику штаба, намекая на то, что Педяш первый дал знать о блокаде Ахалцихе, несмотря на трудность сообщений, уже прерванных турками.
Собственно говоря, положение Ахалцихской крепости не могло внушать уже слишком больших опасений. Вооруженная наилучшим образом, снабженная достаточным продовольствием и охраняемая одним из храбрейших полков кавказского корпуса, крепость, без сомнения, могла выдержать самый отчаянный натиск неприятеля, но продолжительная осада могла сломить сопротивление даже и ширванцев.
Предприятие Ахмет-бека было опасно еще и в том отношении, что оно могло поколебать и даже вовсе разрушить приобретенное нами доверие жителей, которые безусловно уповали на защиту своих победителей, и теперь, в самую критическую минуту, предоставлены были своим собственным силам. Очевидно, нужны были быстрые, решительные меры, и полковнику Бурцеву, квартировавшему с Херсонским гренадерским полком в городе Гори, в тот же день послано было приказание, как можно поспешнее занять крепость Ацхур и, заслонив таким образом Грузию, вместе с тем обеспечить проход через Боржомское ущелье другому, более сильному отряду, который, под начальством Муравьева, формировался из пяти батальонов пехоты при тринадцати орудиях, чтобы идти на помощь к Ахалцихе.
Другие электронные книги автора Василий Александрович Потто
Урдабадская битва




 3.67
3.67
Амалат-бек




 4.67
4.67