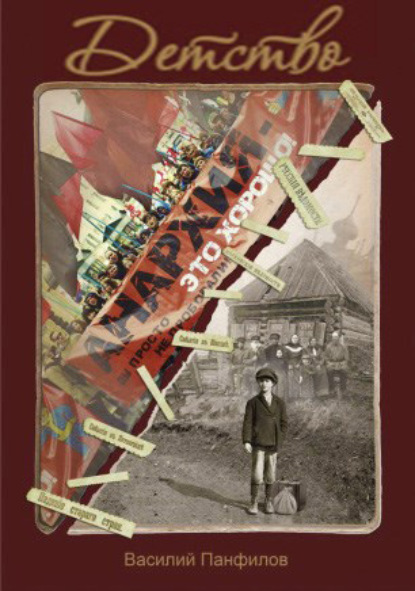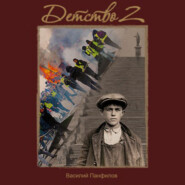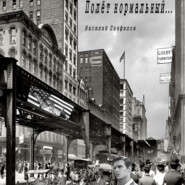По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Детство
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Максим Сергеевич, ругался, сидя на полу и держась за живот.
– Да уймись ты, бес! – Откуда-то со стороны, кувыркаясь и расплёскивая воду, в мужчину прилетела жестяная кружка, – Моду взял, посреди ночи людей будить!
– Егорка, вставай! – Бывший офицер не отступал от своего, – Я с купцами поспорил, что ты любого цыгана перепляшешь!
– Ты поспорил, ты и пляши! – Отвечаю раздражённо, не желая участвовать в аферах Милюты-Ямпольского.
– Егорка! – Едва не рыдая, взвыл тот пароходной сиреной, разбудив уже всех обитателей флигеля, и получив на свою голову поток грязнейшей ругани, – Яр! Лихач снаружи ждёт, за тобой приехал!
– Мать же твою… – Вскакиваю с нар и начинаю умываться и одеваться.
– Пошли! – Максим Сергеевич не то чтобы пьян, но так ето… не в адеквате. Никак кокаином опять балуется?
Одет он, к слову, сегодня богато – пусть не вполне по росту и фигуре, но по господски. Сюртук, штаны барские, шубейка енотовая, молью чуть поеденая. Ну да у скупщиков краденого всяково добра в избытке! Можно купить, и можно и тово, в аренду взять.
– Посцать дай хоть, ирод! – Вырываю руку у потянувшего меня к выходу мужчины.
Обувшись и одевшись, бегу на улицу облегчится. Максим Сергеевич не отстаёт, торопя и нудя. Не обращая на него внимания, заскакиваю назад и прихватываю опорки – специально покупал вот прям по ноге, штоб тренироваться, а то нога вихляется, а босиком холодно. Засунув их за пазуху, подбираю кружку и, спугнув тараканов, черпаю из бадьи.
– Егорка! – Максим Сергеевич воет жалостливо, глаза такие, как не каждый нищий сделает. Мученик, никак не меньше.
Сплюнув на пол, выскакиваю и дивлюсь необычному зрелищу – лихачу на Хитровской площади. Бывает, што и заскакивают залётные на рысаках своих тысячных, коли купцы решат «в народ» съездить. Но нечасто, очень нечасто. А штоб за кем-то из хитрованцев, тово и не припомню!
– Садись, вшивота! – Извозчик откидывает медвежью полость, и я, под взглядами ошалевших хитрованцев, ставших свидетелями необычного зрелища, усаживаюсь важно. Рядом усаживается Максим Сергеевич, и лихач тут же взмахивает кнутом.
– Н-но, залётныя!
Рысаки с места берут в карьер, и в лицо бъёт холодный воздух. Тут же надвигаю шапку поглубже, а чуть погодя и вовсе – ныряю в полость с головой.
Дорога до Яра ровная и накатанная, хорошо освещена, так што мчался лихач без опаски, очень быстро. Офицер бывший то начинал о чём-то перекрикиваться с лихачём, то тормошил меня, лихорадочно втолковывая што-то о нашем великом будущем. Кокаинист как есть, ничево нового.
К деревянному одноэтажному зданию ресторана подъехали с шиком, и Максим Сергеевич тут же сдёрнул меня с саней, потащив за руку.
– Вот! – Начал он орать издали, ещё швейцару, – Вот самородок русский!
Влетели внутрь так, што я опомниться не успел, только рот сам собой открылся. Роскошь! Деревянная резьба, позолота, много дорогущей материи на столах и даже на стенах, картины, рояль, здоровенный аквариум с живыми стерлядями и осетрами.
И я, в дешёвой шубейке, ватной шапке с вылезающей ватой, сапогах не по размеру и старых опорках за пазухой. Даже раздеться в гардеробе не дал, ирод!
– Вот! – Милюта-Ямпольский важен, – Вот самородок русский!
За столами купцы, пьяненькие уже изрядно. По одёжке и манере видно, што из тех, кто из низов вышел. Ну или батюшки ихние не поддались заразе, именуемой «классическими гимназиями». Такие все кондовые, исконно-посконные, домотканые ажно до лубочности.
Купцов с десяток, да всяких там прилипал-подпевал два раза по столько же. Не сразу и поймёшь, где там прикащик доверенный, а где и такие, што вроде Максима Сергеевича – шуты из бывших, да прочий мутный народец, ухитряющийся поучаствовать в чужих гулянках.
С ними хор цыганский, да чуть поодаль оркестр.
– Ентот? – Один из купчин, толстопузый до нездоровья, приподнялся, побагровев мордой, да и сел обратно, захохотав гулко.
– Кланяйся! – Зашипел на меня какой-то подскочивший прилипала, схватив за шею и нагибая вниз, – Его степенство Иван Ерофеич гуляет!
Бью зло пяткой назад, да по коленке плешивому етому – так, што тот завыл, на полу сидючи. Сидит, за ногу держится, лицо белое, и мне так нехорошо стало – ну, думаю, доигрался ты, Егорка! Щаз как… а што щаз, додумать не успел.
Цыган старый вперёд выступил, тряхнул кудрями серебряными и серьгами такими же, да и молвил:
– А лихого молодца к нам привезли, Иван Ерофеич? Перепляшет или нет, но мне такие храбрецы по нраву. Да и ты, поговаривают, не молитвами состояние заработал.
– Да уж, – Пьяно приосанился купчина, – всякое бывало! Ну што, самородок?
– Я, дяденька, может и не самородок, но, – Кошуся на Максима Сергеевича, – и не самовыродок!
Как всё замолкло на секунду, да как смехом и рассыпалось! Ну, думаю, фартовый ты парень, Егор Кузьмич! Развлечение для таких компаний – дело первеющее, так што наибольшую беду от себя отвёл почти што!
Скинул шубейку прям на пол, сел на неё, да и переобулся в опорки. Вокруг зубы скалят, а меня ажно все косточки гудят, движения требуют. Такой кураж взялся откуда-то, што прямо ой! Тот самый случай, што или грудь в крестах, иль голова в кустах! И поетичность ещё такая в душе образовалась, што будто сам стал героем Шекспировской пьесы.
– Ну, – говорю, – Как моево супротивника зовут?
И цыгану кланяюся низко – чай, не убудет! Выручил он меня знатно, отвёл беду. Говор нарочито простонародный – учён уже. Купцы, они тово, не шибко-то и любят, когда людишки нижестоящие умней или хотя бы умственней были.
– Меня, – Ответил тот, зубы скаля, – Шандором матушка назвала, а в церкви Панкратом крестили. А плясать ты будешь противу племянника моево, коего в церкви Алексеем окрестили, а в таборе Фонсо прозвали.
Расступились цыганки, повели своими юбками цветастыми, звякнули монистами пудовыми, да и вышел парень – молодой, да сразу видно – вертлявый, ну чисто кубарь[72 - Кубарь – детская игрушка, разновидность волчка, приводимого в движение при помощи «кнутика» или веревочки.]! Поклонился слегка, но так насмешливо и ёрнически, што у меня ажно кровь закипела! И не придерёшся вроде, а ясно – насмешничает!
Одет щеголевато, рубаха алая из атласа, жилет поверх чёрный из бархата, да золотом расшит. Штаны широкие, из чёрного шёлка, даже на вид дорогущие! Сапоги такие, што не просто по ноге, а сразу видно – вот для пляски шиты. Кожа тонкая, нога будто в обливочку, да и подковки на каблуках как бы не серебряные! А што? Цыгане, они такое любят!
Мы пока театральствовали, плешивого тово унесли незаметненько. Ой, думаю, никак ногу ему сломал? А страху и нет почти – так, в глубине где-то.
– Жги! – Крикнул купчина, махнув кулаком и шарахнув по уставленному снедью столу. И сразу – музыканты как вжарили!
Фонсо кочетом прошёл, коленца выделывает. Хорош, зараза! Я руки в боки упёр, чуть в ответку приплясываю – штоб разогреться с морозу, да и смотрю – што он там покажет?
– Жри-поджигай! – Ору, – Лихой удалец, красавец молодец!
Ерунду всякую вопю – так только, штоб купцов раззадорить. Вроде как при деле я, не просто так стою-пританцовываю. А сам гляжу – плохо дело! Коленца выделывать я и не хуже умею – вот ей-ей, всё за ним повторю!
Только Фонсо чище пляшет, ну да оно и понятно, я ж всево ничего занимаюсь, а он в таборе, да при таком-то дядьке, который плясками на жизнь зарабатывает!
Плясал он, плясал, а я и подзуживал-покрикивал. Запыхался цыган, да и остановился. Старается не показывать, но видно – запалено дышит, ажно бока ходуном ходят.
– Ну, – Говорит, – самородок Хитровский, который не самовыродок! Показывай умение своё, иль ты только языком танцевать умеешь, по женскому обычаю? Цыганки наши тогда тебе юбку да монисто одолжат, да будешь до самого утра в таком обличии так плясать, купцов именитых веселить!
– Ай и стервец! – Заорал восторженно Иван Ерофеевич, заухали-засмеялися и другие пузатые бородачи. Ах ты, думаю, рыба-падла…
– Я, – Говорю, – за тобой всё повторю. Лучше ли, хуже ли, за то сказать не могу, пусть купцы рассудят.
И как дал коленца перед ним выделывать! Всё, што Фонсо наплясал, повторил, а некоторые ещё и усложнил. Но не так чисто, ето да! Сам чувствую.
Остановился и взглядом его так смерял, а сам руки в боки упёр и дышу, дышу…