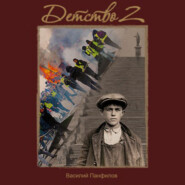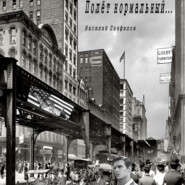По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Университеты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Угу… – и снова эта зевота.
– Отоспись ты наконец, сил нет смотреть!
– А… – отмахнулся брат, – сейчас ещё дней несколько сплошного аврала, а потом затишье обещается, тогда и отосплюсь вволю.
– Ну-ну… зарекалась свинья в грязи не валяться. А пишут… – я перелистнул несколько страниц, – нормально пишут. О Южно-Африканском Союзе в целом – без изменений. Благожелательно, но всё больше на торговые договора и концессии упирают, а не на высокую духовность африканеров.
– Духовность! – брат ажно хрюкнул со смеху, но зато почти проснулся, – Эт да! Пообщались, значица, поближе! С носителями духовности!
– Угум. К нам… да скорее с симпатией, но прослеживается, знаешь ли, этакая высокомерная нотка.
– Даже так? – проснулся Мишка и почесал нос, – Сможешь оформить свои соображения и чуйки в нечто удобоваримое?
– Хм… не быстро, – соглашаюсь нехотя, – Вчерне, так за два-три набросаю, а чистовик скоро не обещаю. Сам знаешь, сколько на мне висит.
– Хоть так! Будем хотя бы видеть, как ситуацию корректировать.
– И нужно ли вообще её корректировать… – пробормотал я.
– А?!
– Нет, правда, – откидываюсь назад, полуприкрыв глаза, – Высокомерие, оно в статьях и правда есть. Но такое, знаешь ли… сентиментальное, родственное почти. По крайней мере – пока.
– Братские чувства? – моментально сообразил Мишка.
– Они! Образ безусловно младшего, но всё-таки брата… как?
Хмыкнув озадаченно, он не стал отвечать, отобрав у меня прочитанную прессу и наливая себе кофе. Перелистав газету, наткнулся на заметку о моей скульптуре, и поднял глаза.
– В переулке? Лучше места для скульптуры не смог найти?
– Лучше и не бывает! – отвечаю с уверенностью, которую не вполне чувствую.
– Пятнадцать тыщ народу за вчера только, чуть не подавились! – потряс он газетой.
– Значить, работает!
– Н-да?
– Пф-ф… Миша, ну ты вот тактик и стратег, и в шахматы уже немногим хуже меня, а… ладно! Концепция продумана от и до!
– В проулке?!
– В нём! Несколько дней народ будет давиться анчоусами в банке, создавая заодно ажиотаж. Создадут-создадут! Народищу в Париже много, хоть один из тыщи, а приедет, и што он увидит? Давку! Ажиотаж! Значит, не зря ехал, можно… и нужно рассказать. Хорошо ли плохо… но разговоров будет много!
– О как…
– Угум. Потом, как бы уступая давлению общественности, я разрешу… разрешу, понимаешь? Перенести… временно, из проулка – на один из проспектов Бельвиля.
– С условием! – подымаю палец, акцентируя внимание, – Вернуть по окончанию Выставки скульптуру на прежнее место.
– Подарить задумал? – прищурился брат, – Не жалко?
– Нет на полтора вопроса! Подарить – да, но не Ришарам, а кварталу Бельвиль. И непременно с условием, што висеть скульптура будет над мастерской Ришаров, а буде та закроется, то над мастерской лучших медников-жестянщиков Бельвиля.
– Мудрёно, – протянул он с нотками сомнения.
– Миш-ша… – качаю головой, – всем-то ты хорош, но вот ей-ей – выспаться тебе пора! Я же кварталу не просто скульптуру, я ему Историю дарю! Городскую легенду!
– Н-да… а пожалуй, – согласился он наконец, взяв паузу на раздумье, – красивая долгоиграющая легенда, и в рабочем квартале Парижа ты уже желанный гость. А через тебя и мы… так? Дай-то Бог…
Десятая глава
Переполненный мочевой пузырь разбудил седьмого герцога Бекингема около полуночи, и Его Светлость, сев на разом просевшем перьевом матрасе, опустил босые ноги на пол, нашаривая домашние туфли и зажигая свечу. Вытащив из-под высокой кровати с балдахином фарфоровый ночной горшок, он приподнял крышку, задирая одновременно подол ночной рубашки.
Зевнув, Его Светлость уже приготовился опустошить мочевой пузырь, но сонные его глаза углядели некоторую несообразность на дне сосуда.
– Знак! – воскликнул он, усилием воли прерывая начавшийся попис, брызнув каплями на прикроватный коврик, – Несомненный знак!
Схватив ночной горшок, герцог с возбуждённым видом принялся рассматривать узоры герба, солями урины отложившиеся на фарфоре. Однако же мочевой пузырь напомнил о себе, и Его Светлость, пометавшись маниакальным взглядом по мансарде, выплеснул из вазы на улицу воду вместе с изрядно подвядшими полевыми цветами, и облегчился в опустевший сосуд.
– Знак, – повторил он уже спокойнее, и благородное его чело заволоклось морщинами.
– Сама судьба говорит со мной, – уже тише повторил мужчина и заходил по мансарде, заложив за спину руки в непроходящих ожогах от химикатов. Полы поскрипывали, и Его Светлость быстро опомнился, вспомнив про сварливую квартирную хозяйку, проживающую прямо под ним. Опять будет напоминать, старая карга, что он живёт из милости, попрекая милосердием!
Тонкие чувственные ноздри аристократического носа гневно раздулись, но герцог сдержал порыв благородного гнева. Плебс никогда не понимал аристократию, но грешно гневаться за это на убогих Духом!
– Знаки повсюду, – трагически сказал он, встав у раскрытого окошка и глядя сверху на ночной город. Еле уловимое дуновение душного ветерка не охлаждало разгорячённый разум Его Светлости, и капли пота жемчужинами выступили на благородном челе.
Глядя в окно, герцог мысленным взором видел не мещанскую улочку, а Сен-Жерменское предместье, Лувр и Версаль.
– Придёт день… – сказал он, и шёпот ночного ветра сложился еле слышимыми словами.
– Знаки, – повторил Его Светлость, маниакально раздувая ноздри и нервно сжимая кулаки, – знаки…
Встретив поутру квартирную хозяйку на лестнице, Бекингем величественно склонил голову, проходя мимо.
– Доброе утро, месье Трюшо! – ввинтился в его уши пронзительный голос со склочными нотками.
– Доброе… мадам Бертран, – процедил он сквозь зубы, с ностальгией вспоминая те блаженные времена, когда простолюдины были счастливы уже от того, что смели дышать одним воздухом с аристократами.
– Опять пилюли забываете пить, – покачала головой мерзкая старуха, и герцог вскинулся было, чтобы ответить плебейке, как подобает, но только улыбнулся криво, наученный опытом.
– Ну… ступайте! – мадам Бертран похлопала его по руке, и Его Светлость с трудом удержался от гримасы омерзения, – Хорошая прогулка ещё никогда не была во вред!
Вскинувшись было, Его Светлость чудовищным усилием воли смолчал, стиснув челюсти. Держась с достоинством истинного аристократа, он с искренним омерзением обозревал окружающую его убогую действительность, еле заметно склоняя головы в ответ на приветствия соседей.
– Месье Трюшо! Месье Трюшо! – догнал его запыхавшийся раввин, – Ф-фу… староват я для спортивной ходьбы, хотя и в молодости не был атлетом, н-да… Впрочем, Циля полюбила меня не за атлетизм, а за острый ум и… Да, месье Трюшо, Давид интересовался, вы по-прежнему даёте уроки?
– Отоспись ты наконец, сил нет смотреть!
– А… – отмахнулся брат, – сейчас ещё дней несколько сплошного аврала, а потом затишье обещается, тогда и отосплюсь вволю.
– Ну-ну… зарекалась свинья в грязи не валяться. А пишут… – я перелистнул несколько страниц, – нормально пишут. О Южно-Африканском Союзе в целом – без изменений. Благожелательно, но всё больше на торговые договора и концессии упирают, а не на высокую духовность африканеров.
– Духовность! – брат ажно хрюкнул со смеху, но зато почти проснулся, – Эт да! Пообщались, значица, поближе! С носителями духовности!
– Угум. К нам… да скорее с симпатией, но прослеживается, знаешь ли, этакая высокомерная нотка.
– Даже так? – проснулся Мишка и почесал нос, – Сможешь оформить свои соображения и чуйки в нечто удобоваримое?
– Хм… не быстро, – соглашаюсь нехотя, – Вчерне, так за два-три набросаю, а чистовик скоро не обещаю. Сам знаешь, сколько на мне висит.
– Хоть так! Будем хотя бы видеть, как ситуацию корректировать.
– И нужно ли вообще её корректировать… – пробормотал я.
– А?!
– Нет, правда, – откидываюсь назад, полуприкрыв глаза, – Высокомерие, оно в статьях и правда есть. Но такое, знаешь ли… сентиментальное, родственное почти. По крайней мере – пока.
– Братские чувства? – моментально сообразил Мишка.
– Они! Образ безусловно младшего, но всё-таки брата… как?
Хмыкнув озадаченно, он не стал отвечать, отобрав у меня прочитанную прессу и наливая себе кофе. Перелистав газету, наткнулся на заметку о моей скульптуре, и поднял глаза.
– В переулке? Лучше места для скульптуры не смог найти?
– Лучше и не бывает! – отвечаю с уверенностью, которую не вполне чувствую.
– Пятнадцать тыщ народу за вчера только, чуть не подавились! – потряс он газетой.
– Значить, работает!
– Н-да?
– Пф-ф… Миша, ну ты вот тактик и стратег, и в шахматы уже немногим хуже меня, а… ладно! Концепция продумана от и до!
– В проулке?!
– В нём! Несколько дней народ будет давиться анчоусами в банке, создавая заодно ажиотаж. Создадут-создадут! Народищу в Париже много, хоть один из тыщи, а приедет, и што он увидит? Давку! Ажиотаж! Значит, не зря ехал, можно… и нужно рассказать. Хорошо ли плохо… но разговоров будет много!
– О как…
– Угум. Потом, как бы уступая давлению общественности, я разрешу… разрешу, понимаешь? Перенести… временно, из проулка – на один из проспектов Бельвиля.
– С условием! – подымаю палец, акцентируя внимание, – Вернуть по окончанию Выставки скульптуру на прежнее место.
– Подарить задумал? – прищурился брат, – Не жалко?
– Нет на полтора вопроса! Подарить – да, но не Ришарам, а кварталу Бельвиль. И непременно с условием, што висеть скульптура будет над мастерской Ришаров, а буде та закроется, то над мастерской лучших медников-жестянщиков Бельвиля.
– Мудрёно, – протянул он с нотками сомнения.
– Миш-ша… – качаю головой, – всем-то ты хорош, но вот ей-ей – выспаться тебе пора! Я же кварталу не просто скульптуру, я ему Историю дарю! Городскую легенду!
– Н-да… а пожалуй, – согласился он наконец, взяв паузу на раздумье, – красивая долгоиграющая легенда, и в рабочем квартале Парижа ты уже желанный гость. А через тебя и мы… так? Дай-то Бог…
Десятая глава
Переполненный мочевой пузырь разбудил седьмого герцога Бекингема около полуночи, и Его Светлость, сев на разом просевшем перьевом матрасе, опустил босые ноги на пол, нашаривая домашние туфли и зажигая свечу. Вытащив из-под высокой кровати с балдахином фарфоровый ночной горшок, он приподнял крышку, задирая одновременно подол ночной рубашки.
Зевнув, Его Светлость уже приготовился опустошить мочевой пузырь, но сонные его глаза углядели некоторую несообразность на дне сосуда.
– Знак! – воскликнул он, усилием воли прерывая начавшийся попис, брызнув каплями на прикроватный коврик, – Несомненный знак!
Схватив ночной горшок, герцог с возбуждённым видом принялся рассматривать узоры герба, солями урины отложившиеся на фарфоре. Однако же мочевой пузырь напомнил о себе, и Его Светлость, пометавшись маниакальным взглядом по мансарде, выплеснул из вазы на улицу воду вместе с изрядно подвядшими полевыми цветами, и облегчился в опустевший сосуд.
– Знак, – повторил он уже спокойнее, и благородное его чело заволоклось морщинами.
– Сама судьба говорит со мной, – уже тише повторил мужчина и заходил по мансарде, заложив за спину руки в непроходящих ожогах от химикатов. Полы поскрипывали, и Его Светлость быстро опомнился, вспомнив про сварливую квартирную хозяйку, проживающую прямо под ним. Опять будет напоминать, старая карга, что он живёт из милости, попрекая милосердием!
Тонкие чувственные ноздри аристократического носа гневно раздулись, но герцог сдержал порыв благородного гнева. Плебс никогда не понимал аристократию, но грешно гневаться за это на убогих Духом!
– Знаки повсюду, – трагически сказал он, встав у раскрытого окошка и глядя сверху на ночной город. Еле уловимое дуновение душного ветерка не охлаждало разгорячённый разум Его Светлости, и капли пота жемчужинами выступили на благородном челе.
Глядя в окно, герцог мысленным взором видел не мещанскую улочку, а Сен-Жерменское предместье, Лувр и Версаль.
– Придёт день… – сказал он, и шёпот ночного ветра сложился еле слышимыми словами.
– Знаки, – повторил Его Светлость, маниакально раздувая ноздри и нервно сжимая кулаки, – знаки…
Встретив поутру квартирную хозяйку на лестнице, Бекингем величественно склонил голову, проходя мимо.
– Доброе утро, месье Трюшо! – ввинтился в его уши пронзительный голос со склочными нотками.
– Доброе… мадам Бертран, – процедил он сквозь зубы, с ностальгией вспоминая те блаженные времена, когда простолюдины были счастливы уже от того, что смели дышать одним воздухом с аристократами.
– Опять пилюли забываете пить, – покачала головой мерзкая старуха, и герцог вскинулся было, чтобы ответить плебейке, как подобает, но только улыбнулся криво, наученный опытом.
– Ну… ступайте! – мадам Бертран похлопала его по руке, и Его Светлость с трудом удержался от гримасы омерзения, – Хорошая прогулка ещё никогда не была во вред!
Вскинувшись было, Его Светлость чудовищным усилием воли смолчал, стиснув челюсти. Держась с достоинством истинного аристократа, он с искренним омерзением обозревал окружающую его убогую действительность, еле заметно склоняя головы в ответ на приветствия соседей.
– Месье Трюшо! Месье Трюшо! – догнал его запыхавшийся раввин, – Ф-фу… староват я для спортивной ходьбы, хотя и в молодости не был атлетом, н-да… Впрочем, Циля полюбила меня не за атлетизм, а за острый ум и… Да, месье Трюшо, Давид интересовался, вы по-прежнему даёте уроки?