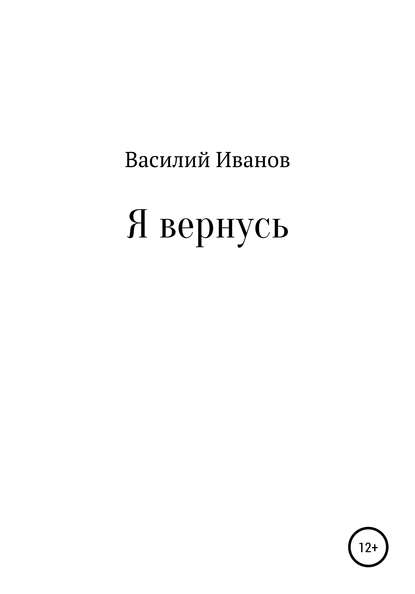По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Я вернусь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тоойуом (як.) – Ласковое обращение к детям, младшим по возрасту]8 Тонгсуо, езжай-ка ты к Тихоновым. Говорят, они большие деньги получили. Попроси денег на костюм. Пусть хотя бы сотню рублей дадут. Осенью в школу нарядным пойдешь. А о работе пока не заботься, мы с отцом за тебя потрудимся.
Я отнекивался, как мог, но мама была непреклонна. Пришлось ехать.
… У Тихоновых жизнь била ключом. Еще во дворе я увидел распахнутую дверь амбара. Там отец со своими приятелями вовсю рубился в карты. Народу было много. В амбаре стоял шум и гам, через каждую минуту раздавались веселые выкрики картежников. «Всюду страда, – подумал я, – а они в карты режутся! Делать им нечего!». Даже не поздоровавшись с отцом, зашел в дом.
Дома была сестра Мавра и старший брат Никифор, который в ту пору уже начал работать писарем. Они меня встретили холодно, не высказали ни тени удивления, не спросили, зачем я приехал.
Три дня я прожил у Тихоновых и ни разу никто из родных не поинтересовался о цели моего визита в столь горячую пору. Я понял, что денег мне здесь не предложат, а просить самому язык не поворачивался. На четвертый день я встал, собрался и уехал, не сказав никому ни слова. И родные проводили меня ответным молчанием. Больше до окончания школы я у них не бывал. А матери дома сказал:
–– Из этих двадцати пяти тысяч мне даже двадцати пяти копеек не дали! Стоило ли отрывать меня от работы для этой глупой затеи?
Мама горько улыбнулась, а потом, видимо только осознав, что мне удалось пережить, всплакнула:
–– Ничего, милый мой, проживем! И костюм тебе сами справим, ты, главное, не переживай!
Глава 13. Далекие родные
Забегая вперед, я хочу рассказать о том, как сложились мои отношения с родной семьей в дальнейшем, чтобы более к этой теме не возвращаться…
В 1941 году, когда я заведовал в Сыдыбыле сельским клубом, мне снова довелось какое-то время пожить в отчем доме. Родная моя мать к тому времени уже два года как покоилась в сырой земле. Сказались семнадцать родов, беспокойная трудная жизнь с мужем-картежником. Она умерла рано даже по суровым меркам того нелегкого времени.
Отец после ее смерти пристрастился к выпивке. Никифор в то время работал в сельхозотделе в Вилюйске. Однажды я, в холодную погоду надел его старое пальто, которое нашел в амбаре. Поехал в нем в Вилюйск по работе. В районном центре решил проведать брата.
–– А чего это ты мое пальто надел? – такими возмущенными словами с порога приветствовал меня Никифор.
Я ни слова, не говоря, снял пальто, бросил на кровать и захлопнул за собой дверь. Ушел прямо в пиджаке по первому снегу. У знакомых одолжил старый ватник, а обида на брата еще долго жгла мое сердце.
…Спал я у Тихоновых за перегородкой в комнате отца. Однажды он пришел ночью пьяный и стал горланить песни. Пел он, надо отдать должное, очень хорошо, но мне было недосуг наслаждаться его вокалом, поскольку рано утром надо было вставать и идти на работу.
–– Афанасий, спи! – крикнул я отцу, затыкая подушкой уши.
–– Нохоо[10 -
Нохоо (як.) – Пренебрежительное обращение к младшим мужчинам]9, я ж тебе какой-никакой, но отец! Вот и называй меня отцом, а не Афанасием, – был его ответ.
–– Отцом я тебя никогда не назову, – сказал я в пылу раздражения и добавил, чтобы обидеть его еще больше. – Ишь ты! Какой-то Хонооску моим отцом себя возомнил!
Отца это задело. Один из моих старших братьев работал в военкомате, носил военную форму. Отец схватил его ремень с тяжелой пряжкой и ворвался ко мне за перегородку с криком:
–– А ну скидывай портки, я тебе всыплю за дерзкие слова!
Мне тогда было семнадцать лет, и я считал себя взрослым, которого этот полупьяный Хонооску решил пороть, как маленького мальчишку. Я вскочил на ноги и пнул пошатывающегося отца прямо в грудь. Он упал, потом поднялся. Взревев от ярости, он бросился на меня во второй раз, но я проворно убежал от него, схватив свою одежду. В тот же миг я оделся, собрал свои вещи и уехал домой, к матери и Давыду. Больше я в отчем доме никогда не был.
… Позже, из побежденного Берлина, я написал два письма. Одно со словами любви усыновившей меня женщине, моей горячо любимой матери, а второе было адресовано брату Никифору. А писал я его, по сути, для отца, отказавшегося от меня в раннем детстве. Родную мать я ни в чем не винил и осуждал за то, что семья отказалась от меня, только отца. Впрочем, виноват он был в моих глазах не только за это, но и за то, что прожил свою жизнь беспутно, не заботясь о своей семье, жене, детях. Такого человека не хотелось называть отцом.
Я описал все свои подвиги, награды, звания. Приложил фотографию, где я красовался в парадной форме. «Теперь я воин-освободитель. Пройдя через огонь, воду и медные трубы я часто думаю о своем происхождении. Если вы признаете меня своим братом, я тоже готов признать вас своими родными. Но вашего отца, Хонооску, продавшего меня за быка, которого он потом проиграл в карты, я никогда не назову отцом. Не забуду, как, получив, благодаря мне, двадцать пять тысяч рублей, вы пожалели для меня двадцать пять копеек. Не могу забыть, как ты, Никифор, пожалел для меня свое старое пальто. Ты был взрослым тогда и потому считаю тебя виноватым…»
Все припомнил я в том письме. Излил всю горечь от обид, которые с детства терзали меня. Никифор потом рассказывал, что отец рыдал, читая мое письмо. В 1945 году он сильно приболел, а переживания, доставленные ему моим письмом, по словам братьев, окончательно подкосили его силы, и старик вскоре после этого умер.
Глава 14. Сыновний долг
Я не считаю себя каким-то извергом или жестоким сыном… Я просто был суров, как все фронтовики, и не умел лукавить ни перед людьми, ни перед своей совестью. Родные простили меня, как и я простил им все, что испытал от них в детстве, отрочестве, молодости. Годы лечат, но суть дела от этого не меняется. В этом я уверен и могу сказать, прожив долгую и, на мой взгляд, очень счастливую жизнь…
На могиле родной матери я посадил в 1948 году молодые деревья и всегда, когда был в родных местах, навещал ее. В 1960 году еле отыскал могилу и место захоронения отца. Похоронены они с матерью были в разных местах. Приезжая на родину, я останавливался у брата Никифора. Отношения между нами с годами потеплели. Иногда я даже называл его убай[11 -
0 Убай (як.) – Старший брат]10.
Однажды я упрекнул Никифора:
–– Ты уважаемый на родине человек, а могилы наших родителей сравнялись с землей. Тебе не стыдно? Разве нельзя было хотя бы приличные надгробия им сделать?
Никифор ответил, что по-якутским обычаям обустраивать могилу по прошествии трех лет не положено.
–– Раз ты чтишь обычаи, я сам сделаю надгробия, потому что память родителей надо чтить больше, – ответил я и взялся за работу.
Смастерил надгробия я самостоятельно, поскольку любил и умел работать по дереву. Чтобы просить чужих не было ни денег, ни вина… На следующее лето установил на могилах отца с матерью памятники с бронзовыми табличками, которые пришлось заказать в сувенирном цехе.
Ставить памятники поехали вместе с братом и его сыном Михаилом. На могиле матери уложили мраморную плиту с высеченной надписью: «Тихонова Прасковья Семеновна. Многодетная мать».
–– Смотри, Михаил. Здесь покоится мать, которая никогда в жизни меня не погладила по голове, не улыбнулась мне – своему родному сыну. С 1948 года я ухаживаю за ее могилой, потому что уважаю ее, не смотря ни на что. И мое отношение к ней никогда не изменится, покуда я жив.
На могиле родного отца я высказался иначе:
–– Этого человека я никогда не называл своим отцом, но я – его плоть и кровь, и потому сделал этот памятник.
Говорил ли я эти прямые резкие слова своему племяннику или адресовал их своим родителям? Это уже неважно. Слова и поступки – разные вещи…
Память о предках всегда должна жить в каждом человеке. Я обустроил таким же образом могилу усыновившей меня матери, и своего нелюбимого в детстве отчима Давыда, которого я искренне полюбил и понял это, встав взрослее, пройдя Великую Отечественную войну. Отыскал и справил надгробие я на могиле первого мужа моей матери – Петра Корякина. Сыновний долг надо исполнять и тогда, когда родителей давно нет в живых. Это свято.
Глава 15. Студенчество
Почему-то все мои одноклассники мечтали стать либо учителями, либо врачами, либо военными. А мне с детства нравились артисты. Что-то притягивало меня к этой творческой, суетной, живой профессии. Я не пропускал ни одного представления в колхозном клубе. Сидя в зрительном зале, жадно ловил каждый жест, движение, слово.
Поэтому после окончания семилетней школы вопрос о дальнейшем образовании был для меня решен. Я решил поступить в культурно-просветительское училище в Якутске. Мать с Давыдом не отговаривали, потому что для них всегда было важнее всего мое желание. Они собрали все что могли – семьдесят пять рублей, чтобы я в городе мог справить себе обновки, купить учебные принадлежности.
–– Тоойуом Тонгсуо, теперь ты взрослый. Смотри, учись прилежно, веди себя хорошо. Пусть у тебя появится много добрых и верных друзей, – напутствовала меня мама.
Были во время проводов и слезы, поскольку до окончания учебы я должен был оставаться в Якутске. Нам предстояла долгая разлука длиной в несколько лет. Преодолевать семьсот с лишним километров в те годы надо было на лошадях. Поездка была и затратной, и утомительной.
С завернутыми в тряпочку тремя двадцатипятирублевыми купюрами, осенью 1940 года я приехал в столицу нашей республики. Якутск тогда был преимущественно деревянным, во всех домах топили печи, поэтому в городе постоянно пахло дымом. Но на меня, алаасного мальчишку, Якутск произвел неизгладимое впечатление. Множество высоких домов, людей, лошадей, собак…
Жить мне предстояло у родственницы из Нюрбы по фамилии Габышева. Муж ее находился под арестом. Он работал в «Якутзолоте», когда там вскрылось крупное хищение. Из-за регулярных обысков на дому мы жили в постоянном напряженном состоянии: прислушивались к каждому шороху за дверью.
В городе я пристрастился ходить в кинотеатр. Это было самое диковинное развлечение в те годы. На экране бурлила какая-то совершенно незнакомая нам жизнь, с неведомыми вещами, странными героями. Здесь, в этом чудном зрительном зале меня, как, оказалось, поджидала беда. Во время сеанса какой-то прохиндей украл у меня из кармана три заветные бумажки, завернутые в тряпочку. Плакали мои, с таким трудом собранные заботливыми родителями, скромные сбережения! Остался я без обновок, тетрадей и книжек…
Сетовать было некому, пришлось зарабатывать на жизнь самостоятельно. Мы с однокурсниками все свободное время ходили по домам на нынешней улице Орджоникидзе, предлагали наколоть горожанам дрова, натаскать лед, очистить двор от снега за пропитание или за вещи, редко – деньги. Без такой подработки на тридцать рублей стипендии прожить было невозможно.
На месте нынешней мэрии находилось двухэтажное деревянное здание. Это было наше училище. Учились мы старательно, не пропускали занятий. Но как бы не интересно было в Якутске, вечерами я всегда вспоминал родных, гадал, что они сейчас делают.