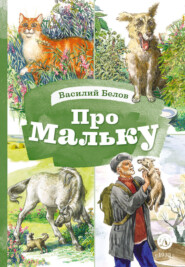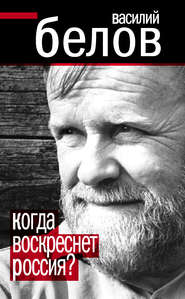По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Повести
Автор
Год написания книги
1998
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Повести
Василий Иванович Белов
Школьная библиотека (Детская литература)
В сборник произведений В. И. Белова вошли повести «Привычное дело» и «Плотницкие рассказы», в которых ярко раскрывается самобытный русский характер.
Василий Иванович Белов
Повести
© Издательство «Детская литература». Оформление серии, 2005
© В. И. Белов. Текст, 1998
© И. Стрелкова. Вступительная статья, 1998
© Л. Бирюков. Иллюстрации, 1998
Истина и жизнь
Завершилось очередное столетие, и наконец-то собралась вся целиком у нас дома, в России, русская литература XX века. Исчезла пограничная черта, проведенная по отметке «1917 год» и отделявшая дореволюционную литературу от советской. Исчезло навязанное противопоставление писателей, оставшихся после революции на родине, и писателей, оказавшихся в эмиграции. Исчезло также и деление на официальную литературу, издававшуюся в СССР в условиях политической цензуры, и диссидентскую, публиковавшуюся за рубежом, нередко на условиях тоже идеологических.
В XX веке Россия на собственном историческом опыте убедилась, что, как бы ни разделяли писателей их политические убеждения, а также время и расстояние, национальная литература остается единой. И в этой единой литературе все книги и все писательские имена оказываются на своем подобающем месте, включая и те произведения, которые пришли к читателю спустя годы после того, как были написаны. Они возвращены и сегодняшним читателям, и тому времени, когда создавались. В этом отношении примечательно включение в круг современного чтения церковных писателей, прежде не издававшихся, и одновременно с ними памятников литературы Древней Руси, пребывавших в забвении.
Единство русской литературы XX века (со всеми ее противоречиями) можно считать драгоценным достоянием новых (и будущих) поколений. Иной круг чтения, чем у прежних поколений. Не такая, как еще совсем недавно, школьная программа по литературе. И самое, быть может, главное заключается в том, что гораздо ярче и ясней сделается для новых поколений мера таланта. Как бы ни менялся социальный строй и кто бы ни пытался по-своему (и в своих политических целях) односторонне изобразить панораму русской литературы XX века и столь же односторонне определить ее вершины, остается неизменной мера постижения истины и жизни в качестве самой главной для художника. И продолжается непредсказуемый читательский – в поколениях – отбор любимых книг, остаются традиции нравственно-культурного предания нации.
Какое место в русской литературе XX века, а точнее, во второй его половине занимает Василий Белов? Современный литературный авторитет писателя делает подобный вопрос уместным. Но в поисках ответа, конечно, надо будет в предисловии к вошедшим в эту книгу двум повестям познакомить читателя и с другими произведениями Василия Белова.
В 1966 году Василий Белов, мало кому тогда известный, нежданно-негаданно оказался автором литературного манифеста, обозначившего новое явление в русской литературе. Именно «оказался», сам на то не рассчитывая. Потому что опубликовал Белов не манифест, а повесть, ту, которая и открывает эту книгу, – «Привычное дело». Причем дал повести как бы оправдательный (хотя, может, и лукавый) подзаголовок: «Из прошлого одной семьи». Кстати, подзаголовок этот при дальнейших публикациях исчез совершенно незаметно.
Журнал «Север», в котором была опубликована повесть «Привычное дело», не принадлежал к столичной ведущей группе журналов, вокруг которых и шли в 60-е годы литературные дискуссии. Скромный провинциальный журнал, издающийся в Петрозаводске. Но вот поди ж ты! Повесть «Привычное дело» немедленно обрела самую широкую известность. И более того, эта повесть была воспринята не только как литературный манифест. О ней заговорили как о значительном общественном явлении. Впрочем, такова традиция русской литературы, таково ее уникальное свойство, известное школьникам еще по курсу русской литературы XIX века. Кстати, оно хорошо известно и на Западе, причем не только литературоведам. Ведь писал же в своих мемуарах американский историк и публицист Г. Солсбери, что русская литература может больше дать сведений о состоянии своей страны, чем все стратеги и аналитики-советологи. В наше время можно услышать и прочитать, что теперь писатели утратили свое былое влияние на общественную жизнь и вообще нам нужна другая литература, без ненужных обязанностей учителя жизни. Однако возможно, что изменившееся положение литературы в жизни народа, отсутствие книг, о которых ведутся бурные споры, следует отнести к явлению временному. Сегодня не до повестей и романов, но в будущем, когда жизнь наладится, в Россию вернется и эта наша традиция. А если она так и не вернется, это станет подтверждением, насколько масштабные перемены происходят сейчас в умах и сердцах.
Как здесь уже говорилось, литературное произведение принадлежит прежде всего своему времени. Поэтому всегда интересно заглянуть в прошлое: как читали это произведение современники, что их волновало и что осталось незамеченным. Есть писатели, которые умеют схватить и передать поверхностные приметы своего времени, и это нравится читателю, но такая книга обычно недолговечна. А остаются в литературе книги, в которых отражены глубинные течения современной жизни, показана их историческая сущность, а не временная, злободневная.
Понятие «шестидесятники», употребляемое сейчас, когда речь идет о литературе 60-х годов XX века, не совсем точно, поскольку относит к этому движению только тех, кто придерживался, условно говоря, западнической позиции (как раз за это «шестидесятников» сейчас и попрекают). Меж тем 60-е годы следует рассматривать гораздо шире. Тогда же в русской литературе заявило о себе направление, получившее наименование «деревенская проза» – в противопоставление «городской», западнической. Значительно позднее, но тоже в порядке противопоставления «деревенщиков» стали считать продолжателями русских славянофилов XIX века.
Федор Абрамов, Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин, Владимир Солоухин, Василий Шукшин… Это и есть «деревенщики», устремления которых, по мнению литературной критики 60-х годов, и выразил с наибольшей ясностью Василий Белов в «Привычном деле». Отсюда и формулировка «литературный манифест», родившаяся в критических дискуссиях, а не в среде самих «деревенщиков».
По тем критическим атакам, которые были предприняты против повести Белова, можно представить себе, что? в 60-е годы считалось современным, прогрессивным – какие сюжеты, какие герои. Белова упрекали в идеализации патриархального, уходящего деревенского быта. Где писатель нашел такую отсталую, такую заброшенную деревню?! Всюду сейчас технический прогресс, тракторы и комбайны, животноводческие комплексы. Характерен для того времени искренний возглас одного из критиков: «Иван Африканович в качестве образца для подражания?! Нет уж, увольте!» Другой критик, увлеченный идеями научно-технической революции, сравнивал Ивана Африкановича с героями книг, повествующих о жизни научных институтов, и язвительно спрашивал: можно ли себе представить Ивана Африкановича, управляющего синхрофазотроном? В литературном обиходе 60-х годов этот синхрофазотрон представлялся верхом интеллектуальности. Критики, конечно, видели, что Белов превосходно нарисовал своего Ивана Африкановича. И вообще умеет «рисовать словом». Но, увы, Белов несовременный, отставший от времени писатель. Так что и его «манифест» зовет не вперед, а в прошлое.
Пройдет двадцать лет после первой публикации «Привычного дела», и Белов напишет роман об одичании, которое несет человечеству бездумное поклонение прогрессу, идеализация будущего в ущерб настоящему. Но об этом романе разговор дальше. И о герое романа, талантливом ученом Дмитрии Андреевиче Медведеве, осознавшем бесплодность рационалистического ума в сравнении с возможностями сердца и круто переломившем свою жизнь в поисках высшей духовной цели. Скажу только, что у большого писателя непременно образуется построенный его трудами особый мир, в котором все герои соотнесены друг с другом. Так с Ивана Африкановича начиналась важная для Белова проблема слепого разума и зрячего сердца.
Где отыскал писатель отсталую деревню Ивана Африкановича среди сплошь современной сельской действительности? Этот вопрос требует уточнения: в чем заключается собственно «отсталость»? Василий Белов родился в 1932 году в деревне Тимонихе Вологодской области, там и сейчас он подолгу живет и работает. У него гостят его русские друзья, приезжают иностранные гости и неизменно восторгаются и маленькой деревней, и ее окрестностями. Жителей в Тимонихе осталось совсем немного, однако деревенскую церковь Белов отстроил заново. Причем известно, что сам выполнял плотницкие работы, категорически отказав телевидению в съемках такой колоритной детали его сельской жизни, полагая это ненужным. Так вот, может ли называться отсталой деревня, в которой родился писатель с мировой славой? И может ли считаться примитивной деревенская жизнь, воспоминания о которой могут ворваться в итальянские впечатления: «Разглядывая с высоты коричневые балканские разветвления и голубые адриатические полотнища, я вновь переживаю восторг детства, снова живу чем-то подобным, таким же голубым, но не морским, а небесным, таким же золотистым, только не таким объяснимым. Восторг исчезает, когда его начинают объяснять. Я могу лишь раствориться в нем, в этом весеннем утре, еще перечислить то, что его составляет, да ведь даже и не перечислишь всего. Врезалась в сердечную память молодая, еще не седая от горя мама, веселый отец, братья и сестры, непостижимо большое синее небо, поющие вокруг петухи, крики сверстников, синие омута нашей речки, трава, вкусные пироги, новая красная ластиковая рубашка. Сотни, тысячи других ощущений… И все это объединялось одним беспричинным восторгом».
Посмотрите, как естественно сливается у Белова эта картина детства, летний день в северной русской деревне с голубизной итальянского неба, с полотнищами (русское слово!) Адриатического моря. Да, чувствуется, что Белов, как и многие русские прозаики, начинал свой путь в литературу с поэзии, да и сейчас пишет стихи. Но в этих впечатлениях об Италии, объединенных одним беспричинным восторгом, присутствует в глубине и важнейшее для Белова значение своего дома в России, значение той жизни, о которой он уполномочен рассказать всему миру, уполномочен всеми теми, кого он знает и любит с детства.
Собственно в этом и заключалась суть «манифеста». В 1960-е годы в литературе сложилось представление, что современный герой должен быть всегда в движении, всегда в пути. Он живет на колесах, все время что-то осваивает, покоряет. И мышление его всеохватно, глобального масштаба. Отсюда и укоры в адрес Ивана Африкановича, о которых шла речь выше. И распространенное, вполне дружественное мнение о Белове: он потому и не современен, что живет у себя дома.
Эту ситуацию проанализировал уже в 70-х годах критик Вадим Кожинов. Он напомнил, что как раз сто лет назад русская литературная критика считала Льва Толстого заведомо далеким от современности художником. Истинно современными писателями, умеющими изобразить текущую жизнь, указать современникам на насущные проблемы, считались у критиков второй половины XIX века ныне полузабытые Боборыкин, Шеллер-Михайлов, Омулевский… В укор Льву Толстому ставилось и то, что он пишет о русском дворянстве, которое уже уходит с авансцены русской жизни, а не о разночинной интеллигенции, выдвигающей из своей среды новых героев литературы. Но вот отошел XIX век, свершились войны и революции, и через сто лет стало совершенно ясно, что именно Лев Толстой дал глубочайшее и масштабнейшее художественное воплощение современной русской жизни, а писатели, казавшиеся когда-то «истинно современными», сумели зафиксировать лишь поверхностные и субъективно отобранные приметы своего времени. Причем пример Льва Толстого показывает, что именно «уходящее сословие» на грани своего исторического «ухода» с наибольшей глубиной и остротой выявляет и свою собственную природу, и свое значение и место в бытии нации, народа во всей его цельности, а тем самым и современную сущность целого народа.
В России XX века судьба «уходящего сословия» выпала крестьянству, теоретики уже не сомневались, что в предвидимом будущем традиционного земледельца заменят другие люди, далекие от крестьянского образа жизни. Этот исторический «уход» корневого и по-своему родовитого сословия совершался насильственно и, к сожалению, с одобрения прогрессивно мыслящей общественности, в том числе и на Западе. Посмотрите, как легко пишет о «раскрестьянивании» России знаменитый английский писатель Бернард Шоу, посетивший СССР в 1931 году: «Русская деревня так ужасна, что можно понять коммунистов, которые сжигают ее, как только уговаривают жителей вступить в колхоз и жить по-человечески». Наверное, Бернарду Шоу об этом рассказывали сопровождавшие его представители советской интеллигенции, хотя на самом деле при всех жестокостях раскулачивания и коллективизации до сжигания деревень не доходило – иначе где бы жить колхозникам!
Справедливость утверждения, что «уходящее сословие» на грани своего исторического «ухода» с наибольшей остротой выявляет свою собственную природу и сущность целого народа, подкрепляется убедительными доказательствами. Вопреки теории о главенстве в советском обществе рабочего класса, в русской литературе советского периода не было ярких произведений из жизни рабочих. Зато как значительна крестьянская тема! Это и творчество Сергея Есенина, и «Тихий Дон», «Поднятая целина» Шолохова, и Твардовский, которым восхищался в эмиграции Бунин, и «деревенская проза», и явившийся тогда же, в 60-х, Николай Рубцов… Само время выдвинуло перед литературой задачу сохранить, как в самом надежном хранилище, все те культурные и нравственные ценности, которые были созданы русским крестьянством на протяжении его многовековой истории. Сохранить крестьянскую философию, сохранить крестьянскую речь, запечатлеть человеческие типы…
Открываешь первую страницу повести «Привычное дело» и слышишь чей-то голос: «Парме-ен? Это где у меня Парменко-то? А вот он, Парменко. Замерз? Замерз, парень, замерз…» Мало-помалу голос обретает свою интонацию, свой характер. Какой-то Иван Африканович развязывает замерзшие вожжи, и становится ясно, что Пармен, Пармеша, может в ответ только встряхивать головой.
Не в лучшем виде предстает перед читателем при первом знакомстве Иван Африканович Дрынов. Ведь о чем он беседует с мерином, запряженным в дровни? О том, что выпил крепко с приятелем своим Мишкой. А начнет вспоминать, сколько у него детей, так всех перепутает. Зато помнит Пармена маленьким жеребенком и помнит его матку Пуговку. Она-то послушна была в оглоблях, а вот Парменка, когда семенной горох возили, угодил в канаву. И нынче не домой доставил Ивана Африкановича, а завез в соседнюю деревню.
Смешной в общем-то мужик. Комический персонаж. Вез в дровнях товар для магазина и поуродовал самовары. Взялся сватать Мишку к Нюшке из соседней деревни, так она их обоих выгнала… Это лишь после читатель увидит, что один из малолетних сыновей Ивана Африкановича нацепил на рубашонку боевой орден Славы. А затем и Иван Африканович к случаю вспомнит войну: как ходил в разведку и приволокли тогда разведчики пленного немца. Оказывается, у него есть и орден Красной Звезды, а именно эти ордена – Славы и Красной Звезды – считались самыми солдатскими и доставались действительно за доблесть и отвагу. Так что Иван Африканович по ходу повести вроде бы и повыше становится, и пошире в плечах. Герой войны, самой страшной за всю историю России, да и за всю человеческую историю. А наша армия и в эту войну – как и в первую германскую – была в основном крестьянской. Война тоже крестьянская тема. На родине Белова в Тимонихе установлен железный лист с именами тех, кто не вернулся с войны. Не вернулся и отец Белова. А Иван Африканович… «Пришел с войны – живого места нет, нога хромала, так и плясал с хромой ногой. Научился. Может, из-за этого и нога на поправку пошла, что плясал, давал ей развитие». Кстати, тогда же Иван Африканович и Библию, доставшуюся ему по наследству, наверное, старинную, променял на гармонь, чтобы играть для своей Катерины, но не успел даже на басах научиться трынкать – описали за недоимки и продали, а Библия у соседа не заинтересовала тех, кто собирал с деревни недоимки.
Как-то само собой сливаются воедино смешное и трагическое, лирика и эпос, малое и большое. И все это – в одном человеке, в одном характере. Не плоское изображение на листе, не одностороннее, а объемное, живое, меняющееся, поворачивающееся и так и сяк. Конечно, не образец для подражания. Критика 60-х годов судила об Иване Африкановиче, исходя из привычных тогда представлений о положительном герое современности.
В наше время, когда деревня вновь разорена и брошена на произвол судьбы, Иван Африканович может показаться более современным персонажем, чем тридцать лет назад. С коровой-кормилицей, потеря которой значила полный крах домашней экономики. С вечной заботой о том, как накосить корове сена на всю зиму. С вечным непониманием, чего же нужно от крестьянина властям: Москва по радио (а теперь и по телевидению) вторгается в каждую избу, а как докричаться из деревни до Москвы? И наконец, в России пьянство всегда было знаком самых плохих времен. Однако какими все-таки словами, с помощью каких привычных нам понятий можно определить характер Ивана Африкановича Дрынова? Что он за человек?
Вопрос этот обращен в повести «Привычное дело» в бо?льшей степени к возможностям сердца читателя, чем к возможностям рационалистического ума, – в том значении, которое вкладывал в эту антитезу другой герой Белова, ученый Медведев из романа «Все впереди».
Как-то не сразу приходит понимание, что «Привычное дело» – повесть о любви, которую пронесли через всю жизнь Иван Африканович и его Катерина. По убеждению Ивана Африкановича, самое главное в жизни – любовь, семья, дети. Увезли Катерину в больницу, и он себе места не находит, ссутулился, глубже стала тройная морщина на лбу. И сон приснился, будто сидят они вдвоем у любимого родничка, а он еще военной фуражкой поит Катерину серебряной водой: «Она что-то говорила ему, что-то спрашивала, но Иван Африканович не смог запомнить, что говорила, он помнил только ясное, острое ощущение близости Катерины, ощущение ее и его жалости и любви друг к другу…»
А какое глубокое потрясение испытывает Иван Африканович, похоронив Катерину. И когда он спустя дни находит в лесу висящий на ветке женский платок. Запах Катерининых волос не могли выдуть лесные ветры. Не этой ли находкой можно объяснить, почему он, всегда ходивший по лесу уверенно, как по деревенской улице, заблудился и чуть не погиб? И кончается повесть осенним днем, когда Иван Африканович срывает в огороде несколько гроздьев красной рябины и несет Катерине на кладбище: «Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя. Уж так худо, думал, за тобой следом. А вот оклемался… А твой голос помню. И всю тебя, Катерина, так помню, что… Да. Ты, значит, за робят не думай ничего. Поднимутся. Вон уж самый младший, Ванюшка-то, слова говорит… такой парень толковый и глазами весь в тебя. Я уж… да. Это, буду к тебе ходить-то, а ты меня и жди иногда… Катя… Ты, Катя, где есть-то? Милая, светлая моя, мне-то… Мне-то чего… Ну… что теперече… вон рябины тебе принес… Катя, голубушка…»
Иван Африканович весь задрожал. И никто не видел, как горе пластало его на похолодевшей, не обросшей травой земле, – никто этого не видел».
Две особенности сочетаются в писателе, знаменующем собой эпоху в жизни национальной литературы: сильно выраженный местный колорит и неосознанный всеобщий смысл произведения. Эта мысль принадлежит Томасу Стирнсу Элиоту, американскому писателю, Нобелевскому лауреату (1888–1965). Поясняя ее, Элиот писал: «Всеобщность никогда не появится в произведении, если писатель пишет не о том, что знает вдоль и поперек». Писателем местного колорита был Марк Твен, но для его читателей во всем мире Миссисипи – не только американская река с живущими на ее берегах американцами, это «река в ее высшем значении». Из русской литературы Элиот приводил в пример Достоевского и Чехова. Читая их, «мы оказываемся, по моим наблюдениям, заинтересованными прежде всего причудливым складом души русских людей; но потом мы начинаем понимать, что перед нами всего лишь необычный способ выражения тех мыслей и чувств, которые мы все испытываем и знаем».
В современной русской литературе мысли и чувства русского человека, а значит, и общечеловеческие мысли и чувства, выражены и в донском колорите Шолохова, и в сибирском Распутина и Шукшина, и в колорите Русского Севера у Белова. В 1960-е годы, кроме понимания, что значит «писатель у себя дома», явилось в качестве литературного термина «обращение к истокам». В русской жизни это было глубинным народным явлением: непостижимая тоска по своей «малой родине». Вот и в «Привычном деле» брат Катерины Митька и в Северодвинске поработал, в секретном городе, где делают подводные лодки, и моряком сделался, ходит в загранплавание, но, дождавшись отпуска, едет не на курорт, а домой, в свою «отсталую» деревню. Вообще летом в деревне полно таких отпускников. Началось это в 1960-е годы и было вызвано не материальными причинами, как в наши дни. Чувством вины, наверное. Но не только. Чего-то людям стало не хватать в романтической жизни на колесах, воспетой в 1960-х годах и поэтами, и авторами «молодежных повестей» (был и такой литературный термин).
Проводит свой отпуск в родной деревне и Константин Платонович Зорин, герой повести «Плотницкие рассказы». У Белова Костя Зорин – герой многих рассказов, написанных после этой повести, впервые опубликованной в 1968 году в самом популярном тогда журнале «Новый мир». Зорин по профессии строитель, прораб, задерганный на работе начальством, а дома женой, где-то подхватившей идеи «воспитания по доктору Споку» (так и озаглавлен один из рассказов) и применяющей эту модную методику не только к дочери Ляльке, но и к мужу. В цикле рассказов о Косте Зорине «деревенщик» Белов впервые затрагивает проблемы городской жизни, прежде всего проблемы семейные, которые станут главными в романе «Всё впереди».
В «Плотницких рассказах» Белов сделал Костю Зорина героем-повествователем, все события излагаются от его «я». Можно строить догадки, что писатель отдал герою-повествователю какие-то случаи из собственного детства и юности, например поход за справкой, но, в общем-то, это типичный путь в «большую жизнь» для деревенского подростка. Все уезжали. И девчонки тоже. Как например, Анфея, которая в городе зовется Нелли. Она, как и Костя, проводит отпуск в родной деревне, согласна откликаться на Анфею – и все же: «В деревне разве это жизнь, ежели и выйти некуда, и поговорить не с кем». А для Кости самая радость – разговоры, плотницкие рассказы, красочные узоры деревенской речи. Вся повесть построена на рассказах о своей жизни Олеши Смолина и Авинера Козонкова, на разговорах с деревенскими старухами, да и речи на колхозном собрании не менее колоритны. Заглянув в Толковый словарь Владимира Даля, можно найти у него все эти краски северного русского языка с пометкой «влг.» (вологодское): обряжуха – порядок, опушенный дом – обшитый тесом (за что и придирались к Олеше Смолину, чуть не зачислив в кулаки), натодельно – нарочно (в наше время и вместо «нарочно» скажут «специально», именно так поясняет это слово в повести Костя Зорин, которому оно очень нравится). Но обратите внимание, как и без перетолкования на расхожую, обесцветившуюся, привычную нам речь могут быть понятными сразу эти старинные, однако новые для многих современных читателей слова. Ведь они предстают перед нами в такой естественной для них среде, на такой живой и детально прописанной картине деревенского житья-бытья, деревенских работ, деревенского отдыха, деревенских шуток. Не «устар.» – не устаревшие, не ушедшие, нужные людям слова.
Из русской классики нам известно, как обогащает язык писателя выразительное слово, почерпнутое из нелитературной, народной речи. У Толстого в «Хаджи-Мурате» говорится в самом начале: «Я шел наизволок по пыльной черноземной дороге». Наизволок – значит вверх по некрутому подъему. То есть не круто в гору. Пологий скат. И у Шолохова в «Тихом Доне»: «Гетманский шлях тянулся наизволок». Казалось бы, короче и понятнее о некрутом подъеме не скажешь. Однако в современном словаре русского языка можно прочесть, что «наизволок» – «обл.», областное слово. И тут есть своя логика. Как-то не получается, что городской проспект или автомагистраль протянулись наизволок. Другой пейзаж, другой темп жизни.
Художественное мастерство Белова и должно соответствовать избранной им крестьянской теме. И здесь он, конечно, выступает как продолжатель традиции русской классики в новых условиях, когда крестьянство – об этом шла речь выше – с наибольшей глубиной и остротой выразило не только свою собственную природу и свое значение в бытии нации, но и во многом сущность всего народа. Причем обновление русского литературного языка, которое в литературоведении связывают с именами Белова, Астафьева, Распутина и других писателей этого ряда, объясняется не только обращением к «истокам». Русскую народную речь, ее отдельные ручейки, имеющие свои места обитания, перемешала, перебаламутила война, да и после войны продолжалась неслыханная по масштабам миграция населения – из села в город, из центральной России на восток, в Сибирь. И обратите внимание, как гибок литературный стиль Белова, как чуток его слух к слову. В городских рассказах и повестях, в путевых очерках у него совсем другая «словесная походка» (это определение стиля придумал Сергей Есенин).
А как по-разному звучат в «Плотницких рассказах» голоса Олеши Смолина и Авинера Козонкова! Живут в одной деревне, ровесники, а начнут вспоминать одни и те же эпизоды из прошлого – непохожи. Схватятся в споре: у Олеши – мягкая насмешка, у Авинера – злость. Олеша на жизнь не в обиде, хотя была она у него нелегкой и во многих его бедах повинен Авинер, выслуживавшийся перед властью. Зато самому Авинеру представляется, что его заслуги перед советской властью не оценены по достоинству. И в деревне к обоим разное отношение. Одно дело Олеша с его верой, что жить надо по совести: «Без совести жить – не жить. Только друг дружку переколотим». Олеша всю жизнь честно трудился, он и теперь всю зиму на ферму выходил. Другое дело Авинер, сроду отлынивавший от настоящей работы, у него даже справка хранится из больницы, что он вывихнул ногу и по этому случаю освобожден от тяжелых работ. Бумажная душа, все заметочки писал о недостатках и соседей «брал на карандаш». Поэтому свои, деревенские, склонны называть его не Авинером (местная переделка имеющегося в святцах Авенира), а полностью, словно начальника, – Авинером Павловичем. Зато Олеша – это Олеша, совсем по-другому выговаривается. Ласково и уважительно. Такой вот особый слух деревенских жителей к слову.
Насколько современны для нас эти два человеческих типа, два характера? Олеша и Авинер Павлович, наверное, не дожили до перестройки. Но представим себе, если бы дожили. В таком случае Олеша в наши дни работал бы, как всегда, в доме и на ферме, баньку кому-нибудь подправлял или строил заново. Ну а Авинера Павловича мы бы и сегодня увидели в рядах яростных борцов. Он боролся бы за роспуск колхозов и брал бы несогласных с ним соседей «на карандаш» с таким же энтузиазмом, с каким помогал советской власти раскулачивать «мироедов» и создавать колхоз.
Это очень важная для Белова тема, он обращается к ней и в публицистических статьях. При любом устройстве человеческого общества, на любом уровне текущей жизни не перестает проявляться в самых разных вариантах вечное противоборство силы созидающей и силы разрушающей. Какая сила переборет? Белов убежден, что люди, лишенные творческой созидательной силы, способны лишь к противостоянию и драке. Этим объясняются, по Белову, и крайности в искусстве. «Подлинное, настоящее искусство чем полнее, тем свободнее от крайностей. Крайность тут одна – непостижимость», – говорит Белов.
А Костя Зорин – вполне в духе нашего времени, а не далеких 60-х годов – решает установить между Олешей и Авинером Павловичем «общественное согласие». Им надо сесть и разобраться, кто прав, кто виноват. В открытую! «Это была явная провокация. Но я уже завелся и не мог остановиться, взывал к прогрессу и сыпал историческими примерами». Что ж… Разговор в открытую оказался тоже с историческими примерами. Как «раскрестьянивали» Россию – в лицах и эпизодах. Трудолюбивого мужика, бывшего красноармейца, воевавшего за советскую власть против Колчака, за что записали в кулаки? За то, что у него Авинер насчитал два или три самовара! А сапожника, обувавшего деревню, за что в кулаки? А директивы кто спускал, чтобы по озими пасти коров? На все эти вопросы Олеши у Авинера Павловича давно есть ответ: «А ты как был классовый враг, так и остался». Однако у самого-то Авинера Павловича каков итог жизни? Его ближний начальник Табаков теперь в Москве персональную пенсию получает, а Авинер Павлович так ничего и не нажил. Как говорит Олеша, Авинер Павлович из тех бедняков, которые работать не любили: «…оне и сейчас бедняки вроде тебя, ежели на должность не вышли». Вот тут-то Козонков не стерпел попрека бедностью и кинулся на Олешу. Драку Костя смог разнять только с помощью подоспевшей жены Олеши. И кого же она посчитала виновником драки? Одного Олешу…
Десять лет спустя после «Плотницких рассказов» Белов опубликовал, быть может, самую удивительную свою книгу: «Лад. Очерки о народной эстетике» (1979). Или, как уточняет писатель в конце книги, «о северной народной эстетике». Это целый свод правил. Как сеяли и как собирали урожай, как строили дома и как пряли пряжу. Об играх, о ярмарках, об искусстве народного слова. То есть обо всем народном ладе, устройстве жизни, ритме жизни. О русском понимании красоты, о трудолюбии, нравственности, народной философии… Когда в России начали бороться после революции против христианского миросозерцания, то эта борьба была направлена и против миросозерцания народного, против добра, правды и сострадания, которые являются понятиями и религиозными и национальными. Вопрос в том, насколько удалась эта борьба.
«Стихия народной жизни необъятна и ни с чем не соизмерима, – пишет Белов в предисловии от автора к «Ладу». – Постичь ее до конца никому не удавалось и, будем надеяться, никогда не удастся».
Эти слова могут послужить ключом к пониманию финала повести «Плотницкие рассказы». Костя Зорин всю ночь не спал, испытывая отвращение ко всему на свете, в том числе и к самому себе. Вдобавок он еще и простужен. Зачем ему понадобилось втравливать стариков в спор? Теперь и в деревню не поездишь в отпуск. А утром он идет к Олеше и видит там Козонкова. Сидят и мирно беседуют, как старые ветераны. Оказывается, они уже удивлялись, чего Костя не идет, хотели послать за ним Олешину жену. Простуженному Косте заваривают чай с малиной, и жизнь в его глазах становится хорошей.
Белову и нужно, чтобы никому и никогда не удалось постичь, почему на другой день после драки Олеша и Авинер сидят и мирно беседуют. Это и есть непостижимость, о которой писатель говорил применительно к произведению искусства. Или «тайна», без которой, по Достоевскому, немыслимо истинно художественное произведение.
Василий Иванович Белов
Школьная библиотека (Детская литература)
В сборник произведений В. И. Белова вошли повести «Привычное дело» и «Плотницкие рассказы», в которых ярко раскрывается самобытный русский характер.
Василий Иванович Белов
Повести
© Издательство «Детская литература». Оформление серии, 2005
© В. И. Белов. Текст, 1998
© И. Стрелкова. Вступительная статья, 1998
© Л. Бирюков. Иллюстрации, 1998
Истина и жизнь
Завершилось очередное столетие, и наконец-то собралась вся целиком у нас дома, в России, русская литература XX века. Исчезла пограничная черта, проведенная по отметке «1917 год» и отделявшая дореволюционную литературу от советской. Исчезло навязанное противопоставление писателей, оставшихся после революции на родине, и писателей, оказавшихся в эмиграции. Исчезло также и деление на официальную литературу, издававшуюся в СССР в условиях политической цензуры, и диссидентскую, публиковавшуюся за рубежом, нередко на условиях тоже идеологических.
В XX веке Россия на собственном историческом опыте убедилась, что, как бы ни разделяли писателей их политические убеждения, а также время и расстояние, национальная литература остается единой. И в этой единой литературе все книги и все писательские имена оказываются на своем подобающем месте, включая и те произведения, которые пришли к читателю спустя годы после того, как были написаны. Они возвращены и сегодняшним читателям, и тому времени, когда создавались. В этом отношении примечательно включение в круг современного чтения церковных писателей, прежде не издававшихся, и одновременно с ними памятников литературы Древней Руси, пребывавших в забвении.
Единство русской литературы XX века (со всеми ее противоречиями) можно считать драгоценным достоянием новых (и будущих) поколений. Иной круг чтения, чем у прежних поколений. Не такая, как еще совсем недавно, школьная программа по литературе. И самое, быть может, главное заключается в том, что гораздо ярче и ясней сделается для новых поколений мера таланта. Как бы ни менялся социальный строй и кто бы ни пытался по-своему (и в своих политических целях) односторонне изобразить панораму русской литературы XX века и столь же односторонне определить ее вершины, остается неизменной мера постижения истины и жизни в качестве самой главной для художника. И продолжается непредсказуемый читательский – в поколениях – отбор любимых книг, остаются традиции нравственно-культурного предания нации.
Какое место в русской литературе XX века, а точнее, во второй его половине занимает Василий Белов? Современный литературный авторитет писателя делает подобный вопрос уместным. Но в поисках ответа, конечно, надо будет в предисловии к вошедшим в эту книгу двум повестям познакомить читателя и с другими произведениями Василия Белова.
В 1966 году Василий Белов, мало кому тогда известный, нежданно-негаданно оказался автором литературного манифеста, обозначившего новое явление в русской литературе. Именно «оказался», сам на то не рассчитывая. Потому что опубликовал Белов не манифест, а повесть, ту, которая и открывает эту книгу, – «Привычное дело». Причем дал повести как бы оправдательный (хотя, может, и лукавый) подзаголовок: «Из прошлого одной семьи». Кстати, подзаголовок этот при дальнейших публикациях исчез совершенно незаметно.
Журнал «Север», в котором была опубликована повесть «Привычное дело», не принадлежал к столичной ведущей группе журналов, вокруг которых и шли в 60-е годы литературные дискуссии. Скромный провинциальный журнал, издающийся в Петрозаводске. Но вот поди ж ты! Повесть «Привычное дело» немедленно обрела самую широкую известность. И более того, эта повесть была воспринята не только как литературный манифест. О ней заговорили как о значительном общественном явлении. Впрочем, такова традиция русской литературы, таково ее уникальное свойство, известное школьникам еще по курсу русской литературы XIX века. Кстати, оно хорошо известно и на Западе, причем не только литературоведам. Ведь писал же в своих мемуарах американский историк и публицист Г. Солсбери, что русская литература может больше дать сведений о состоянии своей страны, чем все стратеги и аналитики-советологи. В наше время можно услышать и прочитать, что теперь писатели утратили свое былое влияние на общественную жизнь и вообще нам нужна другая литература, без ненужных обязанностей учителя жизни. Однако возможно, что изменившееся положение литературы в жизни народа, отсутствие книг, о которых ведутся бурные споры, следует отнести к явлению временному. Сегодня не до повестей и романов, но в будущем, когда жизнь наладится, в Россию вернется и эта наша традиция. А если она так и не вернется, это станет подтверждением, насколько масштабные перемены происходят сейчас в умах и сердцах.
Как здесь уже говорилось, литературное произведение принадлежит прежде всего своему времени. Поэтому всегда интересно заглянуть в прошлое: как читали это произведение современники, что их волновало и что осталось незамеченным. Есть писатели, которые умеют схватить и передать поверхностные приметы своего времени, и это нравится читателю, но такая книга обычно недолговечна. А остаются в литературе книги, в которых отражены глубинные течения современной жизни, показана их историческая сущность, а не временная, злободневная.
Понятие «шестидесятники», употребляемое сейчас, когда речь идет о литературе 60-х годов XX века, не совсем точно, поскольку относит к этому движению только тех, кто придерживался, условно говоря, западнической позиции (как раз за это «шестидесятников» сейчас и попрекают). Меж тем 60-е годы следует рассматривать гораздо шире. Тогда же в русской литературе заявило о себе направление, получившее наименование «деревенская проза» – в противопоставление «городской», западнической. Значительно позднее, но тоже в порядке противопоставления «деревенщиков» стали считать продолжателями русских славянофилов XIX века.
Федор Абрамов, Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин, Владимир Солоухин, Василий Шукшин… Это и есть «деревенщики», устремления которых, по мнению литературной критики 60-х годов, и выразил с наибольшей ясностью Василий Белов в «Привычном деле». Отсюда и формулировка «литературный манифест», родившаяся в критических дискуссиях, а не в среде самих «деревенщиков».
По тем критическим атакам, которые были предприняты против повести Белова, можно представить себе, что? в 60-е годы считалось современным, прогрессивным – какие сюжеты, какие герои. Белова упрекали в идеализации патриархального, уходящего деревенского быта. Где писатель нашел такую отсталую, такую заброшенную деревню?! Всюду сейчас технический прогресс, тракторы и комбайны, животноводческие комплексы. Характерен для того времени искренний возглас одного из критиков: «Иван Африканович в качестве образца для подражания?! Нет уж, увольте!» Другой критик, увлеченный идеями научно-технической революции, сравнивал Ивана Африкановича с героями книг, повествующих о жизни научных институтов, и язвительно спрашивал: можно ли себе представить Ивана Африкановича, управляющего синхрофазотроном? В литературном обиходе 60-х годов этот синхрофазотрон представлялся верхом интеллектуальности. Критики, конечно, видели, что Белов превосходно нарисовал своего Ивана Африкановича. И вообще умеет «рисовать словом». Но, увы, Белов несовременный, отставший от времени писатель. Так что и его «манифест» зовет не вперед, а в прошлое.
Пройдет двадцать лет после первой публикации «Привычного дела», и Белов напишет роман об одичании, которое несет человечеству бездумное поклонение прогрессу, идеализация будущего в ущерб настоящему. Но об этом романе разговор дальше. И о герое романа, талантливом ученом Дмитрии Андреевиче Медведеве, осознавшем бесплодность рационалистического ума в сравнении с возможностями сердца и круто переломившем свою жизнь в поисках высшей духовной цели. Скажу только, что у большого писателя непременно образуется построенный его трудами особый мир, в котором все герои соотнесены друг с другом. Так с Ивана Африкановича начиналась важная для Белова проблема слепого разума и зрячего сердца.
Где отыскал писатель отсталую деревню Ивана Африкановича среди сплошь современной сельской действительности? Этот вопрос требует уточнения: в чем заключается собственно «отсталость»? Василий Белов родился в 1932 году в деревне Тимонихе Вологодской области, там и сейчас он подолгу живет и работает. У него гостят его русские друзья, приезжают иностранные гости и неизменно восторгаются и маленькой деревней, и ее окрестностями. Жителей в Тимонихе осталось совсем немного, однако деревенскую церковь Белов отстроил заново. Причем известно, что сам выполнял плотницкие работы, категорически отказав телевидению в съемках такой колоритной детали его сельской жизни, полагая это ненужным. Так вот, может ли называться отсталой деревня, в которой родился писатель с мировой славой? И может ли считаться примитивной деревенская жизнь, воспоминания о которой могут ворваться в итальянские впечатления: «Разглядывая с высоты коричневые балканские разветвления и голубые адриатические полотнища, я вновь переживаю восторг детства, снова живу чем-то подобным, таким же голубым, но не морским, а небесным, таким же золотистым, только не таким объяснимым. Восторг исчезает, когда его начинают объяснять. Я могу лишь раствориться в нем, в этом весеннем утре, еще перечислить то, что его составляет, да ведь даже и не перечислишь всего. Врезалась в сердечную память молодая, еще не седая от горя мама, веселый отец, братья и сестры, непостижимо большое синее небо, поющие вокруг петухи, крики сверстников, синие омута нашей речки, трава, вкусные пироги, новая красная ластиковая рубашка. Сотни, тысячи других ощущений… И все это объединялось одним беспричинным восторгом».
Посмотрите, как естественно сливается у Белова эта картина детства, летний день в северной русской деревне с голубизной итальянского неба, с полотнищами (русское слово!) Адриатического моря. Да, чувствуется, что Белов, как и многие русские прозаики, начинал свой путь в литературу с поэзии, да и сейчас пишет стихи. Но в этих впечатлениях об Италии, объединенных одним беспричинным восторгом, присутствует в глубине и важнейшее для Белова значение своего дома в России, значение той жизни, о которой он уполномочен рассказать всему миру, уполномочен всеми теми, кого он знает и любит с детства.
Собственно в этом и заключалась суть «манифеста». В 1960-е годы в литературе сложилось представление, что современный герой должен быть всегда в движении, всегда в пути. Он живет на колесах, все время что-то осваивает, покоряет. И мышление его всеохватно, глобального масштаба. Отсюда и укоры в адрес Ивана Африкановича, о которых шла речь выше. И распространенное, вполне дружественное мнение о Белове: он потому и не современен, что живет у себя дома.
Эту ситуацию проанализировал уже в 70-х годах критик Вадим Кожинов. Он напомнил, что как раз сто лет назад русская литературная критика считала Льва Толстого заведомо далеким от современности художником. Истинно современными писателями, умеющими изобразить текущую жизнь, указать современникам на насущные проблемы, считались у критиков второй половины XIX века ныне полузабытые Боборыкин, Шеллер-Михайлов, Омулевский… В укор Льву Толстому ставилось и то, что он пишет о русском дворянстве, которое уже уходит с авансцены русской жизни, а не о разночинной интеллигенции, выдвигающей из своей среды новых героев литературы. Но вот отошел XIX век, свершились войны и революции, и через сто лет стало совершенно ясно, что именно Лев Толстой дал глубочайшее и масштабнейшее художественное воплощение современной русской жизни, а писатели, казавшиеся когда-то «истинно современными», сумели зафиксировать лишь поверхностные и субъективно отобранные приметы своего времени. Причем пример Льва Толстого показывает, что именно «уходящее сословие» на грани своего исторического «ухода» с наибольшей глубиной и остротой выявляет и свою собственную природу, и свое значение и место в бытии нации, народа во всей его цельности, а тем самым и современную сущность целого народа.
В России XX века судьба «уходящего сословия» выпала крестьянству, теоретики уже не сомневались, что в предвидимом будущем традиционного земледельца заменят другие люди, далекие от крестьянского образа жизни. Этот исторический «уход» корневого и по-своему родовитого сословия совершался насильственно и, к сожалению, с одобрения прогрессивно мыслящей общественности, в том числе и на Западе. Посмотрите, как легко пишет о «раскрестьянивании» России знаменитый английский писатель Бернард Шоу, посетивший СССР в 1931 году: «Русская деревня так ужасна, что можно понять коммунистов, которые сжигают ее, как только уговаривают жителей вступить в колхоз и жить по-человечески». Наверное, Бернарду Шоу об этом рассказывали сопровождавшие его представители советской интеллигенции, хотя на самом деле при всех жестокостях раскулачивания и коллективизации до сжигания деревень не доходило – иначе где бы жить колхозникам!
Справедливость утверждения, что «уходящее сословие» на грани своего исторического «ухода» с наибольшей остротой выявляет свою собственную природу и сущность целого народа, подкрепляется убедительными доказательствами. Вопреки теории о главенстве в советском обществе рабочего класса, в русской литературе советского периода не было ярких произведений из жизни рабочих. Зато как значительна крестьянская тема! Это и творчество Сергея Есенина, и «Тихий Дон», «Поднятая целина» Шолохова, и Твардовский, которым восхищался в эмиграции Бунин, и «деревенская проза», и явившийся тогда же, в 60-х, Николай Рубцов… Само время выдвинуло перед литературой задачу сохранить, как в самом надежном хранилище, все те культурные и нравственные ценности, которые были созданы русским крестьянством на протяжении его многовековой истории. Сохранить крестьянскую философию, сохранить крестьянскую речь, запечатлеть человеческие типы…
Открываешь первую страницу повести «Привычное дело» и слышишь чей-то голос: «Парме-ен? Это где у меня Парменко-то? А вот он, Парменко. Замерз? Замерз, парень, замерз…» Мало-помалу голос обретает свою интонацию, свой характер. Какой-то Иван Африканович развязывает замерзшие вожжи, и становится ясно, что Пармен, Пармеша, может в ответ только встряхивать головой.
Не в лучшем виде предстает перед читателем при первом знакомстве Иван Африканович Дрынов. Ведь о чем он беседует с мерином, запряженным в дровни? О том, что выпил крепко с приятелем своим Мишкой. А начнет вспоминать, сколько у него детей, так всех перепутает. Зато помнит Пармена маленьким жеребенком и помнит его матку Пуговку. Она-то послушна была в оглоблях, а вот Парменка, когда семенной горох возили, угодил в канаву. И нынче не домой доставил Ивана Африкановича, а завез в соседнюю деревню.
Смешной в общем-то мужик. Комический персонаж. Вез в дровнях товар для магазина и поуродовал самовары. Взялся сватать Мишку к Нюшке из соседней деревни, так она их обоих выгнала… Это лишь после читатель увидит, что один из малолетних сыновей Ивана Африкановича нацепил на рубашонку боевой орден Славы. А затем и Иван Африканович к случаю вспомнит войну: как ходил в разведку и приволокли тогда разведчики пленного немца. Оказывается, у него есть и орден Красной Звезды, а именно эти ордена – Славы и Красной Звезды – считались самыми солдатскими и доставались действительно за доблесть и отвагу. Так что Иван Африканович по ходу повести вроде бы и повыше становится, и пошире в плечах. Герой войны, самой страшной за всю историю России, да и за всю человеческую историю. А наша армия и в эту войну – как и в первую германскую – была в основном крестьянской. Война тоже крестьянская тема. На родине Белова в Тимонихе установлен железный лист с именами тех, кто не вернулся с войны. Не вернулся и отец Белова. А Иван Африканович… «Пришел с войны – живого места нет, нога хромала, так и плясал с хромой ногой. Научился. Может, из-за этого и нога на поправку пошла, что плясал, давал ей развитие». Кстати, тогда же Иван Африканович и Библию, доставшуюся ему по наследству, наверное, старинную, променял на гармонь, чтобы играть для своей Катерины, но не успел даже на басах научиться трынкать – описали за недоимки и продали, а Библия у соседа не заинтересовала тех, кто собирал с деревни недоимки.
Как-то само собой сливаются воедино смешное и трагическое, лирика и эпос, малое и большое. И все это – в одном человеке, в одном характере. Не плоское изображение на листе, не одностороннее, а объемное, живое, меняющееся, поворачивающееся и так и сяк. Конечно, не образец для подражания. Критика 60-х годов судила об Иване Африкановиче, исходя из привычных тогда представлений о положительном герое современности.
В наше время, когда деревня вновь разорена и брошена на произвол судьбы, Иван Африканович может показаться более современным персонажем, чем тридцать лет назад. С коровой-кормилицей, потеря которой значила полный крах домашней экономики. С вечной заботой о том, как накосить корове сена на всю зиму. С вечным непониманием, чего же нужно от крестьянина властям: Москва по радио (а теперь и по телевидению) вторгается в каждую избу, а как докричаться из деревни до Москвы? И наконец, в России пьянство всегда было знаком самых плохих времен. Однако какими все-таки словами, с помощью каких привычных нам понятий можно определить характер Ивана Африкановича Дрынова? Что он за человек?
Вопрос этот обращен в повести «Привычное дело» в бо?льшей степени к возможностям сердца читателя, чем к возможностям рационалистического ума, – в том значении, которое вкладывал в эту антитезу другой герой Белова, ученый Медведев из романа «Все впереди».
Как-то не сразу приходит понимание, что «Привычное дело» – повесть о любви, которую пронесли через всю жизнь Иван Африканович и его Катерина. По убеждению Ивана Африкановича, самое главное в жизни – любовь, семья, дети. Увезли Катерину в больницу, и он себе места не находит, ссутулился, глубже стала тройная морщина на лбу. И сон приснился, будто сидят они вдвоем у любимого родничка, а он еще военной фуражкой поит Катерину серебряной водой: «Она что-то говорила ему, что-то спрашивала, но Иван Африканович не смог запомнить, что говорила, он помнил только ясное, острое ощущение близости Катерины, ощущение ее и его жалости и любви друг к другу…»
А какое глубокое потрясение испытывает Иван Африканович, похоронив Катерину. И когда он спустя дни находит в лесу висящий на ветке женский платок. Запах Катерининых волос не могли выдуть лесные ветры. Не этой ли находкой можно объяснить, почему он, всегда ходивший по лесу уверенно, как по деревенской улице, заблудился и чуть не погиб? И кончается повесть осенним днем, когда Иван Африканович срывает в огороде несколько гроздьев красной рябины и несет Катерине на кладбище: «Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя. Уж так худо, думал, за тобой следом. А вот оклемался… А твой голос помню. И всю тебя, Катерина, так помню, что… Да. Ты, значит, за робят не думай ничего. Поднимутся. Вон уж самый младший, Ванюшка-то, слова говорит… такой парень толковый и глазами весь в тебя. Я уж… да. Это, буду к тебе ходить-то, а ты меня и жди иногда… Катя… Ты, Катя, где есть-то? Милая, светлая моя, мне-то… Мне-то чего… Ну… что теперече… вон рябины тебе принес… Катя, голубушка…»
Иван Африканович весь задрожал. И никто не видел, как горе пластало его на похолодевшей, не обросшей травой земле, – никто этого не видел».
Две особенности сочетаются в писателе, знаменующем собой эпоху в жизни национальной литературы: сильно выраженный местный колорит и неосознанный всеобщий смысл произведения. Эта мысль принадлежит Томасу Стирнсу Элиоту, американскому писателю, Нобелевскому лауреату (1888–1965). Поясняя ее, Элиот писал: «Всеобщность никогда не появится в произведении, если писатель пишет не о том, что знает вдоль и поперек». Писателем местного колорита был Марк Твен, но для его читателей во всем мире Миссисипи – не только американская река с живущими на ее берегах американцами, это «река в ее высшем значении». Из русской литературы Элиот приводил в пример Достоевского и Чехова. Читая их, «мы оказываемся, по моим наблюдениям, заинтересованными прежде всего причудливым складом души русских людей; но потом мы начинаем понимать, что перед нами всего лишь необычный способ выражения тех мыслей и чувств, которые мы все испытываем и знаем».
В современной русской литературе мысли и чувства русского человека, а значит, и общечеловеческие мысли и чувства, выражены и в донском колорите Шолохова, и в сибирском Распутина и Шукшина, и в колорите Русского Севера у Белова. В 1960-е годы, кроме понимания, что значит «писатель у себя дома», явилось в качестве литературного термина «обращение к истокам». В русской жизни это было глубинным народным явлением: непостижимая тоска по своей «малой родине». Вот и в «Привычном деле» брат Катерины Митька и в Северодвинске поработал, в секретном городе, где делают подводные лодки, и моряком сделался, ходит в загранплавание, но, дождавшись отпуска, едет не на курорт, а домой, в свою «отсталую» деревню. Вообще летом в деревне полно таких отпускников. Началось это в 1960-е годы и было вызвано не материальными причинами, как в наши дни. Чувством вины, наверное. Но не только. Чего-то людям стало не хватать в романтической жизни на колесах, воспетой в 1960-х годах и поэтами, и авторами «молодежных повестей» (был и такой литературный термин).
Проводит свой отпуск в родной деревне и Константин Платонович Зорин, герой повести «Плотницкие рассказы». У Белова Костя Зорин – герой многих рассказов, написанных после этой повести, впервые опубликованной в 1968 году в самом популярном тогда журнале «Новый мир». Зорин по профессии строитель, прораб, задерганный на работе начальством, а дома женой, где-то подхватившей идеи «воспитания по доктору Споку» (так и озаглавлен один из рассказов) и применяющей эту модную методику не только к дочери Ляльке, но и к мужу. В цикле рассказов о Косте Зорине «деревенщик» Белов впервые затрагивает проблемы городской жизни, прежде всего проблемы семейные, которые станут главными в романе «Всё впереди».
В «Плотницких рассказах» Белов сделал Костю Зорина героем-повествователем, все события излагаются от его «я». Можно строить догадки, что писатель отдал герою-повествователю какие-то случаи из собственного детства и юности, например поход за справкой, но, в общем-то, это типичный путь в «большую жизнь» для деревенского подростка. Все уезжали. И девчонки тоже. Как например, Анфея, которая в городе зовется Нелли. Она, как и Костя, проводит отпуск в родной деревне, согласна откликаться на Анфею – и все же: «В деревне разве это жизнь, ежели и выйти некуда, и поговорить не с кем». А для Кости самая радость – разговоры, плотницкие рассказы, красочные узоры деревенской речи. Вся повесть построена на рассказах о своей жизни Олеши Смолина и Авинера Козонкова, на разговорах с деревенскими старухами, да и речи на колхозном собрании не менее колоритны. Заглянув в Толковый словарь Владимира Даля, можно найти у него все эти краски северного русского языка с пометкой «влг.» (вологодское): обряжуха – порядок, опушенный дом – обшитый тесом (за что и придирались к Олеше Смолину, чуть не зачислив в кулаки), натодельно – нарочно (в наше время и вместо «нарочно» скажут «специально», именно так поясняет это слово в повести Костя Зорин, которому оно очень нравится). Но обратите внимание, как и без перетолкования на расхожую, обесцветившуюся, привычную нам речь могут быть понятными сразу эти старинные, однако новые для многих современных читателей слова. Ведь они предстают перед нами в такой естественной для них среде, на такой живой и детально прописанной картине деревенского житья-бытья, деревенских работ, деревенского отдыха, деревенских шуток. Не «устар.» – не устаревшие, не ушедшие, нужные людям слова.
Из русской классики нам известно, как обогащает язык писателя выразительное слово, почерпнутое из нелитературной, народной речи. У Толстого в «Хаджи-Мурате» говорится в самом начале: «Я шел наизволок по пыльной черноземной дороге». Наизволок – значит вверх по некрутому подъему. То есть не круто в гору. Пологий скат. И у Шолохова в «Тихом Доне»: «Гетманский шлях тянулся наизволок». Казалось бы, короче и понятнее о некрутом подъеме не скажешь. Однако в современном словаре русского языка можно прочесть, что «наизволок» – «обл.», областное слово. И тут есть своя логика. Как-то не получается, что городской проспект или автомагистраль протянулись наизволок. Другой пейзаж, другой темп жизни.
Художественное мастерство Белова и должно соответствовать избранной им крестьянской теме. И здесь он, конечно, выступает как продолжатель традиции русской классики в новых условиях, когда крестьянство – об этом шла речь выше – с наибольшей глубиной и остротой выразило не только свою собственную природу и свое значение в бытии нации, но и во многом сущность всего народа. Причем обновление русского литературного языка, которое в литературоведении связывают с именами Белова, Астафьева, Распутина и других писателей этого ряда, объясняется не только обращением к «истокам». Русскую народную речь, ее отдельные ручейки, имеющие свои места обитания, перемешала, перебаламутила война, да и после войны продолжалась неслыханная по масштабам миграция населения – из села в город, из центральной России на восток, в Сибирь. И обратите внимание, как гибок литературный стиль Белова, как чуток его слух к слову. В городских рассказах и повестях, в путевых очерках у него совсем другая «словесная походка» (это определение стиля придумал Сергей Есенин).
А как по-разному звучат в «Плотницких рассказах» голоса Олеши Смолина и Авинера Козонкова! Живут в одной деревне, ровесники, а начнут вспоминать одни и те же эпизоды из прошлого – непохожи. Схватятся в споре: у Олеши – мягкая насмешка, у Авинера – злость. Олеша на жизнь не в обиде, хотя была она у него нелегкой и во многих его бедах повинен Авинер, выслуживавшийся перед властью. Зато самому Авинеру представляется, что его заслуги перед советской властью не оценены по достоинству. И в деревне к обоим разное отношение. Одно дело Олеша с его верой, что жить надо по совести: «Без совести жить – не жить. Только друг дружку переколотим». Олеша всю жизнь честно трудился, он и теперь всю зиму на ферму выходил. Другое дело Авинер, сроду отлынивавший от настоящей работы, у него даже справка хранится из больницы, что он вывихнул ногу и по этому случаю освобожден от тяжелых работ. Бумажная душа, все заметочки писал о недостатках и соседей «брал на карандаш». Поэтому свои, деревенские, склонны называть его не Авинером (местная переделка имеющегося в святцах Авенира), а полностью, словно начальника, – Авинером Павловичем. Зато Олеша – это Олеша, совсем по-другому выговаривается. Ласково и уважительно. Такой вот особый слух деревенских жителей к слову.
Насколько современны для нас эти два человеческих типа, два характера? Олеша и Авинер Павлович, наверное, не дожили до перестройки. Но представим себе, если бы дожили. В таком случае Олеша в наши дни работал бы, как всегда, в доме и на ферме, баньку кому-нибудь подправлял или строил заново. Ну а Авинера Павловича мы бы и сегодня увидели в рядах яростных борцов. Он боролся бы за роспуск колхозов и брал бы несогласных с ним соседей «на карандаш» с таким же энтузиазмом, с каким помогал советской власти раскулачивать «мироедов» и создавать колхоз.
Это очень важная для Белова тема, он обращается к ней и в публицистических статьях. При любом устройстве человеческого общества, на любом уровне текущей жизни не перестает проявляться в самых разных вариантах вечное противоборство силы созидающей и силы разрушающей. Какая сила переборет? Белов убежден, что люди, лишенные творческой созидательной силы, способны лишь к противостоянию и драке. Этим объясняются, по Белову, и крайности в искусстве. «Подлинное, настоящее искусство чем полнее, тем свободнее от крайностей. Крайность тут одна – непостижимость», – говорит Белов.
А Костя Зорин – вполне в духе нашего времени, а не далеких 60-х годов – решает установить между Олешей и Авинером Павловичем «общественное согласие». Им надо сесть и разобраться, кто прав, кто виноват. В открытую! «Это была явная провокация. Но я уже завелся и не мог остановиться, взывал к прогрессу и сыпал историческими примерами». Что ж… Разговор в открытую оказался тоже с историческими примерами. Как «раскрестьянивали» Россию – в лицах и эпизодах. Трудолюбивого мужика, бывшего красноармейца, воевавшего за советскую власть против Колчака, за что записали в кулаки? За то, что у него Авинер насчитал два или три самовара! А сапожника, обувавшего деревню, за что в кулаки? А директивы кто спускал, чтобы по озими пасти коров? На все эти вопросы Олеши у Авинера Павловича давно есть ответ: «А ты как был классовый враг, так и остался». Однако у самого-то Авинера Павловича каков итог жизни? Его ближний начальник Табаков теперь в Москве персональную пенсию получает, а Авинер Павлович так ничего и не нажил. Как говорит Олеша, Авинер Павлович из тех бедняков, которые работать не любили: «…оне и сейчас бедняки вроде тебя, ежели на должность не вышли». Вот тут-то Козонков не стерпел попрека бедностью и кинулся на Олешу. Драку Костя смог разнять только с помощью подоспевшей жены Олеши. И кого же она посчитала виновником драки? Одного Олешу…
Десять лет спустя после «Плотницких рассказов» Белов опубликовал, быть может, самую удивительную свою книгу: «Лад. Очерки о народной эстетике» (1979). Или, как уточняет писатель в конце книги, «о северной народной эстетике». Это целый свод правил. Как сеяли и как собирали урожай, как строили дома и как пряли пряжу. Об играх, о ярмарках, об искусстве народного слова. То есть обо всем народном ладе, устройстве жизни, ритме жизни. О русском понимании красоты, о трудолюбии, нравственности, народной философии… Когда в России начали бороться после революции против христианского миросозерцания, то эта борьба была направлена и против миросозерцания народного, против добра, правды и сострадания, которые являются понятиями и религиозными и национальными. Вопрос в том, насколько удалась эта борьба.
«Стихия народной жизни необъятна и ни с чем не соизмерима, – пишет Белов в предисловии от автора к «Ладу». – Постичь ее до конца никому не удавалось и, будем надеяться, никогда не удастся».
Эти слова могут послужить ключом к пониманию финала повести «Плотницкие рассказы». Костя Зорин всю ночь не спал, испытывая отвращение ко всему на свете, в том числе и к самому себе. Вдобавок он еще и простужен. Зачем ему понадобилось втравливать стариков в спор? Теперь и в деревню не поездишь в отпуск. А утром он идет к Олеше и видит там Козонкова. Сидят и мирно беседуют, как старые ветераны. Оказывается, они уже удивлялись, чего Костя не идет, хотели послать за ним Олешину жену. Простуженному Косте заваривают чай с малиной, и жизнь в его глазах становится хорошей.
Белову и нужно, чтобы никому и никогда не удалось постичь, почему на другой день после драки Олеша и Авинер сидят и мирно беседуют. Это и есть непостижимость, о которой писатель говорил применительно к произведению искусства. Или «тайна», без которой, по Достоевскому, немыслимо истинно художественное произведение.
Другие электронные книги автора Василий Иванович Белов
Другие аудиокниги автора Василий Иванович Белов
Мишук




 0
0