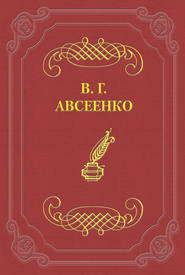По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Общественная психология в романе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Общественная психология в романе
Василий Григорьевич Авсеенко
«В образовании гражданских обществ, как и во всяком историческом процессе, неизбежен известный осадок, в котором скопляются единицы, выделяющиеся из общих форм жизни, так точно как в химическом процессе оседают на стенках сосуда частицы, неспособные к химическому соединению. Объем и злокачественность такого осадка обыкновенно увеличиваются в периоды общего брожения, когда предложенные к решению задачи колеблют общественную массу и нарушают спокойное равновесие, в котором она пребывала многие годы. В такие эпохи, под видимыми, исторически образовавшимися общественными слоями, накопляется особый подпольный слой, обыкновенно враждебно расположенный к устроившемуся над ним общественному организму, и во всяком случае совершенно чуждый историческим формам жизни, подле которой он накопился во мраке, представляя собою патологический нарост на живом теле…»
Василий Григорьевич Авсеенко
Общественная психология в романе
«Бесы», роман Федора Достоевского. В трех частях. С.-Петербург, 1873
В образовании гражданских обществ, как и во всяком историческом процессе, неизбежен известный осадок, в котором скопляются единицы, выделяющиеся из общих форм жизни, так точно как в химическом процессе оседают на стенках сосуда частицы, неспособные к химическому соединению. Объем и злокачественность такого осадка обыкновенно увеличиваются в периоды общего брожения, когда предложенные к решению задачи колеблют общественную массу и нарушают спокойное равновесие, в котором она пребывала многие годы. В такие эпохи, под видимыми, исторически образовавшимися общественными слоями, накопляется особый подпольный слой, обыкновенно враждебно расположенный к устроившемуся над ним общественному организму, и во всяком случае совершенно чуждый историческим формам жизни, подле которой он накопился во мраке, представляя собою патологический нарост на живом теле.
Общественное подполье, о котором мы говорим, образуется не из какого-либо определенного и однородного материала. Оно составляется из всех сословий; в нем сходятся люди всякого разбора, зараженные недугом полуобразования. «Полунаука, – говорит автор социального романа, заглавие которого приведено нами впереди этой статьи, – самый страшный бич человечества, хуже мора, голода, войны, неизвестный до нынешнего столетия. Полунаука это деспот, каких еще не приходило никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, пред которым все преклонилось с любовью и с суеверием до сих пор немыслимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему».[1 - Это рассуждение в «Бесах» вложено в уста Шатову в его споре со Ставрогиным (ч. 2, гл. 1).]
Полунаука, полуобразованность, есть именно та сила, которая выбрасывает из гармонии жизни отдельные единицы и вместе служит связующим звеном, объединяющим эти единицы в форму общественного подполья. Чтобы раз навсегда ясно определить предмет нашей речи, мы должны сказать, что под общественным подпольем мы разумеем именно подполье нашей интеллигенции, наносный слой, созданный у нас пролетариатом полуобразованности и вербующий свой контингент среди осадков образованных классов. Все, что потеряло связь с установившимися формами жизни; что враждебно им, что не находит себе места в гармонии исторического порядка, уходит в подполье, пронизывает народный организм злокачественными элементами, неприметно, но деятельно содействующими его разложению. У нас, при известной рыхлости нашего общественного порядка, выделение наносного слоя происходит вне всяких социальных причин, и есть всего чаще – простое искривление мысли, пораженной недугом полуобразованности. Наш умственный пролетариат возникает не из того, чтоб обилие интеллигентных сил превышало у нас запрос, предъявляемый на них жизнью, а из внутренней несостоятельности нашего образования. Так точно у нас есть местности, в которых рабочее сословие поражено безысходною нищетою – не потому, чтоб эти местности страдали излишеством рабочих рук, но вследствие собственной несостоятельности рабочего класса, пораженного отсутствием трезвости, экономии и образования.
В этом смысле подполье нашей интеллигенции есть явление вполне патологическое, порожденное беспочвенностью нашей цивилизации от вчерашнего числа и язвою полуобразованности. Каждый новый момент нашего развития отзывается глухим брожением и нередко приводит к тем сатурналиям мысли, с которыми нам приходится знакомиться на страницах нашей уголовной летописи и которые с такою художественною глубиною раскрыты и изображены во многих романах г. Достоевского. Самые дикие силлогизмы, самые уродливые искажения мысли и морали находят себе место в этой больной среде, приводя мало-помалу к окончательному извращению ума и человеческой природы…
Писатель, которого мы назвали и последнему произведению которого предполагаем посвятить эту статью, по свойствам своего оригинального таланта особенно чуток к этим болезням ума, к этим психическим недугам нашего странного времени. Подпольный мир интеллигенции нашел в нем своего сатирика-поэта, соединившего глубину наблюдающей и анализирующей мысли с замечательною силою художественного изображения. Никому из наших беллетристов не близок до такой степени этот уклонившийся от нормальных путей жизни мир нашего общественного подполья, эти больные натуры, которых, по выражению одного из действующих лиц романа «Бесы», «съела идея»[2 - Слова Петра Верховенского (ч, 3, гл. 4).] и которые с своим психическим недугом стоят на черте, отделяющей здорового человека от помешанного. Душевная патология этой категории людей изучена г. Достоевским в совершенстве и составляет ему одному принадлежащую область в нашей беллетристике, его литературную собственность. Свойства таланта этого писателя таковы, что нормальная, здоровая жизнь, ежедневная действительность обыкновенно исчезают из сферы его наблюдений, заслоняясь изображениями и анализом ненормальных явлений, в чем он особенно силен. Талант такого рода должен чувствовать себя совершенно в своей области, как скоро он спускается в наше умственное подполье, куда почти не проникает ясный дневной свет, где все предметы представляются при бледном, искусственном, полуфантастическом освещении. Особенная нервность и лихорадочность, присущая таланту г. Достоевского, как нельзя более гармонирует с искаженностью этой жизни. Свою силу в этой, совершенно особенной, области г. Достоевский обнаружил еще в романе «Преступление и наказание», прочитанном всею Россией и стоящем совершенно уединенно в нашей литературе. Мастерское и полное глубины изображение нравственного недуга, приводящего героя этого романа к бессмысленному преступлению, которое он впоследствии искупает раскаянием и возрождается к новой жизни, обнаружило в авторе особенную чуткость к болезненным явлениям духа, носящимся в воздухе как бы в виде какой-то новой эпидемии и поражающим слабые субъекты недугом тенденциозного полупомешательства.
В новом романе г. Достоевский раздвинул рамки своих наблюдений и от анализа больной человеческой натуры перешел к анализу больного общества, обобщая патологические явления до степени болезни века. Идея этого нового романа («Бесы») прозрачно выразилась в знаменательном эпиграфе, взятом автором из Евангелия от Луки:
«Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, увидя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся».
«Это точь-в-точь как наша Россия, – объясняет один из героев романа. – Эти бесы, выходящее из больного и входящие в свиней, – это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века. Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности… и сами будут проситься войти в свиней. Да и вошли уже может быть! Это мы, мы и те, и Петруша… et les autres avec lui, и я может быть первый, во главе, и мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится и „сядет у ног Иисусовых“… и будут все глядеть с изумлением»…[3 - Слова Степана Трофимовича Верховенского (ч. 3, гл. 7).]
Такою аналогией автор, оканчивая свой роман, объясняет идею и внутренний смысл произведения. Идея эта приводит роман в связь с общим направлением нашей современной беллетристики, задавшейся разработкой общественных тем и изучением нашего положения с отрицательной стороны его. Мы уже имели случай указывать в предыдущих статьях что наша так называемая художественная беллетристика, вопреки заверениям петербургской критики, будто бы для нее еще со времен Пушкина «общественные и нравственные интересы стали совершенно безразличны», постоянно обращается к общественным темам и пытается осветить наше современное положение, так что новый художественный роман есть в то же время и роман социальный. Эта заведомо лгущая критика, приветствовавшая как нечто небывалое и новый роман г. Эмиля Золя: «Ругон-Маккары», в котором она нашла (впрочем, по буквальному указанию самого автора) «естественную историю семейства» и якобы еще неведомую форму социального романа, могла бы найти в русской литературе совершенно выработанные образцы этой вовсе не новой формы. Более искреннее и близкое отношение к русской литературе помогло бы петербургской критике усмотреть, что приемы, приписываемые ей молодому французскому романисту, давно уже практикуются нашими талантливыми беллетристами с неменьшим искусством и, смеем думать, с большею глубиной мысли и содержания. Мы уже рассмотрели в предыдущей статье[4 - Статья «Практический нигилизм» в «Русском вестнике» (1873. № 7).] ряд произведений общественного характера, принадлежащих перу г. Писемского, и видели, как полно и живо отразилась в них одна из отрицательных сторон нашего положения. Роман «Бесы» исчерпывает другую сторону той же литературно-общественной задачи. «Все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России», – это, в сущности, почти то же, что «вся ложь русской жизни», отразившаяся во «Взбаламученном море» и в позднейших произведениях г. Писемского. Но талант г. Достоевского, в известном смысле прямо противоположный таланту г. Писемского, подошел к предмету своей художественной сатиры с совершенно другой стороны. Для такого крайнего реалиста, каков автор «Тысячи душ» и «Взбаламученного моря», ложь современной русской жизни, или, лучше сказать, движения, охватившего наше общество с шестидесятых годов, представилась в практических отклонениях от здравого смысла и морали, и эти отклонения он воспроизвел в живых, реальных типах, взятых им в их житейских столкновениях, Г. Достоевский, с его способностью наблюдать и анализировать преимущественно болезненные явления человеческой души, задался выследить роковое влияние новых идей на слабый ум и те нравственные изъявления, какие извращение этих идей производит в жалких, внутренне несостоятельных натурах, пораженных бессилием и бесплодием полуобразованности. Его роман представляет полное изучение любопытного психологического вопроса, поставленного в связи с нашим социальным положением и со всею суммою нравственных недугов, которыми заражена известная часть нашего общества.
Фабула романа «Бесы» отчасти как будто заимствована из пресловутого нечаевского дела. Оговоримся, что для цели, предложенной нами в настоящей статье, это обстоятельство не имеет никакого значения. Автор воспользовался своим материалом совершенно художественно, взяв из него то, что подходило к его литературной задаче, и обработал эти крупные детали сообразно идее и плану своего произведения. Выбор фабулы был, конечно, подсказан ему той очевидностью, в какой нечаевское дело представлялось самым характерным делом нашего подполья, наиболее отразившим на себе роковые искажения мысли и человеческой натуры и все симптомы нравственного недуга, которым поражен этот темный мир. Нечаевцы, без сомнения, целиком шли из подполья нашей интеллигенции и могут быть признаны самыми яркими его представителями, по крайней мере в тот период его существования, в каком было застигнуто судебным процессом.
Прежде, однако, чем ввести нас в эту подпольную среду, автор знакомит нас с личностью, по художественной рельефности изображения представляющею один из самых ярких типов в нашей литературе и принадлежащею к иной среде и иному поколению. Степан Трофимович Верховенский – человек сороковых годов. Он стоит совершенно в стороне от закопошившегося кругом него подполья, хотя читатель чувствует, что есть некоторая внутренняя связь между этим человеком и молодыми героями романа Связь эта весьма знаменательна и не ограничивается одним только кровным родством с главным вожаком подполья, существует еще несомненное внутреннее родство между бестолковостью и беспринципностью этого смешного старика, воплотившего в себе отрицательную сторону движения сороковых годов и сатурналиями умственными и нравственными молодого подполья. Указывается таким образом некоторая преемственность в развитии идей, и между двумя поколениями кладется мостик, на котором некоторые крайние представители того и другого могут удобно подать друг другу руку. Указания эти весьма знаменательны, так как в значительной степени обнаруживают воззрения автора на источник, из которого вышли самые дикие движения новейшего времени. Степан Трофимович, отчасти презирая сгруппировавшееся подле него подполье, отчасти втайне ему сочувствует (настоящее отношение его к подполью есть вопрос его личного самолюбия), поставлен автором над молодым поколением в качестве некоего pater familias[5 - Отец семейства (лат.).], весьма смешного в глазах молодежи и совершенно ею пренебрегаемого, родство с которым последняя тем не менее все-таки признает. Это, так сказать, старый бес, данный в прародители бесовской мелюзге, выросшей под сенью его седин.
Внутреннее сходство Степана Трофимовича с молодыми героями романа знаменательно во многих отношениях. Важнее всего, конечно, то, что Степан Трофимович – тоже полунаука, хотя и занимал в сороковых годах кафедру в одном из университетов. Но, при известных недостатках нашего университетского устройства, полунаука могла приютиться на профессорской кафедре так же удобно, как и в редакции журнала. В сороковых годах в наших университетах несомненно встречались люди полунауки, возмещавшие так называемыми «высшими взглядами» отсутствие серьезной эрудиции и пользовавшиеся благодаря тому же приему заметною репутацией. Степан Трофимович принадлежал именно к этой категории. Продержался он на кафедре очень недолго вследствие некоторой, незначительной неосторожности, по поводу которой от него потребовали объяснений. Он успел прочесть всего только несколько лекций, «и кажется об Аравитянах», и вообще в науке сделал «не так много и кажется совсем ничего». Успел он также защитить некоторую затейливую диссертацию, ловко и больно уколовшую тогдашних славянофилов, да еще напечатал в одном переводном журнале «начало одного глубочайшего исследования – кажется о причинах необычайного нравственного благородства каких-то рыцарей в какую-то эпоху, или что-то в этом роде». Глубокое исследование это так и осталось неоконченным, будто бы вследствие запрещения, а в сущности, просто потому, что автор поленился его окончить. Имелась еще в бумагах Степана Трофимовича поэма «в лирико-драматической форме и напоминающая вторую часть „Фауста“. Уверяли будто это поэму сочли в свое время опасною». «Я в прошлом году предлагал Степану Трофимовичу ее напечатать, – рассказывает лицо, от которого автор ведет свое повествование, – за совершенною ее в наше время невинностью, но он отклонил предложение с видимым неудовольствием. Мнение о совершенной невинности ему не понравилось». И вдруг эту поэму печатают в заграничном революционном сборнике, без ведома Степана Трофимовича…
«Он был сначала испуган, бросился у губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург, читал мне его два раза, но не отправил, не зная, кому адресовать. Одним словом, волновался целый месяц; но я убежден, что в таинственных изгибах сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать постель, и хоть ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло».
Степан Трофимович поспешил уверить себя, что карьера его разбита на всю жизнь «вихрем обстоятельств», и потому решился посвятить остаток дней своих – впрочем двадцатилетний – на то, чтобы стоять пред отчизной «воплощенною укоризной», по выражению поэта:
Воплощенной укоризною
Ты стоял перед отчизною,
Либерал-идеалист![6 - Из стихотворения Некрасова «Медвежья охота».]
Впрочем, позированье Степана Трофимовича нисколько не помешало ему пристроиться на благородных условиях приживальцем к богатой вдове, генеральше Варваре Петровне Ставрогиной, у которой он и прожил безмятежно целых двадцать лет, до той самой поры, когда застал его ряд катастроф, давших содержание роману.
Вся суть Степана Трофимовича, как родоначальника бесов, заключается в том, что он был полнейшим представителем полунауки сороковых годов, от которой современная полунаука, естественно, ведет свое происхождение. В этом качестве человека полунауки Степан Трофимович привил к своей невиннейшей душе некоторое количество гражданских мотивов, в силу которых не только без всякой основательной причины бросил университетскую карьеру, но и сохранил на всю жизнь уверенность в своем совершенном превосходстве над людьми своего поколения, а также хотя презрительное, но вместе с тем заискивающее отношение к молодежи, от которой он все ждет какого-то призыва: вы, мол, Степан Трофимович, наш отец и руководитель, придите к нам и ведите нас. Ожидание какой-то телеграммы, о котором иронически замечает автор, осталось у старого чудака на всю жизнь. Он несомненно принадлежит к категории тех «старых бесстыдников», которые никак не могут забыть своего либеральничанья сороковых годов и все ждут от молодого поколения признания их гражданских заслуг. Одни из этих людей, подобно выведенному в романе знаменитому писателю Кармазинову, продолжают до конца всячески заискивать у молодого поколения, не подозревая, что давно уже сделались в глазах его шутами; другие, как Степан Трофимович, глубоко оскорбляются тем, что гражданские заслуги их списаны со счетов, начинают брюзжать и порою даже прорываются до такой степени, что сами торжественно провозглашают разрыв с новым движением. В том и другом случае отношения этих людей к новому времени и новому поколению составляют вопрос личного самолюбия; убеждениями эти представители идеалистической полунауки предшествовавшего периода вообще не богаты, и вздумай молодое поколение хоть немножечко поманить их на свою сторону – они бросятся навстречу с распростертыми объятиями. Они инстинктивно сознают, что между ними и «новыми людьми» есть действительная связь, – и они не ошибаются.
Со Степаном Трофимовичем так и случилось – его поманили, и он бросился с распростертыми объятиями. Это случилось в конце пятидесятых годов, когда на минуту вспомнили о всех вообще либеральных репутациях предшествовавшего тридцатилетия. Степан Трофимович к тому времени сильно захандрил, мучась мыслью, что его забыли, что он никому не нужен, поэтому и на все тогдашнее движение он смотрел в высшей степени высокомерно, именно с той точки, что «его забыли». И вдруг в это-то самое время о нем вспомнили, в заграничных листках и в Петербурге. В газетах явилось даже известие, что он умер, и кто-то обещал напечатать его некролог…
«Степан Трофимович мигом воскрес и сильно приосанился. Все высокомерие его взгляда на современников разом соскочило, и в нем загорелась мечта: примкнуть к движению и показать свои силы. Варвара Петровна тотчас же вновь и во все уверовала и ужасно засуетилась. Решено было ехать в Петербург без малейшего отлагательства, разузнать все на деле, вникнуть лично, и если возможно, войти в новую деятельность всецело и нераздельно. Между прочим она объявила, что готова основать свой журнал и посвятить ему отныне всю свою жизнь. Увидав, что дело дошло до этого, Степан Трофимович стал еще высокомернее…»
Несмотря, однако, на то, что Степана Трофимовича явно поманили, ему не только не удалось «примкнуть всецело к движению», но даже случилось быть скандально освистанным… История поездки его в Петербург и первого столкновения с «новыми людьми» так мастерски изображена г. Достоевским, что мы позволим привести здесь эту страницу собственными словами автора:
«…Варвара Петровна бросилась было всецело в „новые идеи“ и открыла у себя вечера. Она позвала литераторов, и к ней их тотчас же привели во множестве. Потом уже приходили и сами, без приглашения; один приводил другого. Никогда еще она не видывала таких литераторов. Они были тщеславны до невозможности, но совершенно открыто, как бы тем исполняя обязанность. Иные (хотя и далеко не все) являлись даже пьяные, но как бы сознавая в этом особенную, вчера только открытую красоту. Все они чем-то гордились до странности. На всех лицах было написано, что они сейчас только открыли какой-то чрезвычайно важный секрет. Они бранились, вменяя себе это в честь. Довольно трудно было узнать, что именно они написали; но тут были критики, романисты, драматурги, сатирики, обличители. Степан Трофимович проник даже в самый высший их круг, туда, откуда управляли движением. До управляющих было до невероятности высоко, но его они встретили радушно, хотя конечно никто из них ничего о нем не знал и не слыхивал кроме того, что он „представляет идею“. Он до того маневрировал около них, что и их раза два зазвал в салон Варвары Петровны, несмотря на все их олимпийство. Эти были очень серьезны и очень вежливы; держали себя хорошо; остальные, видимо, их боялись, но очевидно было, что им некогда. Явились и две-три прежние литературные знаменитости, случившиеся тогда в Петербурге и с которыми Варвара Петровна давно уже поддерживала самые изящные отношения. Но к удивлению ее, эти действительные и несомненные знаменитости были тише воды, ниже травы, а иные из них просто льнули ко всему этому новому сброду и позорно у него заискивали. Сначала Степану Трофимовичу повезло; за него ухватились и стали выставлять на публичных литературных собраниях. Когда он вышел первый раз на эстраду, в одном из публичных литературных чтений, в числе читавших, раздались неистовые рукоплескания, не умолкавшие минут пять. Его заставили подписаться под двумя или тремя коллективными протестами (против чего, он и сам не знал); он подписался. Варвару Петровну тоже заставили подписаться под каким-то „безобразным поступком“, и та подписалась. Впрочем, большинство этих новых людей хоть и посещали Варвару Петровну, но считали себя почему-то обязанными смотреть на нее с презрением и с нескрываемой насмешкой… Ясно было, что в этом сброде новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые все-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых; но неизвестно было, кто у кого в руках. Когда Варвара Петровна объявила свою мысль об издании журнала, то к ней хлынуло еще больше народу, но тотчас же посыпались в глаза обвинения, что она капиталистка и эксплуатирует труд. Бесцеремонность обвинений равнялась только их неожиданности…»
Журнал так и не состоялся: кончилось тем, что к Варваре Петровне явились в одно утро пятеро литераторов и объявили ей «со строгим видом» решение: чтоб она, основав журнал, тотчас же передала бы его им вместе с капиталами, на правах свободной ассоциации; сама же уезжала бы в деревню, захватив с собою и Степана Трофимовича, «который устарел». Из деликатности они соглашались признавать за нею права собственности и высылать ей шестую часть чистого барыша. «Всего трогательнее было то, замечает автор, что из этих пяти человек наверное четверо не имели при этом никакой стяжательной цели, а хлопотали только во имя „общего дела“».
С самим Степаном Трофимовичем тоже приключилась неудача: он не выдержал и стал заявлять о правах искусства. Для новых людей смешнее ничего не могло быть. «Его безжалостно освистали, так что он тут же, публично, не сойдя с эстрады, расплакался. Варвара Петровна привезла его домой едва живого». Она успокаивала его лавровишневыми каплями и повторяла: «вы еще полезны; вы еще явитесь: вас оценят… в другом месте». Но, увы! Степану Трофимовичу не удалось до конца жизни оправдать на себе предсказание Варвары Петровны…
Разрыв этот разом и окончательно определил отношения Степана Трофимовича к молодому поколению и ко всему так называемому «движению». Старый бес, сидевший в нем, не простил молодым бесам недостатка уважения и сохранил навсегда оскорбленное и уязвленное чувство. Но вместе с тем Степан Трофимович нисколько не сомневался в серьезности всего того дикого вздора, который начал на его глазах совершаться в воображаемом губернском городе, куда автор переносит рассказ вслед за петербургским fiasco. «Движение» осуждалось Степаном Трофимовичем единственно в силу того, что его самого при этом забыли; но, в сущности, он даже любуется им, так точно как любуется своим сыном, которому, однако ж, не может простить презрительного с ним обращения. В губернском городе этом, пока не основало в нем своего пребывания настоящее «подполье», кружок Степана Трофимовича занимался «самою невинною, милою, вполне русскою, веселенькою, либеральною болтовней». Из этой болтовни Степан Трофимович почерпал сознание, что «он исполняет высший долг пропаганды идей». Высокомерие все-таки, несмотря на петербургскую неудачу, заставляло его смотреть на себя как на некоторого рода центр, которого где-то опасаются; он даже не сомневался; что находится под секретным полицейским надзором. Но на самом деле он давно уже стоит на заднем плане, оттертый новыми деятелями, один за другим наехавшими в город и образовавшими в нем тот своеобразный кружок, которому всего более приличествует наименование подполья нашей интеллигенции.
Кружок этот и есть именно та среда, в которой развивается действие последнего романа г. Достоевского и который сам по себе составляет очень выпуклое пятно на воспроизведенной им картине. Среда эта еще очень мало разработана нашею литературой, и г. Достоевский едва ли не первый обособил ее в своих наблюдениях и изучил ее в той замкнутости, в том уединении среди волнующейся кругом нее обыденной, практической жизни, которая и составляет главную особенность этого общественного слоя. Задача была не легкая; только углубляясь вместе с автором в темные дебри этого подполья, чувствуешь, сколько трудностей приходилось преодолеть, чтобы с помощью художественного освещения заставить выступить из мрака самые темные извилины этого подпольного мира. Сначала странные, неестественные краски, которыми автор рисует избранную им среду, и криволинейность изображений, резкие тоны, напоминающие фантасмагорию, ставят читателя в некоторое недоумение. Кажется, будто автор ошибкою взял фальшивый тон и опасается за правильность раздвигающейся дальше и дальше перспективы. Но чем более подвигается движение романа, чем более накопляется на полотне самых удивительных красок и контуров, тем яснее начинаешь сознавать, что в этом случае сама жизнь, в ее подпольных извилинах, нарядилась в противоестественные краски и изломала свои нормальные пути и очертания. Мало-помалу убеждаешься, что тон действительно взят нестерпимо-фальшиво, но не в романе, а в самой жизни, выступившей из своих законных форм и безмерно удалившейся от своего обычного русла. Чувствуешь все безобразие этой жизни, все уродство этих недужных, нравственно искалеченных организаций, и сознаешь, что тем не менее автор изображает действительность, только действительность подпольную.
Главный характеристический признак этой среды, даже вся ее суть заключается, мы сказали, в ее совершенном удалении от нормальных путей жизни. В кружке, который описывает автор, собрались единицы из самых различных общественных слоев: тут и сын аристократки Варвары Петровны, и сынок Степана Трофимовича, и вышедший из крепостного звания Шатов, и инженер Кирилов, и отставной капитан Лебядкин, молоденький офицерик Эркель, и неизвестно из какого звания и состояния вышедшие Толкаченко, Шигалев, Виргинский. Но есть нечто общее, родовое, роднящее их всех до такой степени, что даже все они говорят почти одним и тем же языком, именно языком полуобразованного подполья, каким, кроме них, не говорит ни один живой человек. Эта, по-видимому, второстепенная черта составляет, однако, весьма существенный признак этой среды и очень последовательно выдержана автором. Только в стороне от действительной жизни, в полуобразованном захолустье, вне всяких общественных связей и соприкосновений, мог выработаться этот жаргон, отчасти носящий на себе отпечаток некоторого, впрочем весьма умеренного, обращения с книжною литературой и в то же время своею грамматическою неряшливостью как бы выражающий величавое презрение подпольной среды к выработанным формам… русского синтаксиса. Совершенная непривычка к так называемому обществу выразилась в этой черте так же рельефно, как и во всем складе подпольного миросозерцания и житья-бытья. Синтаксическая неряшливость подпольного языка чувствуется даже самими обитателями подполья, так что они беспрестанно поправляют друг друга в разговорах, подсказывают выражения, как бы не сознавая, что поправивший одно нелепое выражение за минуту пред тем сказал другое, столь же нелепое. Раз один из индивидуумов этого кружка даже спросил другого, Кириллова: не оттого ли он так странно выражается; что долго жил за границею? – И Кириллов, удивленный таким вопросом, отвечает в раздумье: «нет, не потому, что за границей. Я всегда так; я привык». А задавший такой вопрос и не подозревает, что сам он выражается ничуть не лучше Кириллова. Эта особенность подпольного языка, пестрящего все страницы романа и вредящая индивидуальности действующих лиц, нагоняет на читателя значительную скуку; но вместе с тем она много помогает тому почувствованью изображенной среды, которое непременно выносится из романа. Среда эта тем и отличается, что при неизбежном различии характеров удаление их от обычных норм жизни кладет на всех чрезвычайно яркий специфический отпечаток.
В неряшливости речи отпечатывается не только неряшливость мысли, но и весь практический склад жизни. В самом деле, трудно даже в низших подонках человеческого общества найти столько нравственного и житейского разгильдяйства сколько заключается его в жизни и нравах интеллигентного подполья. Эта дикая богема, растянувшая свой шатер на стогнах губернского города, чуждается самых элементарных законов общежития. Потасовки и пощечины сопровождают чуть не каждую встречу членов этого союза, причем получивший оплеуху и давший ее смотрят на эту маленькую случайность так точно, как если б один из них высморкался в носовой платок. Они говорят друг другу «мерзавец» и «подлец» так же спокойно, как другие говорят «здравствуйте»; но при этом щепетильны и обидчивы до последней степени и в душе страстно ненавидят и презирают друг друга. Они ведут самую свинскую жизнь, с каким-то сладострастием погружаясь в грязь, которой не только не замечают, но скорее даже находят в ней «новую, вчера лишь открытую красоту». Те из них, которые по своему происхождению принадлежат к более порядочному обществу, почти с наслаждением и словами, и поступками стараются доказать, что разорвали всякую связь с этим обществом, и ежеминутно как бы хвастают своим переселением из более верхних ярусов в подполье. И они правы, потому что в той зараженной среде, в которой и ради которой они действуют, нравственное и общественное падение человека приветствуется как величайшее торжество над историческими предрассудками. Эти недужные организации находят какое-то сладострастное наслаждение в попрании всего того, что выше заурядного, плоского уровня. Грязь выступает поразительнее, когда ее касаются белые руки. «Ставрогин, вы красавец!» – восклицает в «Бесах» молодой Верховенский в каком-то упоении: – «знаете ли, что вы красавец! В вас всего дороже то, что вы иногда про это не знаете. О, я вас изучил: я на вас часто сбоку, из-за утла гляжу! В вас даже есть простодушие и наивность, знаете ли вы это? Еще есть, есть! Вы, должно быть, страдаете и страдаете искренно, от того простодушия. Я люблю красоту. Я нигилист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят, ну, а я люблю идола! Вы мой идол! Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас все боятся, это хорошо. К вам никто не подойдет вас потрепать по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен!» Так устами одного из своих героев автор высказывает чрезвычайно тонко подмеченную черту – один из тех позорных инстинктов развращенной природы, который играет не последнюю роль в сцеплении человеческих единиц, населяющих подполье… В другом месте автор еще яснее заставляет звучать этот самый мотив в психологической гамме, которую он разыгрывает в своем романе. «Правда ли, что ы, – спрашивает Шатов у Ставрогина, – принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному секретному обществу? Правда ли, что маркиз де Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы заманивали и развращали детей?.. Правда ли, будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какою-нибудь сладострастною зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвою жизнью для человечества? Правда ли, что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения?» Шатов переходит затем к женитьбе Ставрогина на полоумной, хромой сестре капитана Лебядкина: «Знаете ли, почему вы тогда женились, так позорно и подло? Именно потому, что тут позор и бессмыслица доходили до гениальности! О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головою. Вы женились по страсти к мучительству, по страсти к угрызениям совести, по сладострастию нравственному. Тут был нервный надрыв… Вызов здравому смыслу был уже слишком прельстителен! Ставрогин и плюгавая, скудоумная, нищая хромоножка! Когда вы прикусили ухо губернатору, чувствовали вы сладострастие? Чувствовали? Праздный, шатающийся барчонок, чувствовали?»
Если бы порок в его обыкновенной форме был исключительной действующей силой в этих подпольных натурах, если бы грязь, в которой они копошатся с каким-то почти сладострастным упоением, была результатом нищенства, этот подпольный мир мало отличался бы от обыкновенных трущоб, в каких скопляются отребья человеческого общества. Но это особый продукт нравственного и умственного недуга, который и есть настоящий герой романа. Не Ставрогин, не Верховенский, не Шатов и не Кириллов выражают собою идею последнего произведения г. Достоевского. Настоящий герой его есть, как мы сказали, психическая гангрена, заразившая весь этот подпольный муравейник, все эти недужные организации. Еще в романе «Преступление и наказание» Раскольников убивает и грабит старуху не для того, чтобы на разграбленные деньги доставить себе известную сумму личных удовольствий, материального комфорта; он совершает преступление, потому что мечтает осуществить этим способом идею общего блага, потому что эта идея съела его, как выражается одно действующее лицо в новом романе того же автора. В этом смысле Раскольников есть истинный родоначальник Шатовых, Кирилловых, Шигалевых, всех этих малых бесов, свивших свое гнездо подле старого беса, Степана Трофимовича. Их всех заела идея, и про каждого из них можно сказать то самое, что сказано автором про Шатова: «Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея, и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах под свалившимся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем». Эти-то корчи под раздавившею их «идеей» и производят ту изумительную умственную и нравственную сатурналию, которая составляет внутреннее содержание романа. Все эти Ставрогины, Верховенские, Кирилловы, Шигалевы постоянно носятся с известною идеей, пребывают в непрерывном процессе умственной работы, в страстном напряжении мысли, приводящем одних к умопомешательству, других к отвратительному преступлению. Что-то, когда-то, очень давно запало в их мозг и беспрерывно действует там и держит их в состоянии умственной придавленности. У Кириллова эта напряженная, изнурительная возня с идеей приводит к нелепейшей философской системе; у Шигалева она создает социально-политическую теорию, требующую для своего осуществления миллион голов: Ставрогина и Верховенского она бросает в сладострастие разврата, низводит их на ту последнюю ступень скотства, когда в человеке пробуждается совершенно животная жажда крови; Шатова она совершенно измочаливает, превращает в глубоко несчастное существо, одичавшее и человеконенавидящее и вместе способное растаять от малейшей ласки. Пред читателем проходит ряд лиц, в одинаковой степени сделавшихся жертвою непосильной умственной задачи, фанатиков идеи, кривыми путями внедрившейся в слабосильный мозг. Читатель как бы присутствует в клинике нравственных и душевных болезней и читает над изголовьями пациентов их скорбные листы.
Самые беспокойные из этих больных – конечно главные действующие лица романа, Ставрогин и Петр Степанович Верховенский. Их болезнь постоянно грозит принять острый характер, и по особой подвижности и страстности своей натуры они наиболее способны переходить от мысли и слова к действию. Ставрогин даже вообще мало говорит: у него болезнь сидит более в крови, чем в мозгу, и, вместо того чтобы создавать системы a la Шигалев или Кириллов, он предпочитает удивлять прямо своими поступками. Из вышеприведенных выдержек известно уже, в чем автор видит сущность его натуры. Это зараженная кровь в той же степени, как и зараженный мозг. Еще при самом вступлении в свет он вдруг как-то дико закутил. «Не то чтоб он играл или очень пил; рассказывали только о какой-то дикой разнузданности, о задавленных рысаками людях, о зверском поступке с одною дамой хорошего общества, с которою он был в связи, а потом оскорбил ее публично. Что-то даже слишком уж откровенно-грязное было в этом деле». Разжалованный в солдаты и очень быстро вновь выслужившийся, он опять появляется в Петербурге, но уже в совершенно другом обществе. «Доискались, что он живет в какой-то странной компании, связался с каким-то отребьем петербургского населения, с какими-то бессапожными чиновниками, отставными военными, благородно просящими милостыню, пьяницами, посещает грязные их семейства, дни и ночи проводит в темных трущобах и Бог знает в каких закоулках, опустился, оборвался, и что, стало быть, это ему нравится». Вот в этом-то, стало быть, ему нравится и заключается единственная причина и единственное объяснение всех его поступков, заставивших Петра Степановича предполагать в нем «необыкновенную способность к преступлению». Отсутствие в мозгу всяких сдерживающих рефлексов, органическая порча крови, болезненная развращенность, которая «в обоих полюсах находит совпадение красоты, одинаковость наслаждения»; собственно политической закваски в этой натуре нет никакой, а он остается очень равнодушен к делу, в которое всею силою тянет его молодой Верховенский. Когда последний объясняет ему план политической организации и программу тайного общества, Ставрогин делает замечание, которое заставляет Верховенского воскликнуть: «О, будьте поглупее, Ставрогин, будьте поглупее!» Действительно, Ставрогин умнее подпольных деятелей, хотя он наполовину помешанный человек; его преимущество в том, что его заразила не политическая и не социальная идея. В политике он настолько трезв, что, когда Петр Степанович развивает пред ним изумительный план действия революционного общества, он серьезно задает себе вопрос: «если этот человек пьян, то где же он успел напиться?» – «Охоты нет, так я и знал!» – восклицает с унынием Верховенский, когда тот решительно отказывается от предложенной ему роли Ивана-царевича.
Петру Степановичу решительно непонятно, как это может не быть охоты: «Врете вы, дрянной, блудный, изломанный барчонок, не верю, аппетит у вас волчий!» – восклицает он злобно вслед уходящему Ставрогину. Его искренно поражает, как можно с этакими задатками, с этою разнузданностью страстей, с этою необычайною «наклонностью к преступлению» – не обратиться к подпольной политической деятельности. Он сам с собою давно уже решил утилизовать изумительную натуру Ставрогина для своей политической идеи, как порешил это относительно Кириллова. В этой цели у него все сошлось; он сам откровенно определяет себя как политического мошенника. Природа снабдила его таким излишеством юркости и подвижности, что он не может шагу ступить без того, чтобы чего-нибудь не напутать, чем-нибудь не сынтриговать. Он агитатор по натуре, даже не из честолюбия, так как главную роль охотно уступает Ставрогину. Занятый организацией тайного общества, которое им же и сочинено, он находит время страстно путаться во всех городских сплетнях, подготовлять скандалы, ссорить и ставить в ложное положение самых близких людей – без всякой даже дальнейшей цели, просто по зливости своего характера и совершенной своей беспринципности. Он даже поминутно сам себе затрудняет достижение своей главнейшей агитаторской цели, устраивая разные пакости Ставрогину, тому самому Ставрогину, на эксплуатации которого он основал весь успех своей революционной миссии. «Аппетит у вас волчий», замечает он про Ставрогина и недоумевает, каким образом подобный аппетит может быть устремлен не в политическую сторону?
Чем далее роман забирается в извилины подпольного мира, чем далее действующие лица его отстоят, по связям родства и воспитания, от так называемого «общества», тем заметнее нравственный облик их принимает совершенно специфический оттенок интеллигентного подполья. В Ставрогине, несмотря на его полупомешательство, еще виден избалованный барчонок; молодой Верховенский воплощает в себе, так сказать, международный тип агитатора и революционера, довольно искусно, однако ж, приноровившийся к условиям русской жизни и недурно понимающий слабые стороны нашего общества, беспринципность и распущенность которого он спешит утилизировать для политической цели. Он не только не чуждается губернского общества, но постоянно находится среди него, как самый юркий и деятельный член, и с замечательною наглостью старается играть в нем роль. Он овладевает доверием и симпатиями губернаторши, Юлии Михайловны фон Лембке, играет как пешкой ее скудоумным мужем, припутывается ко всем городским интересам, сплетням и скандалам. Его влияние на губернское общество скоро начинает сказываться ощутительным образом. «Странное, – рассказывает автор, – было тогда настроение умов. Особенно в дамском обществе обозначилось какое-то легкомыслие, и нельзя сказать чтобы мало-помалу. Как бы по ветру было пущено несколько чрезвычайно развязных понятий. Наступило что-то развеселое, легкое, не скажу чтобы всегда приятное. В моде был некоторый беспорядок умов. Потом, когда все кончилось, обвиняли Юлию Михайловну, ее круг и влияние; но вряд ли все произошло от одной только Юлии Михайловны. Напротив, очень многие сначала взапуски хвалили новую губернаторшу за то, что умеет соединить общество и что стало вдруг веселее. Произошло даже несколько скандальных случаев, в которых вовсе уж была невиновата Юлия Михайловна; но все тогда только хохотали и тешились, а останавливать было некому». Невидимая рука Петра Степановича ясно чувствуется в этом «беспорядке умов» и «легкомыслии дамского общества»… С течением времени начавшееся «легкомысленное» движение усиливается, так что целое губернское общество, незримо направляемое и агитируемое молодым Верховенским, совершенно изменяет свой вид, и серьезные элементы его меняются местами с каким-то наплывшим отовсюду сбродом.
«Во всякое переходное время, – рассказывает об этом обстоятельстве автор, – подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки „передовых“, которые действуют с определенною целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов, что, впрочем, тоже случается. У нас вот говорят теперь, когда уже все прошло, что Петром Степановичем управляла Интернационалка, а Петр Степанович Юлией Михайловной, а та уже регулировала по команде всякую сволочь. Солиднейшие из наших умов дивятся теперь на себя: как это они тогда вдруг оплошали? В чем состояло наше смутное время и от чего к чему был у нас переход – я не знаю, да и никто, я думаю, не знает – разве вот некоторые посторонние гости. А между тем дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать все священное, тогда как прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать, а иные так позорнейшим образом подхихикивать. Какие-то Лямшины, Телятниковы, помещики Тентетниковы, доморощенные сопляки Радищевы, скорбно, но надменно улыбающиеся Жидишки, хохотуны заезжие путешественники, поэты с направлением из столицы, поэты взамен направления и таланта в поддевках и смазных сапогах, майоры и полковники, смеющиеся над бессмысленностью своего звания и за лишний рубль готовые тотчас же снять свою шпагу и улизнуть в писаря на железную дорогу; генералы, перебежавшие в адвокаты; развитые посредники, развивающиеся купчики, бесчисленные семинаристы, женщины изображающие собою женский вопрос, – все это вдруг у нас взяло полный верх, и над кем же? Над клубом, над почтенными сановниками, над генералами на деревянных ногах, над строжайшим и неприступейшим нашим дамским обществом»…
На Петре Степановиче, так незримо и искусно взбаламутившем губернское общество, обрываются звенья, соединяющие подпольный мир с лежащими поверх него общественными слоями. Далее идет уже совершенная подпольная глушь и дичь, которая вся ушла в свое уединенное, болезненное прозябание. Выступают на сцену личности ни одним звеном не соединенные с общественным организмом и даже едва ли когда-либо встречавшиеся лицом к лицу с тем, что называется обществом в обширном смысле – длинноухий социалист Шигалев, маньяк Кириллов, сын крепостного Шатов, некто Толкаченко – «странная личность, человек уже лет сорока и славившийся огромным изучением народа, преимущественно мошенников и разбойников, ходивший нарочно по кабакам (впрочем, не для одного изучения народного) и щеголявший между нами дурным платьем, смазными сапогами, прищуренно-хитрым видом и народными фразами с завитком». Психическая болезнь, поражающая обитателей подполья, входит во все свои права, недужное беспутство мысли овладевает своими жертвами и разыгрывается мало-помалу одна из самых диких сатурналий, какие когда-либо видел образованный мир. Жертвы этого печального недуга заслуживают, чтобы мы внимательно заглянули в их внутренний мир и увидели болезнь в ее остром состоянии.
Остановимся прежде всего на Шатове, которому в романе выпала самая страдательная роль и индивидуальность которого разработана автором с особенным мастерством.
Шатов до известной степени стоит в стороне от пресловутой «кучки», сгруппированной Петром Степановичем в губернском городе. По своим убеждениям он даже в полном разрезе с подпольными революционерами. В ранней молодости и он стоял в их рядах, и даже эмигрировал без всякой основательной причины. За границей женился он на бойкой русской барышне, из гувернанток; «прожили они вдвоем недели с три, и потом расстались как вольные и ничем не связанные люди, тоже и по бедности». Жена вскоре затем сошлась со Ставрогиным, а муж уехал в Америку, где бедствовал вместе с Кирилловым года три. Там он резко изменил свои убеждения, из атеиста и революционера сделавшись человеком верующим. Впрочем, жизнь до такой степени изломала его, что он потерял характер и стал не способен ни к какой действующей роли. Камень придавил его, по выражению автора, и вся последующая жизнь его должна проходить в корчах под этим камнем. Он застрял на распутии жизни в мучительной борьбе здравомыслия с бесхарактерностью и безволием, отличающим русских людей этого типа. Разорвав с эмиграции и революции, он, однако, не мог пристать ни к какому делу, ни к какой установившейся форме жизни и остался в подполье, измученный, страдающий, одинокий, сознающий всю мерзость среды и не находящий из неё выхода. Обстоятельства толкнули его в кучку; но внутренне он давно разорвал с нею, и, однако, плетется подле нее, единственно потому, что вне ее нет ничего, к чему бы он мог приткнуться. Открытая, широкая жизнь идет мимо него, как нечто совершенно чуждое: вышедший из подполья, одичалый, не способный ни к какому практическому делу, он видит себя замкнутым в заколдованном круге, среди трагической необходимости жить с людьми, которых искренно, убежденно презирает. «Я слышал, – говорит он своей жене, – что ты будто бы презирала меня за перемену убеждений. Кого ж я бросил? Врагов живой жизни, устарелых либералишек, боящихся собственной независимости; лакеев мысли, врагов личности и свободы, дряхлых проповедников мертвечины и тухлятины! Что у них: старчество, золотая средина, самая мещанская, подлая бездарность, завистливое равенство, равенство без собственного достоинства, равенство, как сознает его лакей или как сознавал француз 93 года… А главное, везде мерзавцы, мерзавцы и мерзавцы!» В этой неотвратимости – жить в среде, так искренно презираемой, – заключается весь трагизм людей, вышедших из подполья и внутренне с ним разорвавших.
И вот в ту минуту, когда заколдованный круг готов совсем замкнуться вокруг несчастного Шатова, когда неестественное положение его между «кучкой» и надпольною жизнью должно окончательно изломать и придавить его, судьба неожиданно указывает ему выход. Жена его, брошенная за границей Ставрогиным, возвращается к нему, чтобы под его нищенским кровом дать жизнь чужому ребенку. А Шатов до того измучен, до того придавлен, что в этом столкновении видит спасительный выход к возрождению. Мотив этот с такою теплотой, с таким художественным мастерством разработан автором, что мы позволим себе напомнить здесь эту лучшую во всем романе страницу:
«…Он уселся у окна сзади дивана, так что ей никак нельзя было его видеть. Но не прошло и минуты, она подозвала его и брезгливо попросила поправить подушку. Он стал оправлять. Она сердито смотрела в стену.
– Не так, ох, не так… Что за руки!
Шатов поправил еще.
– Нагнитесь ко мне, – вдруг дико проговорила она, как можно стараясь не глядеть на него.
Он вздрогнул, но нагнулся.
– Еще… не так… ближе, – и вдруг левая рука ее стремительно обхватила его шею, и на лбу своем он почувствовал крепкий, влажный ее поцелуй.
– Marie!
Губы ее дрожали, она крепилась, но вдруг приподнялась и, засверкав глазами, проговорила:
Василий Григорьевич Авсеенко
«В образовании гражданских обществ, как и во всяком историческом процессе, неизбежен известный осадок, в котором скопляются единицы, выделяющиеся из общих форм жизни, так точно как в химическом процессе оседают на стенках сосуда частицы, неспособные к химическому соединению. Объем и злокачественность такого осадка обыкновенно увеличиваются в периоды общего брожения, когда предложенные к решению задачи колеблют общественную массу и нарушают спокойное равновесие, в котором она пребывала многие годы. В такие эпохи, под видимыми, исторически образовавшимися общественными слоями, накопляется особый подпольный слой, обыкновенно враждебно расположенный к устроившемуся над ним общественному организму, и во всяком случае совершенно чуждый историческим формам жизни, подле которой он накопился во мраке, представляя собою патологический нарост на живом теле…»
Василий Григорьевич Авсеенко
Общественная психология в романе
«Бесы», роман Федора Достоевского. В трех частях. С.-Петербург, 1873
В образовании гражданских обществ, как и во всяком историческом процессе, неизбежен известный осадок, в котором скопляются единицы, выделяющиеся из общих форм жизни, так точно как в химическом процессе оседают на стенках сосуда частицы, неспособные к химическому соединению. Объем и злокачественность такого осадка обыкновенно увеличиваются в периоды общего брожения, когда предложенные к решению задачи колеблют общественную массу и нарушают спокойное равновесие, в котором она пребывала многие годы. В такие эпохи, под видимыми, исторически образовавшимися общественными слоями, накопляется особый подпольный слой, обыкновенно враждебно расположенный к устроившемуся над ним общественному организму, и во всяком случае совершенно чуждый историческим формам жизни, подле которой он накопился во мраке, представляя собою патологический нарост на живом теле.
Общественное подполье, о котором мы говорим, образуется не из какого-либо определенного и однородного материала. Оно составляется из всех сословий; в нем сходятся люди всякого разбора, зараженные недугом полуобразования. «Полунаука, – говорит автор социального романа, заглавие которого приведено нами впереди этой статьи, – самый страшный бич человечества, хуже мора, голода, войны, неизвестный до нынешнего столетия. Полунаука это деспот, каких еще не приходило никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, пред которым все преклонилось с любовью и с суеверием до сих пор немыслимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему».[1 - Это рассуждение в «Бесах» вложено в уста Шатову в его споре со Ставрогиным (ч. 2, гл. 1).]
Полунаука, полуобразованность, есть именно та сила, которая выбрасывает из гармонии жизни отдельные единицы и вместе служит связующим звеном, объединяющим эти единицы в форму общественного подполья. Чтобы раз навсегда ясно определить предмет нашей речи, мы должны сказать, что под общественным подпольем мы разумеем именно подполье нашей интеллигенции, наносный слой, созданный у нас пролетариатом полуобразованности и вербующий свой контингент среди осадков образованных классов. Все, что потеряло связь с установившимися формами жизни; что враждебно им, что не находит себе места в гармонии исторического порядка, уходит в подполье, пронизывает народный организм злокачественными элементами, неприметно, но деятельно содействующими его разложению. У нас, при известной рыхлости нашего общественного порядка, выделение наносного слоя происходит вне всяких социальных причин, и есть всего чаще – простое искривление мысли, пораженной недугом полуобразованности. Наш умственный пролетариат возникает не из того, чтоб обилие интеллигентных сил превышало у нас запрос, предъявляемый на них жизнью, а из внутренней несостоятельности нашего образования. Так точно у нас есть местности, в которых рабочее сословие поражено безысходною нищетою – не потому, чтоб эти местности страдали излишеством рабочих рук, но вследствие собственной несостоятельности рабочего класса, пораженного отсутствием трезвости, экономии и образования.
В этом смысле подполье нашей интеллигенции есть явление вполне патологическое, порожденное беспочвенностью нашей цивилизации от вчерашнего числа и язвою полуобразованности. Каждый новый момент нашего развития отзывается глухим брожением и нередко приводит к тем сатурналиям мысли, с которыми нам приходится знакомиться на страницах нашей уголовной летописи и которые с такою художественною глубиною раскрыты и изображены во многих романах г. Достоевского. Самые дикие силлогизмы, самые уродливые искажения мысли и морали находят себе место в этой больной среде, приводя мало-помалу к окончательному извращению ума и человеческой природы…
Писатель, которого мы назвали и последнему произведению которого предполагаем посвятить эту статью, по свойствам своего оригинального таланта особенно чуток к этим болезням ума, к этим психическим недугам нашего странного времени. Подпольный мир интеллигенции нашел в нем своего сатирика-поэта, соединившего глубину наблюдающей и анализирующей мысли с замечательною силою художественного изображения. Никому из наших беллетристов не близок до такой степени этот уклонившийся от нормальных путей жизни мир нашего общественного подполья, эти больные натуры, которых, по выражению одного из действующих лиц романа «Бесы», «съела идея»[2 - Слова Петра Верховенского (ч, 3, гл. 4).] и которые с своим психическим недугом стоят на черте, отделяющей здорового человека от помешанного. Душевная патология этой категории людей изучена г. Достоевским в совершенстве и составляет ему одному принадлежащую область в нашей беллетристике, его литературную собственность. Свойства таланта этого писателя таковы, что нормальная, здоровая жизнь, ежедневная действительность обыкновенно исчезают из сферы его наблюдений, заслоняясь изображениями и анализом ненормальных явлений, в чем он особенно силен. Талант такого рода должен чувствовать себя совершенно в своей области, как скоро он спускается в наше умственное подполье, куда почти не проникает ясный дневной свет, где все предметы представляются при бледном, искусственном, полуфантастическом освещении. Особенная нервность и лихорадочность, присущая таланту г. Достоевского, как нельзя более гармонирует с искаженностью этой жизни. Свою силу в этой, совершенно особенной, области г. Достоевский обнаружил еще в романе «Преступление и наказание», прочитанном всею Россией и стоящем совершенно уединенно в нашей литературе. Мастерское и полное глубины изображение нравственного недуга, приводящего героя этого романа к бессмысленному преступлению, которое он впоследствии искупает раскаянием и возрождается к новой жизни, обнаружило в авторе особенную чуткость к болезненным явлениям духа, носящимся в воздухе как бы в виде какой-то новой эпидемии и поражающим слабые субъекты недугом тенденциозного полупомешательства.
В новом романе г. Достоевский раздвинул рамки своих наблюдений и от анализа больной человеческой натуры перешел к анализу больного общества, обобщая патологические явления до степени болезни века. Идея этого нового романа («Бесы») прозрачно выразилась в знаменательном эпиграфе, взятом автором из Евангелия от Луки:
«Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, увидя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся».
«Это точь-в-точь как наша Россия, – объясняет один из героев романа. – Эти бесы, выходящее из больного и входящие в свиней, – это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века. Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности… и сами будут проситься войти в свиней. Да и вошли уже может быть! Это мы, мы и те, и Петруша… et les autres avec lui, и я может быть первый, во главе, и мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится и „сядет у ног Иисусовых“… и будут все глядеть с изумлением»…[3 - Слова Степана Трофимовича Верховенского (ч. 3, гл. 7).]
Такою аналогией автор, оканчивая свой роман, объясняет идею и внутренний смысл произведения. Идея эта приводит роман в связь с общим направлением нашей современной беллетристики, задавшейся разработкой общественных тем и изучением нашего положения с отрицательной стороны его. Мы уже имели случай указывать в предыдущих статьях что наша так называемая художественная беллетристика, вопреки заверениям петербургской критики, будто бы для нее еще со времен Пушкина «общественные и нравственные интересы стали совершенно безразличны», постоянно обращается к общественным темам и пытается осветить наше современное положение, так что новый художественный роман есть в то же время и роман социальный. Эта заведомо лгущая критика, приветствовавшая как нечто небывалое и новый роман г. Эмиля Золя: «Ругон-Маккары», в котором она нашла (впрочем, по буквальному указанию самого автора) «естественную историю семейства» и якобы еще неведомую форму социального романа, могла бы найти в русской литературе совершенно выработанные образцы этой вовсе не новой формы. Более искреннее и близкое отношение к русской литературе помогло бы петербургской критике усмотреть, что приемы, приписываемые ей молодому французскому романисту, давно уже практикуются нашими талантливыми беллетристами с неменьшим искусством и, смеем думать, с большею глубиной мысли и содержания. Мы уже рассмотрели в предыдущей статье[4 - Статья «Практический нигилизм» в «Русском вестнике» (1873. № 7).] ряд произведений общественного характера, принадлежащих перу г. Писемского, и видели, как полно и живо отразилась в них одна из отрицательных сторон нашего положения. Роман «Бесы» исчерпывает другую сторону той же литературно-общественной задачи. «Все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России», – это, в сущности, почти то же, что «вся ложь русской жизни», отразившаяся во «Взбаламученном море» и в позднейших произведениях г. Писемского. Но талант г. Достоевского, в известном смысле прямо противоположный таланту г. Писемского, подошел к предмету своей художественной сатиры с совершенно другой стороны. Для такого крайнего реалиста, каков автор «Тысячи душ» и «Взбаламученного моря», ложь современной русской жизни, или, лучше сказать, движения, охватившего наше общество с шестидесятых годов, представилась в практических отклонениях от здравого смысла и морали, и эти отклонения он воспроизвел в живых, реальных типах, взятых им в их житейских столкновениях, Г. Достоевский, с его способностью наблюдать и анализировать преимущественно болезненные явления человеческой души, задался выследить роковое влияние новых идей на слабый ум и те нравственные изъявления, какие извращение этих идей производит в жалких, внутренне несостоятельных натурах, пораженных бессилием и бесплодием полуобразованности. Его роман представляет полное изучение любопытного психологического вопроса, поставленного в связи с нашим социальным положением и со всею суммою нравственных недугов, которыми заражена известная часть нашего общества.
Фабула романа «Бесы» отчасти как будто заимствована из пресловутого нечаевского дела. Оговоримся, что для цели, предложенной нами в настоящей статье, это обстоятельство не имеет никакого значения. Автор воспользовался своим материалом совершенно художественно, взяв из него то, что подходило к его литературной задаче, и обработал эти крупные детали сообразно идее и плану своего произведения. Выбор фабулы был, конечно, подсказан ему той очевидностью, в какой нечаевское дело представлялось самым характерным делом нашего подполья, наиболее отразившим на себе роковые искажения мысли и человеческой натуры и все симптомы нравственного недуга, которым поражен этот темный мир. Нечаевцы, без сомнения, целиком шли из подполья нашей интеллигенции и могут быть признаны самыми яркими его представителями, по крайней мере в тот период его существования, в каком было застигнуто судебным процессом.
Прежде, однако, чем ввести нас в эту подпольную среду, автор знакомит нас с личностью, по художественной рельефности изображения представляющею один из самых ярких типов в нашей литературе и принадлежащею к иной среде и иному поколению. Степан Трофимович Верховенский – человек сороковых годов. Он стоит совершенно в стороне от закопошившегося кругом него подполья, хотя читатель чувствует, что есть некоторая внутренняя связь между этим человеком и молодыми героями романа Связь эта весьма знаменательна и не ограничивается одним только кровным родством с главным вожаком подполья, существует еще несомненное внутреннее родство между бестолковостью и беспринципностью этого смешного старика, воплотившего в себе отрицательную сторону движения сороковых годов и сатурналиями умственными и нравственными молодого подполья. Указывается таким образом некоторая преемственность в развитии идей, и между двумя поколениями кладется мостик, на котором некоторые крайние представители того и другого могут удобно подать друг другу руку. Указания эти весьма знаменательны, так как в значительной степени обнаруживают воззрения автора на источник, из которого вышли самые дикие движения новейшего времени. Степан Трофимович, отчасти презирая сгруппировавшееся подле него подполье, отчасти втайне ему сочувствует (настоящее отношение его к подполью есть вопрос его личного самолюбия), поставлен автором над молодым поколением в качестве некоего pater familias[5 - Отец семейства (лат.).], весьма смешного в глазах молодежи и совершенно ею пренебрегаемого, родство с которым последняя тем не менее все-таки признает. Это, так сказать, старый бес, данный в прародители бесовской мелюзге, выросшей под сенью его седин.
Внутреннее сходство Степана Трофимовича с молодыми героями романа знаменательно во многих отношениях. Важнее всего, конечно, то, что Степан Трофимович – тоже полунаука, хотя и занимал в сороковых годах кафедру в одном из университетов. Но, при известных недостатках нашего университетского устройства, полунаука могла приютиться на профессорской кафедре так же удобно, как и в редакции журнала. В сороковых годах в наших университетах несомненно встречались люди полунауки, возмещавшие так называемыми «высшими взглядами» отсутствие серьезной эрудиции и пользовавшиеся благодаря тому же приему заметною репутацией. Степан Трофимович принадлежал именно к этой категории. Продержался он на кафедре очень недолго вследствие некоторой, незначительной неосторожности, по поводу которой от него потребовали объяснений. Он успел прочесть всего только несколько лекций, «и кажется об Аравитянах», и вообще в науке сделал «не так много и кажется совсем ничего». Успел он также защитить некоторую затейливую диссертацию, ловко и больно уколовшую тогдашних славянофилов, да еще напечатал в одном переводном журнале «начало одного глубочайшего исследования – кажется о причинах необычайного нравственного благородства каких-то рыцарей в какую-то эпоху, или что-то в этом роде». Глубокое исследование это так и осталось неоконченным, будто бы вследствие запрещения, а в сущности, просто потому, что автор поленился его окончить. Имелась еще в бумагах Степана Трофимовича поэма «в лирико-драматической форме и напоминающая вторую часть „Фауста“. Уверяли будто это поэму сочли в свое время опасною». «Я в прошлом году предлагал Степану Трофимовичу ее напечатать, – рассказывает лицо, от которого автор ведет свое повествование, – за совершенною ее в наше время невинностью, но он отклонил предложение с видимым неудовольствием. Мнение о совершенной невинности ему не понравилось». И вдруг эту поэму печатают в заграничном революционном сборнике, без ведома Степана Трофимовича…
«Он был сначала испуган, бросился у губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург, читал мне его два раза, но не отправил, не зная, кому адресовать. Одним словом, волновался целый месяц; но я убежден, что в таинственных изгибах сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать постель, и хоть ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло».
Степан Трофимович поспешил уверить себя, что карьера его разбита на всю жизнь «вихрем обстоятельств», и потому решился посвятить остаток дней своих – впрочем двадцатилетний – на то, чтобы стоять пред отчизной «воплощенною укоризной», по выражению поэта:
Воплощенной укоризною
Ты стоял перед отчизною,
Либерал-идеалист![6 - Из стихотворения Некрасова «Медвежья охота».]
Впрочем, позированье Степана Трофимовича нисколько не помешало ему пристроиться на благородных условиях приживальцем к богатой вдове, генеральше Варваре Петровне Ставрогиной, у которой он и прожил безмятежно целых двадцать лет, до той самой поры, когда застал его ряд катастроф, давших содержание роману.
Вся суть Степана Трофимовича, как родоначальника бесов, заключается в том, что он был полнейшим представителем полунауки сороковых годов, от которой современная полунаука, естественно, ведет свое происхождение. В этом качестве человека полунауки Степан Трофимович привил к своей невиннейшей душе некоторое количество гражданских мотивов, в силу которых не только без всякой основательной причины бросил университетскую карьеру, но и сохранил на всю жизнь уверенность в своем совершенном превосходстве над людьми своего поколения, а также хотя презрительное, но вместе с тем заискивающее отношение к молодежи, от которой он все ждет какого-то призыва: вы, мол, Степан Трофимович, наш отец и руководитель, придите к нам и ведите нас. Ожидание какой-то телеграммы, о котором иронически замечает автор, осталось у старого чудака на всю жизнь. Он несомненно принадлежит к категории тех «старых бесстыдников», которые никак не могут забыть своего либеральничанья сороковых годов и все ждут от молодого поколения признания их гражданских заслуг. Одни из этих людей, подобно выведенному в романе знаменитому писателю Кармазинову, продолжают до конца всячески заискивать у молодого поколения, не подозревая, что давно уже сделались в глазах его шутами; другие, как Степан Трофимович, глубоко оскорбляются тем, что гражданские заслуги их списаны со счетов, начинают брюзжать и порою даже прорываются до такой степени, что сами торжественно провозглашают разрыв с новым движением. В том и другом случае отношения этих людей к новому времени и новому поколению составляют вопрос личного самолюбия; убеждениями эти представители идеалистической полунауки предшествовавшего периода вообще не богаты, и вздумай молодое поколение хоть немножечко поманить их на свою сторону – они бросятся навстречу с распростертыми объятиями. Они инстинктивно сознают, что между ними и «новыми людьми» есть действительная связь, – и они не ошибаются.
Со Степаном Трофимовичем так и случилось – его поманили, и он бросился с распростертыми объятиями. Это случилось в конце пятидесятых годов, когда на минуту вспомнили о всех вообще либеральных репутациях предшествовавшего тридцатилетия. Степан Трофимович к тому времени сильно захандрил, мучась мыслью, что его забыли, что он никому не нужен, поэтому и на все тогдашнее движение он смотрел в высшей степени высокомерно, именно с той точки, что «его забыли». И вдруг в это-то самое время о нем вспомнили, в заграничных листках и в Петербурге. В газетах явилось даже известие, что он умер, и кто-то обещал напечатать его некролог…
«Степан Трофимович мигом воскрес и сильно приосанился. Все высокомерие его взгляда на современников разом соскочило, и в нем загорелась мечта: примкнуть к движению и показать свои силы. Варвара Петровна тотчас же вновь и во все уверовала и ужасно засуетилась. Решено было ехать в Петербург без малейшего отлагательства, разузнать все на деле, вникнуть лично, и если возможно, войти в новую деятельность всецело и нераздельно. Между прочим она объявила, что готова основать свой журнал и посвятить ему отныне всю свою жизнь. Увидав, что дело дошло до этого, Степан Трофимович стал еще высокомернее…»
Несмотря, однако, на то, что Степана Трофимовича явно поманили, ему не только не удалось «примкнуть всецело к движению», но даже случилось быть скандально освистанным… История поездки его в Петербург и первого столкновения с «новыми людьми» так мастерски изображена г. Достоевским, что мы позволим привести здесь эту страницу собственными словами автора:
«…Варвара Петровна бросилась было всецело в „новые идеи“ и открыла у себя вечера. Она позвала литераторов, и к ней их тотчас же привели во множестве. Потом уже приходили и сами, без приглашения; один приводил другого. Никогда еще она не видывала таких литераторов. Они были тщеславны до невозможности, но совершенно открыто, как бы тем исполняя обязанность. Иные (хотя и далеко не все) являлись даже пьяные, но как бы сознавая в этом особенную, вчера только открытую красоту. Все они чем-то гордились до странности. На всех лицах было написано, что они сейчас только открыли какой-то чрезвычайно важный секрет. Они бранились, вменяя себе это в честь. Довольно трудно было узнать, что именно они написали; но тут были критики, романисты, драматурги, сатирики, обличители. Степан Трофимович проник даже в самый высший их круг, туда, откуда управляли движением. До управляющих было до невероятности высоко, но его они встретили радушно, хотя конечно никто из них ничего о нем не знал и не слыхивал кроме того, что он „представляет идею“. Он до того маневрировал около них, что и их раза два зазвал в салон Варвары Петровны, несмотря на все их олимпийство. Эти были очень серьезны и очень вежливы; держали себя хорошо; остальные, видимо, их боялись, но очевидно было, что им некогда. Явились и две-три прежние литературные знаменитости, случившиеся тогда в Петербурге и с которыми Варвара Петровна давно уже поддерживала самые изящные отношения. Но к удивлению ее, эти действительные и несомненные знаменитости были тише воды, ниже травы, а иные из них просто льнули ко всему этому новому сброду и позорно у него заискивали. Сначала Степану Трофимовичу повезло; за него ухватились и стали выставлять на публичных литературных собраниях. Когда он вышел первый раз на эстраду, в одном из публичных литературных чтений, в числе читавших, раздались неистовые рукоплескания, не умолкавшие минут пять. Его заставили подписаться под двумя или тремя коллективными протестами (против чего, он и сам не знал); он подписался. Варвару Петровну тоже заставили подписаться под каким-то „безобразным поступком“, и та подписалась. Впрочем, большинство этих новых людей хоть и посещали Варвару Петровну, но считали себя почему-то обязанными смотреть на нее с презрением и с нескрываемой насмешкой… Ясно было, что в этом сброде новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые все-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых; но неизвестно было, кто у кого в руках. Когда Варвара Петровна объявила свою мысль об издании журнала, то к ней хлынуло еще больше народу, но тотчас же посыпались в глаза обвинения, что она капиталистка и эксплуатирует труд. Бесцеремонность обвинений равнялась только их неожиданности…»
Журнал так и не состоялся: кончилось тем, что к Варваре Петровне явились в одно утро пятеро литераторов и объявили ей «со строгим видом» решение: чтоб она, основав журнал, тотчас же передала бы его им вместе с капиталами, на правах свободной ассоциации; сама же уезжала бы в деревню, захватив с собою и Степана Трофимовича, «который устарел». Из деликатности они соглашались признавать за нею права собственности и высылать ей шестую часть чистого барыша. «Всего трогательнее было то, замечает автор, что из этих пяти человек наверное четверо не имели при этом никакой стяжательной цели, а хлопотали только во имя „общего дела“».
С самим Степаном Трофимовичем тоже приключилась неудача: он не выдержал и стал заявлять о правах искусства. Для новых людей смешнее ничего не могло быть. «Его безжалостно освистали, так что он тут же, публично, не сойдя с эстрады, расплакался. Варвара Петровна привезла его домой едва живого». Она успокаивала его лавровишневыми каплями и повторяла: «вы еще полезны; вы еще явитесь: вас оценят… в другом месте». Но, увы! Степану Трофимовичу не удалось до конца жизни оправдать на себе предсказание Варвары Петровны…
Разрыв этот разом и окончательно определил отношения Степана Трофимовича к молодому поколению и ко всему так называемому «движению». Старый бес, сидевший в нем, не простил молодым бесам недостатка уважения и сохранил навсегда оскорбленное и уязвленное чувство. Но вместе с тем Степан Трофимович нисколько не сомневался в серьезности всего того дикого вздора, который начал на его глазах совершаться в воображаемом губернском городе, куда автор переносит рассказ вслед за петербургским fiasco. «Движение» осуждалось Степаном Трофимовичем единственно в силу того, что его самого при этом забыли; но, в сущности, он даже любуется им, так точно как любуется своим сыном, которому, однако ж, не может простить презрительного с ним обращения. В губернском городе этом, пока не основало в нем своего пребывания настоящее «подполье», кружок Степана Трофимовича занимался «самою невинною, милою, вполне русскою, веселенькою, либеральною болтовней». Из этой болтовни Степан Трофимович почерпал сознание, что «он исполняет высший долг пропаганды идей». Высокомерие все-таки, несмотря на петербургскую неудачу, заставляло его смотреть на себя как на некоторого рода центр, которого где-то опасаются; он даже не сомневался; что находится под секретным полицейским надзором. Но на самом деле он давно уже стоит на заднем плане, оттертый новыми деятелями, один за другим наехавшими в город и образовавшими в нем тот своеобразный кружок, которому всего более приличествует наименование подполья нашей интеллигенции.
Кружок этот и есть именно та среда, в которой развивается действие последнего романа г. Достоевского и который сам по себе составляет очень выпуклое пятно на воспроизведенной им картине. Среда эта еще очень мало разработана нашею литературой, и г. Достоевский едва ли не первый обособил ее в своих наблюдениях и изучил ее в той замкнутости, в том уединении среди волнующейся кругом нее обыденной, практической жизни, которая и составляет главную особенность этого общественного слоя. Задача была не легкая; только углубляясь вместе с автором в темные дебри этого подполья, чувствуешь, сколько трудностей приходилось преодолеть, чтобы с помощью художественного освещения заставить выступить из мрака самые темные извилины этого подпольного мира. Сначала странные, неестественные краски, которыми автор рисует избранную им среду, и криволинейность изображений, резкие тоны, напоминающие фантасмагорию, ставят читателя в некоторое недоумение. Кажется, будто автор ошибкою взял фальшивый тон и опасается за правильность раздвигающейся дальше и дальше перспективы. Но чем более подвигается движение романа, чем более накопляется на полотне самых удивительных красок и контуров, тем яснее начинаешь сознавать, что в этом случае сама жизнь, в ее подпольных извилинах, нарядилась в противоестественные краски и изломала свои нормальные пути и очертания. Мало-помалу убеждаешься, что тон действительно взят нестерпимо-фальшиво, но не в романе, а в самой жизни, выступившей из своих законных форм и безмерно удалившейся от своего обычного русла. Чувствуешь все безобразие этой жизни, все уродство этих недужных, нравственно искалеченных организаций, и сознаешь, что тем не менее автор изображает действительность, только действительность подпольную.
Главный характеристический признак этой среды, даже вся ее суть заключается, мы сказали, в ее совершенном удалении от нормальных путей жизни. В кружке, который описывает автор, собрались единицы из самых различных общественных слоев: тут и сын аристократки Варвары Петровны, и сынок Степана Трофимовича, и вышедший из крепостного звания Шатов, и инженер Кирилов, и отставной капитан Лебядкин, молоденький офицерик Эркель, и неизвестно из какого звания и состояния вышедшие Толкаченко, Шигалев, Виргинский. Но есть нечто общее, родовое, роднящее их всех до такой степени, что даже все они говорят почти одним и тем же языком, именно языком полуобразованного подполья, каким, кроме них, не говорит ни один живой человек. Эта, по-видимому, второстепенная черта составляет, однако, весьма существенный признак этой среды и очень последовательно выдержана автором. Только в стороне от действительной жизни, в полуобразованном захолустье, вне всяких общественных связей и соприкосновений, мог выработаться этот жаргон, отчасти носящий на себе отпечаток некоторого, впрочем весьма умеренного, обращения с книжною литературой и в то же время своею грамматическою неряшливостью как бы выражающий величавое презрение подпольной среды к выработанным формам… русского синтаксиса. Совершенная непривычка к так называемому обществу выразилась в этой черте так же рельефно, как и во всем складе подпольного миросозерцания и житья-бытья. Синтаксическая неряшливость подпольного языка чувствуется даже самими обитателями подполья, так что они беспрестанно поправляют друг друга в разговорах, подсказывают выражения, как бы не сознавая, что поправивший одно нелепое выражение за минуту пред тем сказал другое, столь же нелепое. Раз один из индивидуумов этого кружка даже спросил другого, Кириллова: не оттого ли он так странно выражается; что долго жил за границею? – И Кириллов, удивленный таким вопросом, отвечает в раздумье: «нет, не потому, что за границей. Я всегда так; я привык». А задавший такой вопрос и не подозревает, что сам он выражается ничуть не лучше Кириллова. Эта особенность подпольного языка, пестрящего все страницы романа и вредящая индивидуальности действующих лиц, нагоняет на читателя значительную скуку; но вместе с тем она много помогает тому почувствованью изображенной среды, которое непременно выносится из романа. Среда эта тем и отличается, что при неизбежном различии характеров удаление их от обычных норм жизни кладет на всех чрезвычайно яркий специфический отпечаток.
В неряшливости речи отпечатывается не только неряшливость мысли, но и весь практический склад жизни. В самом деле, трудно даже в низших подонках человеческого общества найти столько нравственного и житейского разгильдяйства сколько заключается его в жизни и нравах интеллигентного подполья. Эта дикая богема, растянувшая свой шатер на стогнах губернского города, чуждается самых элементарных законов общежития. Потасовки и пощечины сопровождают чуть не каждую встречу членов этого союза, причем получивший оплеуху и давший ее смотрят на эту маленькую случайность так точно, как если б один из них высморкался в носовой платок. Они говорят друг другу «мерзавец» и «подлец» так же спокойно, как другие говорят «здравствуйте»; но при этом щепетильны и обидчивы до последней степени и в душе страстно ненавидят и презирают друг друга. Они ведут самую свинскую жизнь, с каким-то сладострастием погружаясь в грязь, которой не только не замечают, но скорее даже находят в ней «новую, вчера лишь открытую красоту». Те из них, которые по своему происхождению принадлежат к более порядочному обществу, почти с наслаждением и словами, и поступками стараются доказать, что разорвали всякую связь с этим обществом, и ежеминутно как бы хвастают своим переселением из более верхних ярусов в подполье. И они правы, потому что в той зараженной среде, в которой и ради которой они действуют, нравственное и общественное падение человека приветствуется как величайшее торжество над историческими предрассудками. Эти недужные организации находят какое-то сладострастное наслаждение в попрании всего того, что выше заурядного, плоского уровня. Грязь выступает поразительнее, когда ее касаются белые руки. «Ставрогин, вы красавец!» – восклицает в «Бесах» молодой Верховенский в каком-то упоении: – «знаете ли, что вы красавец! В вас всего дороже то, что вы иногда про это не знаете. О, я вас изучил: я на вас часто сбоку, из-за утла гляжу! В вас даже есть простодушие и наивность, знаете ли вы это? Еще есть, есть! Вы, должно быть, страдаете и страдаете искренно, от того простодушия. Я люблю красоту. Я нигилист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят, ну, а я люблю идола! Вы мой идол! Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас все боятся, это хорошо. К вам никто не подойдет вас потрепать по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен!» Так устами одного из своих героев автор высказывает чрезвычайно тонко подмеченную черту – один из тех позорных инстинктов развращенной природы, который играет не последнюю роль в сцеплении человеческих единиц, населяющих подполье… В другом месте автор еще яснее заставляет звучать этот самый мотив в психологической гамме, которую он разыгрывает в своем романе. «Правда ли, что ы, – спрашивает Шатов у Ставрогина, – принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному секретному обществу? Правда ли, что маркиз де Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы заманивали и развращали детей?.. Правда ли, будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какою-нибудь сладострастною зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвою жизнью для человечества? Правда ли, что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения?» Шатов переходит затем к женитьбе Ставрогина на полоумной, хромой сестре капитана Лебядкина: «Знаете ли, почему вы тогда женились, так позорно и подло? Именно потому, что тут позор и бессмыслица доходили до гениальности! О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головою. Вы женились по страсти к мучительству, по страсти к угрызениям совести, по сладострастию нравственному. Тут был нервный надрыв… Вызов здравому смыслу был уже слишком прельстителен! Ставрогин и плюгавая, скудоумная, нищая хромоножка! Когда вы прикусили ухо губернатору, чувствовали вы сладострастие? Чувствовали? Праздный, шатающийся барчонок, чувствовали?»
Если бы порок в его обыкновенной форме был исключительной действующей силой в этих подпольных натурах, если бы грязь, в которой они копошатся с каким-то почти сладострастным упоением, была результатом нищенства, этот подпольный мир мало отличался бы от обыкновенных трущоб, в каких скопляются отребья человеческого общества. Но это особый продукт нравственного и умственного недуга, который и есть настоящий герой романа. Не Ставрогин, не Верховенский, не Шатов и не Кириллов выражают собою идею последнего произведения г. Достоевского. Настоящий герой его есть, как мы сказали, психическая гангрена, заразившая весь этот подпольный муравейник, все эти недужные организации. Еще в романе «Преступление и наказание» Раскольников убивает и грабит старуху не для того, чтобы на разграбленные деньги доставить себе известную сумму личных удовольствий, материального комфорта; он совершает преступление, потому что мечтает осуществить этим способом идею общего блага, потому что эта идея съела его, как выражается одно действующее лицо в новом романе того же автора. В этом смысле Раскольников есть истинный родоначальник Шатовых, Кирилловых, Шигалевых, всех этих малых бесов, свивших свое гнездо подле старого беса, Степана Трофимовича. Их всех заела идея, и про каждого из них можно сказать то самое, что сказано автором про Шатова: «Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея, и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах под свалившимся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем». Эти-то корчи под раздавившею их «идеей» и производят ту изумительную умственную и нравственную сатурналию, которая составляет внутреннее содержание романа. Все эти Ставрогины, Верховенские, Кирилловы, Шигалевы постоянно носятся с известною идеей, пребывают в непрерывном процессе умственной работы, в страстном напряжении мысли, приводящем одних к умопомешательству, других к отвратительному преступлению. Что-то, когда-то, очень давно запало в их мозг и беспрерывно действует там и держит их в состоянии умственной придавленности. У Кириллова эта напряженная, изнурительная возня с идеей приводит к нелепейшей философской системе; у Шигалева она создает социально-политическую теорию, требующую для своего осуществления миллион голов: Ставрогина и Верховенского она бросает в сладострастие разврата, низводит их на ту последнюю ступень скотства, когда в человеке пробуждается совершенно животная жажда крови; Шатова она совершенно измочаливает, превращает в глубоко несчастное существо, одичавшее и человеконенавидящее и вместе способное растаять от малейшей ласки. Пред читателем проходит ряд лиц, в одинаковой степени сделавшихся жертвою непосильной умственной задачи, фанатиков идеи, кривыми путями внедрившейся в слабосильный мозг. Читатель как бы присутствует в клинике нравственных и душевных болезней и читает над изголовьями пациентов их скорбные листы.
Самые беспокойные из этих больных – конечно главные действующие лица романа, Ставрогин и Петр Степанович Верховенский. Их болезнь постоянно грозит принять острый характер, и по особой подвижности и страстности своей натуры они наиболее способны переходить от мысли и слова к действию. Ставрогин даже вообще мало говорит: у него болезнь сидит более в крови, чем в мозгу, и, вместо того чтобы создавать системы a la Шигалев или Кириллов, он предпочитает удивлять прямо своими поступками. Из вышеприведенных выдержек известно уже, в чем автор видит сущность его натуры. Это зараженная кровь в той же степени, как и зараженный мозг. Еще при самом вступлении в свет он вдруг как-то дико закутил. «Не то чтоб он играл или очень пил; рассказывали только о какой-то дикой разнузданности, о задавленных рысаками людях, о зверском поступке с одною дамой хорошего общества, с которою он был в связи, а потом оскорбил ее публично. Что-то даже слишком уж откровенно-грязное было в этом деле». Разжалованный в солдаты и очень быстро вновь выслужившийся, он опять появляется в Петербурге, но уже в совершенно другом обществе. «Доискались, что он живет в какой-то странной компании, связался с каким-то отребьем петербургского населения, с какими-то бессапожными чиновниками, отставными военными, благородно просящими милостыню, пьяницами, посещает грязные их семейства, дни и ночи проводит в темных трущобах и Бог знает в каких закоулках, опустился, оборвался, и что, стало быть, это ему нравится». Вот в этом-то, стало быть, ему нравится и заключается единственная причина и единственное объяснение всех его поступков, заставивших Петра Степановича предполагать в нем «необыкновенную способность к преступлению». Отсутствие в мозгу всяких сдерживающих рефлексов, органическая порча крови, болезненная развращенность, которая «в обоих полюсах находит совпадение красоты, одинаковость наслаждения»; собственно политической закваски в этой натуре нет никакой, а он остается очень равнодушен к делу, в которое всею силою тянет его молодой Верховенский. Когда последний объясняет ему план политической организации и программу тайного общества, Ставрогин делает замечание, которое заставляет Верховенского воскликнуть: «О, будьте поглупее, Ставрогин, будьте поглупее!» Действительно, Ставрогин умнее подпольных деятелей, хотя он наполовину помешанный человек; его преимущество в том, что его заразила не политическая и не социальная идея. В политике он настолько трезв, что, когда Петр Степанович развивает пред ним изумительный план действия революционного общества, он серьезно задает себе вопрос: «если этот человек пьян, то где же он успел напиться?» – «Охоты нет, так я и знал!» – восклицает с унынием Верховенский, когда тот решительно отказывается от предложенной ему роли Ивана-царевича.
Петру Степановичу решительно непонятно, как это может не быть охоты: «Врете вы, дрянной, блудный, изломанный барчонок, не верю, аппетит у вас волчий!» – восклицает он злобно вслед уходящему Ставрогину. Его искренно поражает, как можно с этакими задатками, с этою разнузданностью страстей, с этою необычайною «наклонностью к преступлению» – не обратиться к подпольной политической деятельности. Он сам с собою давно уже решил утилизовать изумительную натуру Ставрогина для своей политической идеи, как порешил это относительно Кириллова. В этой цели у него все сошлось; он сам откровенно определяет себя как политического мошенника. Природа снабдила его таким излишеством юркости и подвижности, что он не может шагу ступить без того, чтобы чего-нибудь не напутать, чем-нибудь не сынтриговать. Он агитатор по натуре, даже не из честолюбия, так как главную роль охотно уступает Ставрогину. Занятый организацией тайного общества, которое им же и сочинено, он находит время страстно путаться во всех городских сплетнях, подготовлять скандалы, ссорить и ставить в ложное положение самых близких людей – без всякой даже дальнейшей цели, просто по зливости своего характера и совершенной своей беспринципности. Он даже поминутно сам себе затрудняет достижение своей главнейшей агитаторской цели, устраивая разные пакости Ставрогину, тому самому Ставрогину, на эксплуатации которого он основал весь успех своей революционной миссии. «Аппетит у вас волчий», замечает он про Ставрогина и недоумевает, каким образом подобный аппетит может быть устремлен не в политическую сторону?
Чем далее роман забирается в извилины подпольного мира, чем далее действующие лица его отстоят, по связям родства и воспитания, от так называемого «общества», тем заметнее нравственный облик их принимает совершенно специфический оттенок интеллигентного подполья. В Ставрогине, несмотря на его полупомешательство, еще виден избалованный барчонок; молодой Верховенский воплощает в себе, так сказать, международный тип агитатора и революционера, довольно искусно, однако ж, приноровившийся к условиям русской жизни и недурно понимающий слабые стороны нашего общества, беспринципность и распущенность которого он спешит утилизировать для политической цели. Он не только не чуждается губернского общества, но постоянно находится среди него, как самый юркий и деятельный член, и с замечательною наглостью старается играть в нем роль. Он овладевает доверием и симпатиями губернаторши, Юлии Михайловны фон Лембке, играет как пешкой ее скудоумным мужем, припутывается ко всем городским интересам, сплетням и скандалам. Его влияние на губернское общество скоро начинает сказываться ощутительным образом. «Странное, – рассказывает автор, – было тогда настроение умов. Особенно в дамском обществе обозначилось какое-то легкомыслие, и нельзя сказать чтобы мало-помалу. Как бы по ветру было пущено несколько чрезвычайно развязных понятий. Наступило что-то развеселое, легкое, не скажу чтобы всегда приятное. В моде был некоторый беспорядок умов. Потом, когда все кончилось, обвиняли Юлию Михайловну, ее круг и влияние; но вряд ли все произошло от одной только Юлии Михайловны. Напротив, очень многие сначала взапуски хвалили новую губернаторшу за то, что умеет соединить общество и что стало вдруг веселее. Произошло даже несколько скандальных случаев, в которых вовсе уж была невиновата Юлия Михайловна; но все тогда только хохотали и тешились, а останавливать было некому». Невидимая рука Петра Степановича ясно чувствуется в этом «беспорядке умов» и «легкомыслии дамского общества»… С течением времени начавшееся «легкомысленное» движение усиливается, так что целое губернское общество, незримо направляемое и агитируемое молодым Верховенским, совершенно изменяет свой вид, и серьезные элементы его меняются местами с каким-то наплывшим отовсюду сбродом.
«Во всякое переходное время, – рассказывает об этом обстоятельстве автор, – подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки „передовых“, которые действуют с определенною целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов, что, впрочем, тоже случается. У нас вот говорят теперь, когда уже все прошло, что Петром Степановичем управляла Интернационалка, а Петр Степанович Юлией Михайловной, а та уже регулировала по команде всякую сволочь. Солиднейшие из наших умов дивятся теперь на себя: как это они тогда вдруг оплошали? В чем состояло наше смутное время и от чего к чему был у нас переход – я не знаю, да и никто, я думаю, не знает – разве вот некоторые посторонние гости. А между тем дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать все священное, тогда как прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать, а иные так позорнейшим образом подхихикивать. Какие-то Лямшины, Телятниковы, помещики Тентетниковы, доморощенные сопляки Радищевы, скорбно, но надменно улыбающиеся Жидишки, хохотуны заезжие путешественники, поэты с направлением из столицы, поэты взамен направления и таланта в поддевках и смазных сапогах, майоры и полковники, смеющиеся над бессмысленностью своего звания и за лишний рубль готовые тотчас же снять свою шпагу и улизнуть в писаря на железную дорогу; генералы, перебежавшие в адвокаты; развитые посредники, развивающиеся купчики, бесчисленные семинаристы, женщины изображающие собою женский вопрос, – все это вдруг у нас взяло полный верх, и над кем же? Над клубом, над почтенными сановниками, над генералами на деревянных ногах, над строжайшим и неприступейшим нашим дамским обществом»…
На Петре Степановиче, так незримо и искусно взбаламутившем губернское общество, обрываются звенья, соединяющие подпольный мир с лежащими поверх него общественными слоями. Далее идет уже совершенная подпольная глушь и дичь, которая вся ушла в свое уединенное, болезненное прозябание. Выступают на сцену личности ни одним звеном не соединенные с общественным организмом и даже едва ли когда-либо встречавшиеся лицом к лицу с тем, что называется обществом в обширном смысле – длинноухий социалист Шигалев, маньяк Кириллов, сын крепостного Шатов, некто Толкаченко – «странная личность, человек уже лет сорока и славившийся огромным изучением народа, преимущественно мошенников и разбойников, ходивший нарочно по кабакам (впрочем, не для одного изучения народного) и щеголявший между нами дурным платьем, смазными сапогами, прищуренно-хитрым видом и народными фразами с завитком». Психическая болезнь, поражающая обитателей подполья, входит во все свои права, недужное беспутство мысли овладевает своими жертвами и разыгрывается мало-помалу одна из самых диких сатурналий, какие когда-либо видел образованный мир. Жертвы этого печального недуга заслуживают, чтобы мы внимательно заглянули в их внутренний мир и увидели болезнь в ее остром состоянии.
Остановимся прежде всего на Шатове, которому в романе выпала самая страдательная роль и индивидуальность которого разработана автором с особенным мастерством.
Шатов до известной степени стоит в стороне от пресловутой «кучки», сгруппированной Петром Степановичем в губернском городе. По своим убеждениям он даже в полном разрезе с подпольными революционерами. В ранней молодости и он стоял в их рядах, и даже эмигрировал без всякой основательной причины. За границей женился он на бойкой русской барышне, из гувернанток; «прожили они вдвоем недели с три, и потом расстались как вольные и ничем не связанные люди, тоже и по бедности». Жена вскоре затем сошлась со Ставрогиным, а муж уехал в Америку, где бедствовал вместе с Кирилловым года три. Там он резко изменил свои убеждения, из атеиста и революционера сделавшись человеком верующим. Впрочем, жизнь до такой степени изломала его, что он потерял характер и стал не способен ни к какой действующей роли. Камень придавил его, по выражению автора, и вся последующая жизнь его должна проходить в корчах под этим камнем. Он застрял на распутии жизни в мучительной борьбе здравомыслия с бесхарактерностью и безволием, отличающим русских людей этого типа. Разорвав с эмиграции и революции, он, однако, не мог пристать ни к какому делу, ни к какой установившейся форме жизни и остался в подполье, измученный, страдающий, одинокий, сознающий всю мерзость среды и не находящий из неё выхода. Обстоятельства толкнули его в кучку; но внутренне он давно разорвал с нею, и, однако, плетется подле нее, единственно потому, что вне ее нет ничего, к чему бы он мог приткнуться. Открытая, широкая жизнь идет мимо него, как нечто совершенно чуждое: вышедший из подполья, одичалый, не способный ни к какому практическому делу, он видит себя замкнутым в заколдованном круге, среди трагической необходимости жить с людьми, которых искренно, убежденно презирает. «Я слышал, – говорит он своей жене, – что ты будто бы презирала меня за перемену убеждений. Кого ж я бросил? Врагов живой жизни, устарелых либералишек, боящихся собственной независимости; лакеев мысли, врагов личности и свободы, дряхлых проповедников мертвечины и тухлятины! Что у них: старчество, золотая средина, самая мещанская, подлая бездарность, завистливое равенство, равенство без собственного достоинства, равенство, как сознает его лакей или как сознавал француз 93 года… А главное, везде мерзавцы, мерзавцы и мерзавцы!» В этой неотвратимости – жить в среде, так искренно презираемой, – заключается весь трагизм людей, вышедших из подполья и внутренне с ним разорвавших.
И вот в ту минуту, когда заколдованный круг готов совсем замкнуться вокруг несчастного Шатова, когда неестественное положение его между «кучкой» и надпольною жизнью должно окончательно изломать и придавить его, судьба неожиданно указывает ему выход. Жена его, брошенная за границей Ставрогиным, возвращается к нему, чтобы под его нищенским кровом дать жизнь чужому ребенку. А Шатов до того измучен, до того придавлен, что в этом столкновении видит спасительный выход к возрождению. Мотив этот с такою теплотой, с таким художественным мастерством разработан автором, что мы позволим себе напомнить здесь эту лучшую во всем романе страницу:
«…Он уселся у окна сзади дивана, так что ей никак нельзя было его видеть. Но не прошло и минуты, она подозвала его и брезгливо попросила поправить подушку. Он стал оправлять. Она сердито смотрела в стену.
– Не так, ох, не так… Что за руки!
Шатов поправил еще.
– Нагнитесь ко мне, – вдруг дико проговорила она, как можно стараясь не глядеть на него.
Он вздрогнул, но нагнулся.
– Еще… не так… ближе, – и вдруг левая рука ее стремительно обхватила его шею, и на лбу своем он почувствовал крепкий, влажный ее поцелуй.
– Marie!
Губы ее дрожали, она крепилась, но вдруг приподнялась и, засверкав глазами, проговорила: